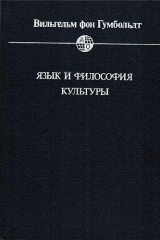
Текст книги "Язык и философия культуры"
Автор книги: Вильгельм фон Гумбольдт
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
1. Закон наивысшей чувственности. Таков всеобщий закон искусства вообще, искусства изображающего в частности. Однако от эпического поэта исполнения этого закона требуют с двойным основанием, поскольку он имеет дело исключительно с внешними, то есть с чисто чувственными, вещами и обязан приводить душу в соответствующее, направленное на них настроение. Поэтому он должен не просто представлять фигуры и движение, но и то и другое в значительных массах, должен выбирать такой колорит, который непосредственно возвещал бы ясность и свет, принимать такой тон, который дружески внушал бы нам необходимость выйти из своих пределов и возвыситься до фантазии с ее высоким и широким полетом, пробуждать мысли, которые позволили бы нам глубоко проникать своим взглядом в значительные отношения человечества и мира, выражать такие чувства, которые гармонически связывали бы нас с природой, и оживлять свой материал богатством и чувственностью изложения, слога, ритма.
LXXXIII.Закон непрерывной последовательности
2. Закон непрерывной последовательности. Таковой заключается лишь в двояком применении сказанного выше к понятию действия и к понятию фигуры, контуры которой можно рассматривать как движение. В последнем значении этот закон эпической поэзии является непреложным как для живописца, так и для скульптора; в первом же значении он не принадлежит никакому иному искусству. Правда, музыка и, еще более чувственно, танец являют такое постоянство движения, особенно в танце проявляется самая чарующая красота. Танец – это непрестанный поток, в котором фигура рождает фигуру, движение – движение, картина – картину. Однако и в музыке и в танце так бывает не всегда; их непрерыв* ная последовательность состоит, собственно, в том, что любая перемена, в том числе и прерывистая, и всякая внезапная смена сводится лишь к одному средоточию. Потому что и музыка, и танец выражают чувства, которые, хотя и проистекают из одного и того же настроения души, тем не менее сами по себе, точно так же как и в природе, отнюдь не составляют столь же непрерывного ряда. Итак, довольно и того, что искусство соединяет их в этом средоточии.
Долг эпического поэта – наблюдать совершенную непрерывность – как в понятии действия, так и в понятии повествования. Для трагического поэта, непосредственно изображающего действие, этот закон приобретает иное значение. Он рисует действительную жизнь со всеми пробелами, перерывами, неожиданностями, какие наблюдаем мы в любом событии, свидетелями которого являемся, – однако эпический поэт, как и историограф, непременно должен заполнить любые пробелы действия и переработать его так, чтобы все целое связалось в единое повествование; действие должно быть непрерывным; не должно казаться, что такая-то частность упомянута преднамеренно; независимо от цели, для какой она потребна, она должна уже как таковая необходимо вытекать из предыдущего; взаимосвязь плана целого должна быть столь прочной и глубокой, чтобы и читатель не мог развивать его иначе; план должен так согласовываться с физическими и моральными законами природы, чтобы событие не могло на деле продолжаться как-либо иначе; лишь самый первичный замысел, на котором основывается все последующее, зависит от выбора поэта, все же остальное определяется последовательным ходом развития.
Такова чувственная объективная непрерывность действия и плана. Однако чтобы произвести таковую субъективно, в душе читателя, – а это как раз и требуется от эпического поэта, – он должен совершить нечто большее, а именно: повсюду, где имеется многообразие определений, применяемых к характерам, нравам, чувствам, он должен отделять их бесконечно-малыми постепенными переходами, должен избегать резкого контраста и изображать лишь богатство и весь объем человеческого рода, к которому все они принадлежат. Ибо подлинная непрерывность ряда звеньев состоит в том, что благодаря различию отдельного лишь яснее выступает единство, соединяющее все в одну цепь.
LXXXIV.Закон единства
3. Закон единства. Всеобщая природа пластического искусства – а эпический поэт должен утвердить ее наивысший образец – и особенная цель эпического поэта требуют от него в большей мере, чем от какого-либо иного поэта, полнейшего единства в разработке материала. Однако если исполнение такого требования – непременный долг эпического поэта, то единство это не ведет все отдельные части прямиком к одной цели, но лишь связует их в единое целое. Первое – это, скорее, исключительная принадлежность трагедии.
А именно, чувством, возбуждение которого является главной целью трагического поэта, ведает лишь один-единственный предмет, к этому поистине единому предмету поэт и применяет более пластичное, высшее понятие художественного целого. Напротив, созерцательное чувство, которое разрабатывается в эпопее поэтически, воспринимает многое единовременно и сочетает все это лишь в той мере, в какой все бывает увидено лишь с одной точки зрения. Итак, трагический поэт стремится к единству, действительно наличному в опыте, на деле же он стремится к одной точке; от этого движение его становится порывистым и резким, а план не столько расходится в ширину, сколько сужается, потому что он должен отбросить все то, что отвлекло бы его в сторону. Единство у эпического поэта заключается не столько в самих вещах, сколько в его намерении, поэтому он располагает большей и до известной степени неопределенной свободой включать в свой план различный материал, – все в действительности зависит по большей части от того (в этом смысле возвещение – весьма существенная часть целого), что обещает он поначалу, сколько материала намерен включить.
Завершение поэмы – отнюдь не непременно действительный конец, к которому нельзя было бы ничего присоединить; довольно того, чтобы все отдельные части удовлетворительным образом складывались в целое, и весьма часто лишь от самого поэта зависит, не превратит ли он конец в простую остановку в пути, если ему заблагорассудится продолжать развивать нить повествования.
Однако он не может произвольно распространять свой план, делая его неопределенным. Граница и здесь четко определена, а именно: поэт не может заходить туда, где его материал перестанет быть одним действием, но видоизменится и станет действительным событием, то есть такой совокупностью происшествий, в которой уже не будет зримо действие в его проявлениях, по крайней мере одно-единственное действие.
LXXXV.Закон равновесия
Три закона, которые рассматривали мы до сих пор, проистекают из понятия изображения действия; в целом они в той же мере присущи и трагедии и лишь благодаря своему эпическому применению обретают дополнительные определения. Другие законы в большей степени проистекают из специфической природы эпопеи, которая занимает созерцательное чувство нашей души, причем в наивысшей его всеобщности. В этом отношении первым выступает
4. Закон равновесия. От равновесия, в состоянии которого эпический поэт поддерживает отдельные элементы целостного воздействия, зависит покой, какой должен поселить он в душе читателя. Не будь равновесия, пострадали бы эпическая чувственность, непрерывность и единство. Эпический поэт настраивает нас в унисон с природой, а характером такой природы можно считать то, что она неутомимо бдит над бытием целого, будучи враждебной исключительным притязаниям чего бы то ни было отдельного и даже равнодушной к необходимой гибели отдельных существ. Стало быть, и эпический поэт может направлять свое внимание лишь на это и на весомость отдельных частей – вот единственное мерило, согласно которому он отводит этим частям большее или меньшее пространство.
Но прежде всего он обязан заботиться о том, чтобы ни одно чувство не овладевало нашей душой безраздельно или с заметным преобладанием над другими. Поэтому, например, подлинно трагический материал представлял бы большие трудности для своей подлинно эпической разработки, потому что в трагедии над нами господствуют чувства страха и сострадания, наряду с которыми затруднительно проявиться каким-либо иным. Такой материал почти никогда и не разрабатывался эпическими поэтами; трагизм „Мессии", по крайней мере в конце, разрешается в победу и торжество.
И все же такой материал нельзя категорически изгонять из пределов эпопеи. Для любого поэтического вида все дело, собственно, только в способе обработки материала, не в самом объекте. Чтобы привести наиболее показательный пример, самую совершенную трагедию можно было бы исполнить на материале события, окончившегося весьма счастливо и успешно. Ведь самые высшие, бурные движения радости, изумления и восхищения точно так же властны над душой и в целом развиваются столь же бурно и ускоренно, как и высшие движения боли и скорби; если бы какой-либо поэт был столь счастлив найти материал, в котором венчающий все успех целого возвысил бы некого смертного до роли почти божественного благодетеля своего народа, а этот удостаивающийся почестей человек, наделенный самой могучей энергией и самым благородным энтузиазмом, соединял бы с ними самое чистое и непритворное чувство того, что он недостоин столь высокого предназначения, и если бы окончательная перипетия судьбы наступила внезапно и стремительно, то этот материал мог бы в своем развитии вызвать в нас те же самые чувства беспокойно-напряженного ожидания, мучительной неясности и самого высокого и бурного движения чувств, которые столь мощно овладевают нашей душой в трагическом материале. А если бы нашелся поэт, достаточно умелый для того, чтобы разработать в больших масштабах то чувство, в котором теснее всего связаны неопределенность, муки и восторг – чувство любви с ее сомнениями и счастьем, если бы он не умалил свой предмет (его можно сохранить лишь в его возвышенности), – то нам на мгновение показалось бы, что мы отрезаны от всей остальной природы, что мы ограничены сферой своей самостоятельности, как это и бывает в настоящей трагедии. Ибо чувства незаслуженного, сверх меры великого счастья точно так же подавляют душу, как и величие самой боли.
Разработка подобных же сюжетов в духе чувственно-великого (не морально-возвышенного), разработка скорее фантастическая, чем прагматическая, дает – заметим это – самое высшее и совершенное понятие серьезной, торжественной оперы.
LXXXVI.Закон целостности
5. Закон целостности. Никакой эстетический закон не определяет за поэта, какой объект ему выбирать, и точно так же никакой закон не предписывает ему, сколько объектов должно быть в его плане. Поэт исполнит свой долг, если будет удерживать душу читателя в состоянии свободы, если она не будет привязана ни к какому отдельному предмету, ни даже к отдельному классу предметов. Такая свобода – это необходимое следствие равновесия различных чувств, затронутых поэтом; она же – и необходимое условие чувственности и живости нашего взгляда.
У искусства прекрасное преимущество: оно снимает с нас внешние и внутренние узы, которые так часто сковывают нас в действительной жизни; есть и еще более благородное преимущество: оно внушает нам столь же строгую, но свободную закономерность. Эпический поэт может усваивать себе такое преимущество; для этого ему и служит целостность, всеобщность обзора, до которого он возвышается. Чем выше поднимаемся мы над своим предметом, дабы обозреть его целиком, тем менее зависим от его господства, тем глубже проникает в нас чувство взаимосвязанности и закономерности целого; ни в какой иной связи наше воображение не может столь уверенно полагаться на то, что останемся идеальным, то есть закономерным в своей свободе, – кроме связи с созерцающим чувством и организующим целое рассудком.
Впрочем, эпопея не будет страдать от недостатка объектов; нет более плодотворного метода, как метод высшей объективности; чтобы явить одну фигуру, нужны другие, которые стояли бы рядом с нею; чтобы описать движение, нужно предшествующее и последующее. Величайшее изобилие можно найти лишь в героическом эпосе.
LXXXVII.Закон прагматической истины
Поэтическую истину можно определить через совпадение с природой как объектом воображения – в противоположность исторической истине, совпадающей с природой как объектом наблюдения. В историческом смысле истинно то, что не вступает в противоречие с действительностью, в поэтическом смысле – то, что не вступает в противоречие с законами воображения Воображение же либо предается произволу игры, художественно исполняемому, либо следует внутренним законам человеческой души или внешним законам природы. В зависимости от выбора одного из этих трех направлений поэтическая истина становится либо просто истиной фантазии, либо истиной идеальной или прагматической.
Первой из всех поэтических видов может воспользоваться лишь сказка, в которой фантазия, собственно говоря, забавляется своей силой и предельной легкостью материала; при столь произвольной игре можно разве что спрашивать о том, в состоянии ли воображение привести отдельные черточки в непрерывный ряд, в единство образа. Идеальная истина – это по преимуществу владение лирического поэта и трагедии. Она полновесно вбирает в себя все мыслимое в душе согласно самым общим свойствам души и всеобщим законам ее переменчивости, – как бы, впрочем, далеко ни удалялось это мыслимое от природы, сколь бы редко ни обреталось в опыте. Прагматическая же истина более строга и отвергает все, что выходит за пределы обычного течения природы, она твердо придерживается законов последней, как физических, так и моральных, – в той мере, в какой эти последние согласуются с первыми. Она прямо требует естественности и если даже не вполне исключает все чрезвычайное и необычное, то все таковое все же должно совершенно согласовываться с природой в целом, с родовым понятием человечества, даже и поднимаясь над всем этим; идеальная же не отвергает даже и того, что действительно противоречит последнему
1 Поскольку истина есть вообще познаваемое рассудком совпадение понятия или суждения с предметом, то может быть столько видов истины, сколько есть предметов. По преимуществу же мы различаем четыре резко расходящихся между собой в зависимости от интеллектуального обращения с ними вида предметов: 1) действительные и затем идеальные, причем либо 2) продукты чистой абстракции, метафизические или математические, либо 3) продукты воображения, то есть поэтические, и, наконец, 4) такие идеальные, которые приводятся в связь с реальными, – эмпирико-философскиг. Отсюда происходят четыре вида истьны: 1 и 2– истина историческая и поэтическая; 3 – спекулятивная (метафизическая или математическая); 4 – философская (физическая или моральная), которая покоится на соответствии не с каким-либо особенным опытом, а с опытом как целым.
понятию, и встречается в индивидах лишь в виде исключения; простая истина фантазии, превращаясь в прямую противоположность того, что обыкновенно именуют истиной, выходит даже и за эти рамки. Естественно, что в применении к отдельным ситуациям границы истины идеальной и истины прагматической будут совершенно сливаться, – однако различия между ними нельзя будет все же не заметить: достаточно только вспомнить о том, что лишь идеальной истиной наделено все то, на что наталкивается душа, когда, обособляясь от жизни в ее внешней действительности, она углубляется в свои идеи и ощущения, подставляя на место внешней суетливости и живой бодрости внутреннюю деятельность и чисто сентиментальное наслаждение; тогда как в такой душе, которая всегда льнет к природе, которая живет и радуется и наслаждается исключительно в ней, не может происходить ничего такого, что не обладало бы высшей и сразу бросающейся в глаза прагматической истиной.
Именно такова область эпического поэта. Его искусство проистекает из жизненной полноты и ведет к ней. Поэтому он избегает как бы чрезмерной утонченности мыслей и чувств, избегает труднопостижимых характеров и ощущений; все родственное таковым он воспринимает и как ненатуральное, и как мелкое. Ему нужны огромные и освещенные светом массы, а предметы такого рода не выносят солнечного света, какой привык он разливать по своему предмету. Ему хочется живописать людей необычных, но только таких, которые необычны по степени своей силы и чистоте существа, но не редкостности своей внутренней организации; в целом эти люди должны находиться в совершеннейшей гармонии со всем, что только ни есть человечного и естественного; все, что представляет поэт, все это должен без труда понимать и усваивать здравый и прямой человеческий смысл. Только такое и может быть представлено чисто объективно, а он никогда не отходит от этой объективности.
Тем не менее и этот поэт способен переносить в свою поэзию такой предмет, который граничит с чисто идеальным, переносить его словно из совсем чужого мира; в первой части нашего трактата мы видели, что своеобразие новой поэзии, и в особенности нашего поэта, и основывается на такой способности. Поэт должен только не позабыть настроить душу читателя вполне прагматически, разрешив тем самым диссонанс, который непременно произведет в этом роде поэзии подобный предмет. И если он преуспеет в этом, то умножит привлекательность своего произведения, поскольку расширит его границы, не причинив вреда его характеру. Ибо, если главная заповедь поэту состоит в том, чтобы он поддерживал в наивысшем совершенстве специфически присущую каждому поэтическому виду чистоту настроения, то не менее важно и иное правило – насколько возможно, умножать и варьировать предметы, какие всякий поэтический вид усваивает себе по своей природе.
Героическая эпопея не так, как противоположный ей вид эпопей, рискует нарушить такой закон. Однако воздействие ее будет тем сильнее, чем тщательнее она будет соблюдать его, чем лучше сумеет соединить высоту и тонкость характеров с естественной простотой, чем сильнее выявит оригинальную индивидуальность такого поэтического вида, который даже и в индивидах стремится явить только род.
Ибо человек прекраснее всего тогда, когда созданное, сформированное исключительно его собственными силами усваивает для себя так, как если бы это было свойством всего человечества *.
XCV.Отношение культуры и культурной эпохи
к эпосу
Нет ничего более противного эпическому духу, как просто культура**—это не что-то самостоятельное, а просто неопределенная при. одность ко всему возможному, не сила, а простое обладание, не живое, а мертвая сокровищница, которой, чтобы был от нее прок, надо еще уметь воспользоваться. Кроме того, культура всегда направлена на то, чтобы умерщвлять самостоятельность, силу и жизнь, где только ни встретит их. Итак, с того самого момента, когда человек устремляется к культуре, он должен начать и противоборство с ней, с того момента, когда он вступит в ее область, для него начинается борьба, которая не кончится до тех пор, пока человек не согласует культуру с природой. Ибо не будь тут возможности прекращения спора, нелепо было бы и начинать его. Итак, изначальная живая сила должна обогатиться культурой, ее же неопределенной пригодности ко всему она должна задать определенную цель и так постепенно преобразовывать мертвое в живое. Только так культурный (то есть попросту „обработанный") человек становится из человека просто естественного человеком воспитанным.
Дело в том, что культура – это всегда произведение обособленно действующего рассудка. Однако и без развития последнего окружающие нас вещи оказывают свое влияние на наши ощущения, точно так же пробуждая в нас склонности и страсти. На их основе и складываются наши взгляды. Итак, возможен характер, на формирование которого рассудок сам по себе может не оказать никакого заметного влияния, – просто чистая природа воздействовала на чистого человека. Тогда чувства и ощущения наши – точно такие же, что и впоследствии, но только неясно и непонятно в деталях, что же воздействует на нас, какое отраженное действие исходит в свою очередь от него и как все это происходит. Таков период только природы.
Наш рассудок развивается, мы начинаем глубже усматривать суть вещей, отчетливее отделяем себя от объекта и объекты друг от друга. Мы лучше понимаем, что с нами происходит, но оставляем меньше свободы для своих чувств и ощущений и, пока наша культура неполна и одностороння, искажаем и извращаем свое здоровое и прямое чувство. Таков период только культуры.
Наше усмотрение сути вещей ширится, мы, лучше зная самих себя, возвращаем себе естественную свободу, и от заблуждений, на которые соблазнила нас односторонняя культура, вновь выходим на след природы; мы вновь становимся тем, чем и были, но только теперь нам понятны и ясны и мы сами, понятен и ясен мир, и это лучшее и полное разумение сообщило и нашим чувствам, и нашим склонностям совсем иной облик, – они утончены, не переменившись, однако, в своем существе. Таков период завершенного воспитания.
В этот последний период эпический поэт может, правда, вновь подойти к образу человека, соединяя двойное преимущество – природы и культуры. В известной степени он так и поступает. Так, например, наш поэт придал Доротее и судье весьма высокую культуру, приобретенную ими, однако, в результате опыта и событий, а не знанием и изучением. Но не говоря уж о том, что от примеси более многообразной культуры мало что выигрывает поэтическое воздействие произведения, поэту нечто иное мешает вполне воспользоваться названным преимуществом.
Преобладание культуры придает всему нашему образу жизни как бы неестественный, искусственный облик, и тем же характером отличаются сами события, происходящие в наши дни. Коль скоро культура возбуждает множество новых потребностей, прежде всего стремясь достичь наибольшего числа целей с наименьшей затратой средств, то между силой человека и всем, производимым им, встает множество орудий, промежуточных звеньев, с помощью которых один-единственный человек способен привести в движение большую массу с меньшей затратой сил. Итак, человек реже выступает как единственная причина события, и еще реже как причина непосредственная. Он либо действует не один, либо не свободно, и по крайней мере – не сам своими руками, не прямо. А взаимодействие людей и событий стало столь многообразным и всесильным, что мы гораздо чаще наблюдаем случайное – то есть совпадение мелких обстоятельств, не приметных каждое само по себе, – чем решения отдельных людей; исполнение даже самых необычных начинаний зависит чаще от умного расчета всевозможных обстоятельств и умело выработанного плана, чем от силы и мужества отдельного характера. Человек сам по себе бессилен перед лицом другого человека и тем более – толпы; он должен непременно воздействовать массой, должен превращаться в машину. И если какая-то энергия еще сохраняет свою мощь, так это энергия страстей, сами же страсти теряют немало в своей природной колоссальности из-за мелочного тщеславия и холодного эгоизма. Вследствие этого грандиозный характер стал редкостью, или, по крайней мере, реже возникает настроение, при котором его находят в других или дерзко полагают в самих себе.
XCVI.Возможность героической эпопеи в наше время
При такой непоэтической ситуации эпохи у поэта нет дела более неотложного, как уносить нас прочь от этого мира в иной, ближе расположенный к более счастливой древности мир. Поэтому он должен черпать свой материал в той части общества, где естественная природа еще преобладает над культурой, и вообще искать его в частной, а не в общественной жизни; вот почему героическая эпопея становится в наши дни задачей практически неразрешимой.
Античный материал эпическому поэту едва ли можно выбирать так, как трагическому: последний описывает лишь отдельное происшествие, отдельную страсть, а поскольку таковые во все эпохи остаются одинаково человеческими, то он всегда может придать им цвета истины, и благодая этому трагический поэт обретает сюжет, уже и до него сложившийся в умах его зрителей. Тому же поэту, который должен описать целую жизнь героев вместе с тем, что их окружает, который не может по собственному желанию опускать одни, добавлять другие черты своим образам, на той почве античности всегда будет недоставать естественности и прагматической истины. Но где же найти ему в новейшей истории настоящее эпическое действие, когда бы человек действовал сам по себе, непосредственно, и в то же время выступал как герой? Однако, если и предположить, что он его нашел, то остается иное, практически непреодолимое препятствие. Та самая культура, о которой мы говорили выше, внесла в наши действия еще одну особенность: совершенно независимо от естественной моральной оценки поступков они подчинены еще чисто условной, искусственной мере благопристойности и достоинства. Так, любое физическое занятие, принадлежащее повседневной жизни, считается по таким понятиям неприличным и недостойным культурного человека, – все это он должен предоставлять другим, к которым – и внешне, и внутренне – судьба не была столь благосклонна. Как же теперь эпическому поэту соединить подобное требование с законом высшей чувственности, с законом непрерывной последовательности? Показать ли героя куклой, с которой возятся другие, между тем как он проявляет свою деятельность, приказывая и командуя, вынося ре– о^ния и произнося речи? Или же описывать только окружающую его массу, то есть события, а не действия, самого же его выставлять, словно бога из тучи, который появляется тогда, когда надо нанести решающий удар?
Пока, стало быть, эпический гений не докажет противоположного на деле, можно – даже и не задумываясь о чудесном, без чего трудно обходиться эпопее, – с полным правом отнести героическую эпопею к числу вещей невозможных в наши дни; до тех пор не остается ничего иного, как заимствовать эпические сюжеты лишь из частной жизни, причем у такого класса людей, который и в наши дни продолжает жить естественней, проще, аитичнее.
Уже поэма „Герман и Доротея" доказывает, что от этого не несут большого урона характеры. Все великое и благородное, чем обладает человечество, – все это запечатлено здесь в полном объеме. Напротив, значительную и огорчительную потерю несут возносящаяся фантазия, воспаряющее вдохновение; однако такая утрата, по всей вероятности (жаль, что сейчас неуместно исследовать вопрос о возможности героической эпопеи в наши дни в общей форме), невосполнима по иным причинам – не только из-за отсутствия подходящего материала. Великолепный блеск эпопеи закатился, представляется нам, вместе с греческим солнцем; счастье еще и то, что наш поэт сумел показать нам: чистая определенность их очертаний, живая жизнь их фигур, одним словом, полнокровная цветущая сила греков сохранила свою свежесть и мощь вплоть до наших дней.
XCVII.Изображение простой женственности в образе Доротеи
Заключить высшее содержание в наипростейшую форму природы – вот задача, какой должен в полной мере отвечать поэт, создавая свои характеры, – если только он стремится в равной мере удовлетворить ум и воображение читателей.
Успех в этом отношении был бы недостижим для нашего поэта, если бы он не избрал на главную роль среди своих характеров характер женский, который и задает тон в поэме. Ибо лишь в женской природе столь зримо соседствуют и самое естественное и самое высокое воспитание (Bildung); лишь в ней первозданное своеобразие души легко одерживает полную победу; лишь над нею не имеет такой власти все разнообразие сословий и занятий. Как мы видели, поэт, не мешая основному воздействию поэмы, мог придать Доротее более тонкое воспитание, более вольный полет души. Поэтому наряду с ее прекрасной индивидуальностью он мог одновременно представить в ней чистый образ женственности.
Ибо сколькими бы описаниями женских характеров ни были мы обязаны Гёте, его мастерству, ни одно из них не является столь верной картиной чистой и естественной женственности, как характер Доротеи. Все другие представлены в особенных ситуациях, все другие испытывают особые чувства, или, лучше сказать, – в этом-то и все различие, – ни один не обрисован в духе эпоса. В Доротее же мы видим лишь два свойства, заметные прежде всех иных, – это деятельное пособление и рассудительная проворность; иные качества выступают на мгновение – по тому или иному поводу; не будь повода, и они были бы скрыты от нас в глубинах ее души; те же два – это нити всей ее жизни, пока остается она в привычном для себя кругу.
Место, где говорится о всеобщем предназначении женщины, принадлежит к числу самых прекрасных и прочувствованных вы– оказываний об этом предмете. Ни в каком сословии, ни в каких житейских обстоятельствах не может существовать женский характер, не наделенный таким нравом, этой сердечной готовностью помогать другим. Без этого немыслимо проникновенное чувство домашних добродетелей, – женская красота, величие женщины цветут лишь здесь. Женский род призван царить изящно и достойно, царить над душами. Сознание такого предназначения женщины, сознание, что такая моральная власть достижима лишь путем полнейшего отказа от материальной власти – вот что составляет в своем соединении сущность женственного, описанный женский нрав. Не будь этого сознания, власть женского пола была бы ужасной и возмутительной; не будь этой власти, женская покорность и услужливость сделались бы раболепными и презренными.
Подобная же черта женственности, девичества – кажущаяся холодность, с которой Доротея то отпугивает робкие чувства юноши, то обрывает его полувысказанные и неясные слова. Она всегда рассудительна, проворна, она всегда начеку, она редко бывает тронута чем-либо или взволнована. Живая деятельность женской фантазии, внимательность к окружающему, та изящная легкость, с которой женщина, предаваясь мысли или чувству, не упускает из виду всего остального, – все это хороший контраст бурному нраву, глубокомыслию и торжественности мужчины, контраст еще более заметный, если, как это происходит здесь, его не смягчает, а лишь больше усиливает индивидуальность характера. Кроме того, все эти свойства таковы, что в том положении, в каком находится Доротея, они могли развиться самым естественным путем; они же более других способны к высшему и более тонкому развитию.
XCVIII.Идеальность в описании характеров. Соотношение характеров
Своим описанием Доротеи наш поэт доказал, что умеет соединять правду природы и подлинную идеальность. Доротея на деле – то самое, что говорит она о себе:
…покладиста нравом, вынослива, чутка душою *.
Такова она и есть, если смотреть на нее холодным взглядом наблюдателя. Но насколько же больше в ней всего, если смотреть на нее глазами любящего, если смотреть на нее в зеркало воображения, как смотрим мы, вдохновленные поэтом! Образ естества ничуть не переменился, и, однако, мы можем приписать ей женское величие, любую добродетель женщины, красоту, – все, что можно соединить с этим характером, и ничто не будет ей чуждо, все окажется присущим ей.








