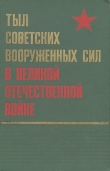Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Альберт Усольцев
ЧАСТУШКИ НА МЕСТНЫЕ ТЕМЫ
Рассказ
Мы все его вот так звали – Николай, давай закурим. Смешно, нелепо, но именно так…
Служил он на должности оператора станции наведения ракет. По тревоге прибегал в кабину первым, докладывал стреляющему о готовности системы и спокойно садился на стул-вертушку. Если возникала какая-то неисправность, Кондаков моментально устранял ее. Работая, он напевал одну и ту же частушку, которую где-то слышал:
Мимо окон пробегал
Пестренький теленочек,
Я за хвост его схватила —
Думала – миленочек…
Частушка была «женская», пелась от женского имени. И когда на это указывали Кондакову, он не спорил, не возражал, лишь разводил руками – что, мол, я поделаю, коль частушка такой попалась, и без всякого приглашения своим ровным глуховатым баском выдавал другую частушку:
Мил-военный, мил-военный,
Мил-военный не простой.
Он на западе – женатый,
На востоке – холостой…
После этого Кондаков замолкал, и никто из операторов не мог вытянуть из него и слова. Сидел неподвижно, будто неизвестно как попавший в кабину валун. Лицо его, подсвеченное голубоватым светом, было угрюмым и некрасивым из-за большого, расширенного в основании носа, похожего на кедровую шишку, из-за густых, сросшихся бровей, которыми он умел грозно шевелить, вытягивая их в прямую линию или, наоборот, изгибая в добродушно-смешливые вопросительные знаки. Узкие серые глаза казались на удивление бесцветными и равнодушными. Все, даже руки, которые он постоянно держал как боксер, приготовившийся к атаке, должно было настораживать при общении с ним, а может быть, даже и отталкивать солдат от этого парня. Чего стоила одна походка вне строя: резкий неровный шаг, угловатые неловкие движения плечами – пройтись с ним и спокойно побеседовать было трудно, он то отставал, то обгонял собеседника, при этом задевал длинными, как клешни, руками, словно старался приноровить шаг товарища к своему, крупному, широкому, беспокойному. Издали можно было подумать, что Кондаков – сержант, а его товарищ – молодой солдат из «карантина» и бравый сержант обучает сослуживца строевому шагу, парадному, походному одновременно, по какой-то своей, сержантской, методике, обучает обстоятельно, толково, быстро, по сокращенной программе. Но Кондаков был рядовым, даже не ефрейтором, никого он не обучал, просто прогуливался, такая у него была походка, которую он менял лишь в строю, приноравливая под общий темп, четкий ритм солдатской колонны.
Да, мало было во внешнем облике Кондакова черт, которые в гражданском обиходе называются – обаянием, внешним обаянием. Но происходило удивительное: не успевал Кондаков в свободный солдатский час, который в армии зовется «личным временем», появиться на «пятачке», как ему на широкой, с литыми чугунными ножками скамейке освобождали место. Скамейку на свалке городского парка присмотрел Кондаков. Уговорил старшину, погрузили в машину, привезли на «точку». Отремонтировал Кондаков «городскую» скамейку, покрасил, установил на «пятачке», и стала с тех пор обыкновеннейшая скамейка притягательным центром, куда тянулись свободные от службы солдаты покурить, просто посидеть, побалагурить, даже помолчать. Раньше этого уголка под раскидистыми карагачами вроде бы и не существовало, не замечали его. А вот привез Кондаков скамейку, посыпал «пятачок» чистым речным песочком, клумбу прополол, отчего на ней сразу заалели «жарки», и стал обычный угол военного городка не просто «пятачком», а местом, куда тянуло. Будто магнит необыкновенной силы поставил тут Кондаков!
В «старшинский день», в субботу, рабочий по бане, назначенный из бывалых «старичков», еще утром на весь городок кричал: «Кондаков, тебе кальсоны какой размер оставить?!» Кондаков служил всего лишь год, чуток перевалило на второй – и чтобы так «старик», солдат, которому вот-вот уходить в запас, заботливо интересовался насчет не очень красивой, но необходимой солдатской амуниции для сослуживца, который был заметно его моложе… Это было тоже необычным. Кальсоны рабочий по бане приносил Кондакову обязательно с завязками, с целыми пуговицами, вручал торжественно, будто ценный подарок в день большого юбилея. В парилке Кондакова ждал свежий березовый веник. От сухого пара горели глаза, а Кондаков не уходил с полка́. Парился хлестко, отчаянно, молча. Рабочий подбрасывал в топку сухих березовых плашек, заглядывал в парилку, будто хотел удостовериться – живой ли Кондаков, ухал от струи обжигающего пара, от которого начинали трещать волосы на голове, быстро захлопывал дверь, ложился на пол, чуть приоткрывал и в притвор тихо спрашивал: «Николай, а закурить найдется?» Кондаков махал рукой: там, мол, в кармане брюк, сам возьми, чего лезешь с простым вопросом в такую сложную минуту. Удивительно, но у Кондакова всегда было курево, хоть и получал он обычные солдатские три восемьдесят и из дому его посылками не жаловали. Рабочий закуривал, подбрасывал еще дровец и снова заглядывал в парилку: «Николай, а котел не разлетится?!» Кондаков снова махал рукой: мол, не лопнет. Топка, трубы и котел выдерживали. Строил и устанавливал все это Кондаков. До него парилки в дивизионе не было. Ее место занимала городская ванна, красивая, но неудобная для «точки»: один блаженствует, десятеро стоят, ждут очереди. А еще «старик» в ванной заклинится?! Поди стронь его! А вдруг в самый разгар тревога засвербит? Не-ет, ванна – это ванна, а парилка – совсем другое. Потому когда выбросили из бани красивую ванну, никто и не прослезился, кроме разве нескольких «стариков», которые любили «заклиниваться». Командир тихо приветствовал: он любил баню с паром. Старшина сделал вид, что ничего не произошло: на самом деле налицо был факт нарушения инструкции штаба: положено на «точке» по «раскладке» иметь ванну, имей! Фельдшер, сержант сверхсрочной службы, не скрывал радости: пар семь болезней правит. Хоть и не болели солдаты и фельдшер изнывал от «отсутствия контингента», но все же, все же… Еще в Древнем Риме при встрече граждане-товарищи интересовались друг у друга: «Простите, как вы потеете?» Еще Петр Первый… Впрочем, не надо было никому ничего доказывать – баню с паром приняли все.
Первый, испытательный, заход в баню сделал Кондаков, сам автор печки, каменки, необычной заглушки для пара, полка́, разновысокого, годного для банных «асов» и для новичков. Топку кочегарили – кубометр березовых дров ушел. Кондаков вошел в парилку осторожно, но без робости. Даже частушку глухим баском пропел. Он, наверное, знал их бесконечное множество. А может, и сам сочинял. Частушка была такая:
Полюбила лейтенанта,
Оказался – рядовой.
Размоталися обмотки:
Я запуталась ногой.
Вообще Кондаков любил частушки от женского имени. Вот и напарился до малинового свечения, едва выполз из парилки, хлебнул кружку квасу с мятой, который сам же и приготовил в большом бочонке, и проговорил – на пение не было сил и голоса:
По деревне я иду,
Будто бы по городу.
Я любому мужику
Выдергаю бороду.
К нему кинулись с вопросами: что да как? А он лишь вяло проговорил: «Слышали частушку? Слышали. Вперед и выше! Пар – аж живица из плах течет!»
До военной службы Кондаков работал лесником. Говорили, что в военкомате на вопрос: «В какие войска вы бы хотели попасть?» – он ответил коротко: «Если можно, в партизаны». Для партизанского отряда Кондаков был бы идеальным бойцом. В лесу он отлично ориентировался не только по муравейникам, пням и кроне деревьев, что умеют делать многие, даже школьники, но и по расположению грибных куреней, по полету птиц. Разжигал костер одной спичкой. А если не было спички, то доставал из кармана кремень, сухой трут, аккуратно завернутые в целлофан. Несколько метких ударов – и трут начинал тлеть. Кондаков мог хранить огонь всю ночь без костра. Для этого у него были припасены туго свитые льняные жгутики, пропитанные смолой, варом, сосновой живицей, еще бог знает какими веществами, известными только ему, леснику Кондакову. Если хотелось пить и не было рядом воды, Кондаков срезал несколько тальниковых или березовых веток, осиновые не любил из-за горечи, тщательно ошкуривал их, а потом раскладывал по муравейникам. Через несколько минут, жмуря от удовольствия глаза, сосал утоляющий жажду муравьиный сок. Друзья удивлялись и опасались одновременно: а не помрет от муравьиного «напитка»? Нет, не умирал. Лишь глухо мурлыкал какую-то очередную частушку, которую, видимо, все же составлял сам. Весной Кондаков собирал сахаристые гачки – сосновую тонкую кожицу, ел эти гачки, вполне серьезно уверяя старшину, что может после них несколько дней обойтись без хлеба, борща и каши. Старшина не верил, но тоже удивлялся. Проверить старшина не мог – фельдшер строго-настрого запретил «голодный» эксперимент, опасаясь последствий и выговора от начальства. В озеринках, на дне, Кондаков среди ила и тины находил корни камыша, тщательно промывал, очищал от черной шершавой кожицы, ел сам и угощал желающих белой мучнистой массой, которую так и называл – мука́. Правда, желающих отведать муки́ было мало, хоть корешки и чуть сластили, а по виду напоминали волокнистый тощий банан. «Бананы местного значения», – говорил Кондаков о корешках, уплетая их с завидным аппетитом. Сослуживцы молча наблюдали, гадая, помрет или нет? А может, хоть «медвежья болезнь» прохватит. Ничего подобного! Кондаков ходил, мурлыкал про себя частушки и всех уверял, что в муке́ очень много витамина «памяти». Что такое витамин «памяти», никто, кроме Кондакова, не знал не ведал.
Только Кондаков, единственный на «точке», мог отыскать в ближнем лесу дупло и взять из него дикий мед.
Служил Кондаков как-то неторопливо и уверенно. Он не был отличником. Его фамилия редко упоминалась в докладах, донесениях и рапортах. Поощрений у него за год было всего два: одно за изготовление хлебного кваса, который так и звали – «кондаковский квас», другое – за оборудование парилки в дивизионной баньке.
Поздней осенью в дивизион привезли «молодых», так здесь называли новобранцев, прошедших курс молодого бойца в карантине. Промокшие, дрожащие от холода, в неумело заправленных шинелях, горбатые от торчащих за спинами вещевых мешков, неловко толклись они около каптерки, по очереди входя в святая святых, в дивизионную каптерку, где старшина каждому показывал определенное место для личных и лишних вещей. Солдату ведь немного надо для жизни: зубную щетку, тюбик пасты, бритву… Все остальное личное – лишнее, оставь в каптерке. Надо – возьмешь. Не надо, пускай лежит, ждет твоего увольнения в запас или, на крайний случай, приказа министра обороны об увольнении… Вот тогда почаще будешь вспоминать о тех вещах и вещицах, которые, оказывается, ждут своего часа, грустного и радостно-торжественного, последнего построения, прощания с «точкой». Но до прощания «молодым» еще далеко, у них все только начинается. И начинается вот с этой минуты у каптерки, на виду у всего дивизиона.
– Кажись, смена прибыла…
– Дембель близко…
– Не близко, а на носу…. Приказ зачитан…
– Эй, молодежь, кто со мной сразится в бильярд? Даю три шара фору! А? Никого… Пять шаров…
– Привет, соколики! Слушай, кудрявый, махнемся погонами, а?! Тебе какая разница: все равно еще служить на километр селедки!
– Новичок, а новичок… Сколько лаврового листа за службу съешь, знаешь? Нет? Так я скажу – венок чемпиона мира по шахматам.
– Значит, так, орлы: вы в гвардейской части! Запомните три аксиомы, важных для гвардейца. Первая… Со старшиной не спорь, он всегда прав. В столовую не торопись – все равно обед съешь с аппетитом. Лишний раз не подходи к телефону – обязательно куда-нибудь пошлют. Это надо усвоить сразу. Остальное придет по ходу действия…
Все было в этих словах: и гордость, порой граничащая с высокомерием, за свои трудные годы службы на «точке», и осознание своей силы, и радость предстоящей встречи с домом. На новичков такие приветствия действовали удручающе. Конечно, впереди еще будет и торжественное принятие присяги, и первая благодарность командира, записанная в солдатскую книжку, и вручение личного оружия, и первая пораженная цель из этого оружия, и первое заступление в караул, и первый день самостоятельной работы на электронной технике, и первая «работа» по воздушной цели… Все это будет, все это впереди, а сейчас… За окном хлещет проливной дождь, свистит ветер, тоскливо вызванивают провода… Казарма от холода кажется неуютной, чужой, временным пристанищем, а не постоянным жильем, тем более не домом вот этих бравых солдат, что ловко щелкают железными шарами на небольшом столе бильярда, рассаживаются на стульях и табуретках… Киноэкран за неимением другого помещения висит прямо в коридоре, отчего неуют усиливается, нагнетает грусть, необъяснимую тоску и равнодушие ко всему происходящему…
Тянет подгорелой кашей из кухни. Гремит включенный зачем-то на полную мощность радиоколокол. А главное слова – «орлы», «новички», «соколики»… Вроде и обычные слова, раньше их приходилось слышать, а сейчас вот налились каким-то обидным смыслом.
Терпкий вкус мокрой, принесенной на сапогах сменившимся нарядом глины с позиции… Впрочем, сапоги отмыты в бочке, что стоит у входа, даже протерты суконками, но все равно хранят запах глины… Глина здесь, что ли, какая-то особая, пахучая… Острый запах ружейного масла из открытой ружейной пирамиды, куда наряд с грохотом ставит свои карабины, полы, отдающие мастикой… Тяжесть и жесткий ворс собственной шинели, саднящие недавние мозоли от строевой в «карантине», тускло-серый, почти мертвенный свет плафонов в спальном помещении казармы, одинокий и какой-то нелепый в своем одиночестве фикус, застывший в кадке: его глянцованные тусклым светом ламп листья кажутся безжизненными, почти искусственными… Тьма за окнами, вязкая и липкая от дождя и глины, свет электрофонарей не рассеивается в ней, а стоит неподвижными конусами… Пока только это. Да и очередь движется медленно: что там, за дверью, старшина анкеты, что ли, какие заполняет… Поскорей бы в столовую. Да и столовая какая-то крохотная, скорее – столовка… И как в ней размещается весь дивизион?.. Наверняка в две очереди, им, новичкам, естественно, придется в последнюю очередь, когда в столовке уже от немытой посуды, крошек хлебных, торопливых движений дежурных-дневальных еще более неласково и неуютно, грустнее даже, чем в казарме…
Но вот к «молодым» подошел Кондаков… Неловкий, некрасивый, нескладный… Руки впереди, словно на ринг вышел…
– Здравствуйте, ребята! – сказал Кондаков негромко.
Никто не ответил. Все настороженно молчали, ожидали, что последует дальше. Наверное, тоже заговорит про лавровый лист и селедку, которые надо съесть за годы службы, а то и предложит на обмен свои часы, зажигалку, расческу… Яснее ясного.
– Откуда родом? – все таким же негромким голосом продолжал Кондаков, неторопливо, но внимательно рассматривая ребят, словно был начальником какой-то необычной команды и сейчас подбирал в нее достойных кандидатов. И на этот вопрос ответили молчанием. Да и что скажешь: один с Кубани, другой из Белоруссии, третий из Казани, четвертый с Памира спустился, пятый…
– Из Зауралья есть?
Вот это другое дело.
– Есть, – раздался тихий голос. – Курганщина… Точнее – Каргаполье…
– Земляче! Из Каргаполья, а такой робкий! А ну выдь…
Земляк вышел. Конопатый, потонувший в шинели, с вещевым мешком, висящим где-то на шее.
– Богатырь! – сказал Кондаков, похлопав земляка по воробьиной груди. – А почему стоишь на одной ноге?
– Дак…
Земляк оглянулся на друзей, не зная, можно ли сказать про мозоль. Засмеют. Да и не хочется сослуживцев подводить – из «карантина» пришел с мозолями, хромой… Перетерпеть дня три-четыре, потом все пройдет.
– Натер, что ли? – просто и прямо спросил Кондаков. В его вопросе не было ни насмешки, ни розыгрыша, а потому молодой солдат не счел нужным скрывать.
– Ага… немножечко…
– С кем не бывает… И я из «карантина» пришел с мозолью на… голове, – пошутил Кондаков. – А ну-ка пойдем…
– Дак…
– Идем, идем, земеля…
И увел земляка в казарму, к своей койке. По дороге расспрашивал:
– Как там, в Каргаполье, деревянный мост через Миасс еще стоит?
– Снесли.
– Снесли?! Такую красоту?
– Ага… Райисполком постановил… Пацан в воду прыгнул с перил, шею себе свернул…
– Не по-армейски, не по-армейски, – задумчиво произнес Кондаков. И тут же пояснил: – Если на Севере солдат обморозит себе щеку, не смазывают же всех остальных гусиным салом… Не по-армейски… А Воденниковская мельница?
– Мельница стоит. Только не водой мелет, а электричеством.
– И это не по-армейски, – проговорил Кондаков. – Есть вода, зачем жечь киловатты…
Разговор о домашней стороне Кондаков вел неторопливо и обстоятельно, как бы между делом. А дело в эту минуту было очень простым – подлечить ранки на ногах новобранца каким-то своим, изготовленным из лесных трав, снадобьем-мазью. Солдат стеснялся и того, что не умеет правильно заворачивать портянки, и того, что старослужащий солдат возится с ним ровно медик. Зачем ему это нужно. Шел бы щелкал шарами на бильярде и к телевизору подсаживался – там начиналась очередная серия детектива.
– Портянки-то в детстве кто учил заворачивать?
– Не было у меня в детстве портянок. Впервые в «карантине» сержант показал…
– Ну, сержанту с каждым из вас возиться было, вероятно, некогда, он показал просто функциональную схему… А сейчас завернем по принципиальной схеме…
Хоть и не мог молодой солдат еще сообразить: при чем тут функционально-принципиальные схемы, когда речь идет о портянках, но сразу серьезнел и внимательно слушал бывалого солдата… Пропустил там, в «карантине», слова сержанта мимо ушей, вот и получил мозоли, чуть не обезножел. В словах хоть и чувствуется шутка, но, кажись, дело знает этот неожиданный друг. Знает солдат дело.
А у каптерки над стайкой «молодых» уже стоял веселый гул.
– Из Минска есть?
– Есть… Саввич…
– А из Чишмы имеются?
– Из Уфы я…
– Все равно – земляк! Поговорку знаешь: «Деньги есть – Уфа гуляем, денег нет – Чишма сидим»… Ну-ка, идем, земляк, потолкуем.
– Кто тут московский?
– Саратовцы… эй, саратовцы, откликайтесь?!
И как будто сразу потеплело в казарме. Земляки находили земляков, расспрашивали о родной стороне, тормошили, давали какие-то советы о службе, обучали тут же, на месте, необходимым азам солдатской жизни, «деталям», как говорил добродушный здоровяк грузин Джемал Квасадзе.
– Ага, ты, Резо, значит, из Кобулети… Запомни, Резо, такую дэталь – здэсь пэрэц выдается по норме…
– Как по «норме»? Что, нет перечниц на столах…
– Пэрэчницы есть, но пэрэц, Резо, мы едим по норме, а не так, как в Кобулети…
Так встретился с Кондаковым и я. Сейчас уже не припомню, о чем мы говорили с ним в тот ноябрьский вечер, но отлично врезалось в память: как-то разом посветлела и даже потеплела казарма, дождь и слякоть за ее стеной были не такими противными и нудными. Я был благодарен Кондакову за первое доброе слово. Долго не спалось в эту ночь, хотя усталость от напряженной карантинной поры чувствовалась в каждой мышце, в каждой клеточке тела. Утром, в курилке, я хотел многое ему сказать, но речь как-то не вышла, я лишь попросил: «Николай, давай закурим». И у меня, как на грех, не оказалось папирос, и Николай молча протянул свой простенький портсигар с вмятинами и трещинкой на крышке.
Кондаков обучил меня нехитрой, но необходимой азбуке солдатской жизни. Чтобы быстро, за сорок пять секунд, одеваться и раздеваться, надо через тугие петли нового обмундирования пропустить черенком столовую ложку или авторучку с толстым наконечником. В вещевом мешке всегда должны находиться котелок, ложка, кружка – объявляют «тревоги» со снятием с позиции. Подворотничок подшивать с целлофаном не стоит, шея не «дышит», могут пойти карбункулы. Выстирав «ХБ», хлопчатобумажные брюки и гимнастерку, не выкручивать до последней капли – останутся полосы. Нитки с иголкой воткнуть в отворот правой стороны пилотки. Без нитки и иголки, сказал Кондаков, солдат может проиграть сражение. Правда, при этом он ссылался почему-то на Наполеона. Он шутил, он любил шуткануть, этот лесничок. Гвардейский значок – не чистить асидолом: позеленеет. А вот с бляхи ремня можно тонкой иглой снять верхний слой металла, отполировать наждачной бумагой, нанести пасту… Утром фланелькой протер – и готов к осмотру. Зимой сапогам ни к чему каждый день крем – взял щетку и сухим снегом… Блеск зеркальный! Конечно, до того, хотя бы раз в неделю – декаду, надо поработать, как сказал Николай, «по-толстовски». «Я имею в виду писателя Алексея Толстого. Мастер был не только писать книжки, но чистить обувь, – пояснял Кондаков. – Утром просыпаются гости, а обувь сияет – смотреться больно глазам!» Если получишь «наряд вне очереди», а один наряд в дивизионе – тридцать тачек угля в кочегарку, иди и спокойно отрабатывай, помни, что домой ты должен прибыть с железными мускулами. Зимой, в карауле, тулуп снимай так, чтобы не выпустить из него тепло. Знай свое постоянное место в столовой, от этого зависит и аппетит, хотя на отсутствие аппетита, пояснил Кондаков, еще не поступало командиру или фельдшеру ни одной жалобы. Четко запомни место шинели на вешалке, не будешь копаться по «тревоге», войска особые – ПВО живут в постоянной боевой готовности, копуш не любят, как, впрочем, не любят их, вероятно, и в других войсках. Номер личного оружия запомни на всю жизнь…
Если ко всем другим молодежь привыкала трудно – в армии ведь особая форма отношений, то к Кондакову на второй же день подходили и говорили: «Николай, давай закурим». И, закурив, присаживались рядом. Сидели и молчали. Я заметил, что с Кондаковым легко молчать. Не с каждым человеком легко молчать… Этот молчаливый мост, который перекидывался между Кондаковым и сослуживцами, наверное, и можно назвать солдатской дружбой. Ведь солдаты – люди крепкие, не барышни, в любви друг другу не объясняются, на шею друг другу не бросаются. Посидели, помолчали – вот и хорошо, вроде и ближе стал тебе человек, прежде далекий, а может, и совсем незнакомый.
Впрочем, цену солдатской дружбы с Кондаковым я узнал быстро.
Возвращались из городского увольнения…
Ракеты стоят не в городах, не в поселках, и даже не в деревнях, в пустых местах стоят ракеты. Автобусы тут не ходят. Попутку тоже не всегда поймаешь. Рассчитывать приходится на себя, только на себя. Еще в городе Кондаков, отыскав меня в местном парке, спросил: «К марш-броску готов?» В общем-то я знал, на что он намекает. Привезли нас в город с дивизионной «оказией» – хлеб на тягаче из полка забросили. Обратно, на «точку», нам предстояло возвращаться на местном поезде, который жители почему-то прозвали смешно – «барыгой». Может, за его тихий ход, может, за расхристанные вагоны, которые впору было снимать в каком-нибудь фильме времен гражданской войны, может, еще за что… От железнодорожной станцийки до дивизиона предстоял «марш-бросок», как шутили старослужащие. Вроде бы и не таким большим было тут расстояние. Когда я стоял на вышке, на посту, то видел без бинокля и станцийку, и «барыгу»… Подумаешь, махануть два-три километра! И не такие расстояния уже знали мои ноги.
«Так готов к марш-броску?» – повторил еще в городе Кондаков.
«Так точно, ваше рядовое высочество!»
«Учти, будет уже ночь… Бежать надо наизусть… А там много карстовых промоин…»
«Учту, ваше рядовое величество!»
Храбрился я потому, что еще ни разу не совершал этот ночной «марш-бросок» от станцийки до «точки». Да и не хотелось пока думать о каких-то неведомых карстовых промоинах, ночной темноте, когда рядом всем своим светом и весельем гудел городской парк. Со дня моей службы прошли месяцы, я ходил по парку, будто прибыл с другой планеты, оглушенный, потрясенный. Такое бывает, когда солдат выходит в свое первое увольнение. Очень даже часто бывает.
Незаметно пролетел день. Он мне показался ужасно коротким. Наступил вечер. Пора было возвращаться в часть.
Я чуть не опоздал на «барыгу». С площадки последнего вагона мне руку протянул Кондаков.
– Помни о марш-броске, – еще раз предупредил он.
Какое там! Я забрался на третью, багажную, полку и заснул. Растолкал меня тот же Кондаков.
– Выбрасываемся!
Нам действительно пришлось «выбрасываться»: поезд, чуть притормозив, снова начал набирать ход. Да так, будто у старого-престарого тепловозика, что тащил состав из нескольких ободранных вагонов, появилось второе дыхание.
Я «выбрасывался» последним, перрончик уже кончился. Пролетев по откосу насыпи, я был задержан кустарником лесозащитной полосы. Поднялся, тьма кругом, в глаз ткни – не видно. Дождь со снегом хлещет. Впереди только трещат кусты – мои сослуживцы продираются в степь, чтобы взять курс на «точку». Пробрался сквозь кустарник и я. Осмотрелся: впереди – темно, позади – темно. Где дивизион? Куда бежать? Голоса ребят расплываются каким-то странным эхом: то справа, то слева, то вообще позади, хотя я замыкающий, за мной в вагоне уже никого не было. Да и эха скоро за свистом ветра и шумом дождя не стало слышно. Пропали и огни станцийки – видимо, я спустился в лощину. Вот это закавыка! Когда днем с вышки смотрел на станцийку, все казалось таким простым и близким, а сейчас и прожектора дивизионного, что ослепительно пылает всю ночь на позиции, тоже не видать. Будто в бочку с чернилами я окунулся. Да тут еще некстати вспомнились слова Кондакова о карстовых промоинах, куда можно ухнуть в холодную воду да и просидеть до утра. А нас помдеж предупреждал: явиться минута в минуту. Нет, конечно, можно прибыть из увольнения и пораньше, это не воспрещается, но «пораньше» из-за этого «барыги» никак не получается. На марш-бросок времени остается в обрез, ровно столько, чтобы быстрым бегом, ни минуты не теряя в пути, упереться в шлагбаум «точки». Более того, припомнились и слова Джемала Квасадзе, которые он говорил своему земляку: «Запомни, Резо, дэталь: в стэпи ямы, в ямах – волки…» Шутил он или говорил серьезно, трудно было определить. Да и ни к чему было это мне раньше. Не думал я, что придется остаться одному в этой степи, с ее карстовыми промоинами и, возможно если Джемал не разыгрывал Резо, с волками… Ситуацийка! А ну, ухну в промоину – и там сидит «дэталь» с горящими глазами? От одной этой мысли мне стало жарко в ноябрьской сырой ночи.
Не знаю, как бы я добрался до затерянной во мгле и лысых приземистых сопках «точки», и добрался ли бы вообще, не появись передо мной… Николай Кондаков. Он, видимо, вернулся, почувствовав, что я отстал. Именно почувствовал каким-то неведомым, только ему, Кондакову, присущим чувством, а не увидел, потому что увидеть, рассмотреть что-либо в этой непроглядной темени было невозможно.
– Мы не должны опоздать… Не имеем права, – тихо сказал Николай. – К двадцати одному ноль-ноль, как штык…
И он еще думает о том сроке, который указан в увольнительной и к которому мы должны вернуться в дивизион?! Конечно, час и минуты прибытия военного человека из увольнения – закон. Но ведь такая ночь… отсутствие дороги… В конце концов, может помдеж и не заметить небольшого опоздания… Николай будто догадался о моих мыслях и скупо повторил:
– Ни минуткой позже! Понял? Давай руку…
И моя рука защелкнулась в его руке, твердой и холодной, с шершавой, похожей на наждачную бумагу, ладонью, защелкнулась как в замке, обещая свободу лишь после того, как перед нами будет дивизионный шлагбаум. Кондаков успел лишь пошутить: «А теперь только переставляй ноги».
Так мы и бежали… Он – впереди, я – за ним, «переставляя ноги». И действительно, мне оставалось лишь «переставлять ноги», потому что дорогу каким-то неведомым чутьем, «наизусть», что ли, выбирал и угадывал в чернильной, прошитой струями ночи он, Николай. Если бы был день и нас кто-то увидел издали, со стороны, то наверняка бы подумал: «Два братца-близняка резвятся, бегут рука в руку». Но мы не были братьями, не были… И был не день, а промозглая ночь. И не резвились мы, а бежали на свою ракетную «точку», бежали, стараясь во что бы то ни стало выполнить этот проклятый пункт, эту настырную строчку, где было указано время возвращения в часть. У меня сбивалось дыхание – тогда Кондаков чуть сбавлял скорость. Пот заливал глаза, я чувствовал его соленый вкус языком: смешно, но у меня впервые вспотели даже губы… Пудовые от налипшей глины ботинки из удобных, привычных ноге, вдруг стали похожи на деревянные колодки, не-ет, даже не деревянные – чугунные. Ничего подобного со мной раньше не было; наш бег не имел ничего общего ни с кроссом, ни с обычным марш-броском, так как я не знал, сколько километров или метров еще осталось до дивизиона, не видел цель, а значит, не мог и рассчитать свои силы. Конечную цель, казарму, надо было, видимо, ощущать глазами, телом, не знаю еще чем, что, впрочем, было доступно сейчас только лишь Кондакову, моему ведущему… И не скрою, где-то на очередном длинном подъеме-тягуне мне пришла спасительная, но нелепая в своей неосуществимости мысль: вырвать руку из кондаковского замка, сесть на землю, отдышаться, а потом тихим шагом доковылять до «точки». Не война же, в самом деле… Не военная обстановка, чтобы так убиваться. Ну появимся на десяток минут позже, что из этого? И снова Кондаков будто угадал мою тайную мысль-мыслишку…
Он остановился, но всего лишь на мгновение. Быстро, прикрыв телом папиросу, прикурил, дал мне сделать пару затяжек и сказал:
– Американский самолет-разведчик «А-двенадцать» за одну минуту проходит расстояние, равное дороге от Тулы до Москвы. Усек?
А что я должен «усекать»?! При чем Тула, Москва и самолет-разведчик?! Мы возвращаемся из городского увольнения, самого обыкновеннейшего увольнения. Погодка – хуже некуда, дорога… дороги вообще нет никакой, бежим по целине, в темноте карстовые промоины… Ну при чем тут…
– Вперед и выше! – бросил Кондаков еще почти целую папиросу в темноту. – Ноги еще переставлять можешь?
– Могу, но не хочу…
– Что-о-о?! – протянул Кондаков, и я впервые в его голосе почувствовал неприязнь, даже злость.
– Могу, но не…
Он не дал мне договорить:
– Не можешь – научим, не хочешь – заставим!
Он как будто и зубами от злости клацнул. А мне показалось, что это замок на его руке защелкнулся, снова намертво соединив его, кондаковское, тело с моим. Ну и характерец! Так, с виду вроде тихоня тихоней, слова громко не произнесет, улыбка какая-то виноватая… И ведь не сержант он мой, чтобы так волноваться. Просто сослуживец… Сосед по койке… Даже пустячного замечания от командира за мое опоздание не получит. Каждый солдат отвечает сам за себя. Я опоздаю – меня и накажут. Ему-то что? Вот не побегу – и все! Даже крупным шагом не пойду, шажком…