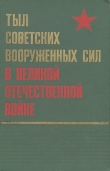Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Владимир Возовиков
КРАСНАЯ ЛЕНТА
Рассказ
В натужном, словно спрессованном, гуле винтов, в нервной дрожи корпуса, в пугливом мерцании индикаторов на приборном щитке капитан Лагунов ощущал непривычную тяжесть машины. По просьбе афганских друзей экипаж доставлял в далекий аул водяные насосы, горючее, продовольствие и книги для школы. В последнюю минуту перед вылетом стало известно: в ауле есть больные, среди них – дети, и тогда командир распорядился взять врача. Лагунов только охнул, увидев шестипудового гиганта с громадной сумкой, набитой инструментом и лекарствами. И как он втиснулся в десантную кабину между бочками, ящиками и тюками, да еще без всякой подсказки и помощи умудрился включиться в бортовую связь? Видно, такие оказии ему не впервой. Непритязательность великана понравилась Лагунову, но теперь, над скальной пустыней высокогорья, он всерьез пожалел, что не прислали доктора полегче.
Крутизна гор увеличивалась. Красноватые облака как будто передали свой цвет скалам, над сизыми провалами ущелий, над серо-желтыми лоскутами долин текли красно-коричневые хребты, ребристо блестели багровинкой почти отвесные склоны. Знакомая по прежним полетам в горах тревога усиливалась в душе Лагунова, и он до рези в глазах всматривался в каждый распадок, в каждый ближний хребет. Интуиция все-таки не обманула. Вблизи перевала, когда вертолет, свинцово-тяжелый в разреженном воздухе, полз вверх над изрезанным склоном, где в коричневых морщинах распадков белел снег, Лагунов вдруг услышал – будто сухим горохом осыпало правый борт, и тут же увидел впереди, сбоку, над рваным гребнем рыжего песчаника, вспышки винтовочных и автоматных выстрелов, а потом – грязные чалмы и халаты басмачей. «Не выдай, родимый», – шепнул, доводя обороты двигателя до предела, и вертолет послушно вздыбился под ливнем свинца, отщелкивая броней искры пуль, перевалил гребень, повис над бездонной дымчато-сизой падью. Успокоительно пели винты, и Лагунову в избытке чувств вдруг захотелось благодарно погладить машину. А как там, в десантной кабине?
– Жив, доктор?
– Доктора умирают последними, – рокотнул в наушниках нервный басок. – Вы не меня, вы себя берегите… Однако знали бы эти сволочи, в кого стреляют!
Лагунов промолчал, лишь усмехнулся: уж басмачам-то хорошо известно, что советские летчики несут в горы жизнь. Он работал в здешнем краю в самую, пожалуй, нелегкую и героическую зиму, когда враги Апрельской революции объявили народной власти открытую войну, избрав голод едва ли не главным оружием. Банды бывших помещиков, уголовников и наемного отребья из-за рубежа, «братьев-мусульман», которых афганцы метко окрестили «братьями шайтана», грабили селения, жгли хлеб, угоняли и уничтожали скот, рассчитывая, что голод и бедствия вызовут общее недовольство населения провинции Народно-демократической партией и новым, революционным правительством, которому пришлось устранять тяжелые последствия кровавой диктатуры Амина. Приглашенные в Афганистан советские войска не были в стороне от борьбы. Но не горелым порохом пропах вертолет Лагунова, тогда еще старшего лейтенанта, он пропах теплым хлебом. И теперь в кабине аромат хлебного поля, его не выветрили горные сквозняки, не заглушили тяжелые запахи горючего и разогретых металлов. Или его рождает память об опасных полетах в незнакомых ущельях с мешками муки на борту, память о встречах с людьми, чьи глаза и сегодня жгут душу? Оробелые и недоверчивые поначалу, глаза эти наполнялись слезами изумления: люди, обреченные со своими детьми на голодную смерть басмачами, плача, целовали хлеб. «Тот, кто дает хлеб, не бывает врагом. Враг тот, кто отбирает хлеб». Лагунов потом не раз слышал эту фразу. И часто бывало так, что сами афганские крестьяне указывали советским пилотам безопасные маршруты, предупреждали о возможных засадах бандитов на скалах, близ которых ожидался пролет советских машин. А главное, простые афганцы сами все чаще брались за оружие, чтобы защитить от басмачей себя и свои дома.
Однажды экипаж Лагунова спас трех горцев. Басмачи нагрянули на пастбище внезапно, связали чабанов, отделили маток от отары и стали «добывать» драгоценный афганский каракуль: прикладами и сапогами били овец по животам, пока те не скидывали плод – самая ценная шкурка у еще не родившегося ягненка. Видно, они заодно хотели извести все стадо. Молодой чабан не выдержал, закричал на бандитов, тогда его ударили прикладом в лицо…
Советский вертолет, случайно пролетавший над пастбищем, спугнул басмачей, – видимо, они приняли его за боевую машину Народной армии. Летчики заметили связанных людей и покалеченных животных; рискуя попасть в засаду, приземлились, освободили чабанов от веревок, помогли раненому.
Через несколько дней дежурный по части вызвал Лагунова на КПП. Его поджидала группа вооруженных старыми винтовками горцев, среди которых он узнал спасенного летчиками парня с перевязанным лицом. Поодаль, с головой закутанная в чадру, стояла девушка. Пожилой афганец с проседью в смоляной бороде заговорил, сержант-таджик переводил его мерную речь, хотя Лагунов уже понимал сам:
– Здесь мои братья, сыновья и дочь. Наш род не хотел вмешиваться в нынешние дела, мы – мирные дехкане, дело которых пасти скот, выращивать виноград и дыни да охотиться в горах на диких зверей. Но душманы убили моего соседа только за то, что он пошел строить канал, по которому на наши поля придет вода. Теперь они подняли руку на моего сына. Душманы говорят, что сражаются против правительства коммунистов и безбожной власти, а стреляют в нас. Но если в нас стреляют, мы должны защищаться…
Осторожно, словно тяжелые камни, ронял слова суровый горец – непросто постигал ум пастуха и охотника великую правду революции. Брат его заговорил горячо и сбивчиво:
– Мы знаем, кто посылает душманов на разбой. Абдулла-хан, бывший хозяин этих гор. Он никогда не смирится, что народная власть уничтожила долговые книги, по которым все мы были его рабами. Он снова хочет брать дань за то, что мы пасем скот на его бывших пастбищах, обрабатываем землю, отнятую у него и разделенную по справедливости. Этот кровавый пес, видно, забыл, что мужчины нашего рода умеют постоять за себя и свои права. Мы создали дружину самообороны. Завтра с отрядом войск мы пойдем по следам душманов, которых Абдулла привел с той стороны. А сегодня пришли поклониться тебе за спасение его сына, моего племянника, и двух других пастухов нашего аула.
Тронутый Лагунов стиснул сухую, жилистую ладонь седобородого горца, пожал руки его братьев и сыновей, перед девушкой на миг задержался, и этот миг имел последствия. Отец что-то отрывисто сказал, девушка откинула край чадры, смущенно блеснув темными глазами, протянула летчику тонкую смуглую ладонь. Он бережно пожал ее и вдруг понял, какой непростой жест сделала сейчас юная горянка. В порыве чувства снял комсомольский значок, протянул девушке.
– Ленин…
Молодые афганцы подошли, долго рассматривали профиль человека на маленьком значке.
…В напряженной работе происшествие стало забываться, как вдруг о нем напомнили. Вызванный однажды к политработнику, Лагунов застал в его палатке активиста провинциальной организации Народно-демократической партии. Летчики хорошо знали этого человека – он не раз летал с ними в далекие селения. Гость спросил:
– Вы помните дочь Алладада, которой дарили значок?
– Помню, – улыбнулся Лагунов.
– Она ударила себя ножом.
– Что случилось?.. Почему?!
– Кто-то пустил слух, будто аллах лишил ее разума за прикосновение к «неверному».
Лагунов переводил взгляд на политработника.
– Не казнись, товарищ. Мы разобрались. Во всем виноваты душманы. Мы тоже, – сказал афганец.
– Вы?..
– Да. Мы плохо берегли девушку, которая два года назад первой записалась в школу, потом первой в ауле сняла паранджу, а недавно вступила в Демократическую организацию молодежи… Это не все. Отцу предложили за нее богатый калым. Но Алладад теперь в партии, как и его брат, он спросил свою дочь. Девушка отказалась быть проданной, к тому же у нее, оказывается, есть на примете другой жених, из небогатых. Понимаете ли, что все это значит для местной пуштунки! Даже мы недооценили. Зато враг оценил. – Партиец помолчал, глядя мимо Лагунова, негромко добавил: – Ее хотели украсть, когда Алладад с сыновьями уходил в горы охотиться, а братья его пасли скот и тоже находились далеко. Она успела схватить нож…
– Жива?
– Иначе бы мы не узнали всей правды. Я был у нее, она попросила значок с Лениным, чтобы носить его открыто. Мы обыскали дом, но значок пропал. Может быть, у вас найдется другой такой же?
– Найдется, товарищ.
– Это вам от нее. – И гость положил на стол пакет.
В пакете оказалась широкая красная лента. Гость сдержанно улыбнулся и снова посуровел.
– В дни Апреля я видел Кабул в красном огне. Оттуда, из Кабула, я привез моей дочери такую же ленту. Я подобрал ее на улице после того, как душманы стреляли из автоматов в толпу девушек-студенток, вышедших на митинг с открытыми лицами.
Когда афганец ушел, политработник собрал летчиков и долго говорил о том, насколько осторожными надо быть, работая здесь.
С тех пор, вылетая на задания, Лагунов привязывал красную ленту к скобе внутри кабины, она полыхала для него негасимым сигналом тревоги и, казалось, таила в себе охранную силу. В туманах и моросящих дождях, над змееподобными руслами рек, где винты машины проносятся вблизи скал, с которых грозит очередь в упор, над ледяными хребтами и раскаленными песками экипаж летал без происшествий.
Одна за другой складывали оружие крупные банды; не то нарвался на пулю народного мстителя, не то бежал за границу главный басмач провинции. Лишь выстрелы охотников в последние месяцы гремели в здешних горах. И вот снова хлестнул свинец по винтокрылой машине, несущей мирный груз. Не иначе, явилась новая шайка с той стороны…
Лагунов попытался выйти на связь со своими, но горная цепь позади заглушила его вызов. Он вздохнул, скосил глаза на алую ленту сбоку и снова погрузил взгляд в-дымчатую глубину долины, на дне которой возникли очертания аула. Машина, уставшая от высоты и тяжелого груза, словно бы с облегчением дышала мотором, приближаясь к земле.
На окраине селения их встретили вооруженные мужчины отряда самообороны, и Лагунов понял, что появление басмачей уже не было тайной для местных дехкан и оросителей. Может быть, его знакомец Алладад со своей дружиной идет сейчас по следам врагов или подстерегает их где-нибудь на перевале либо в теснине?
Мужчины начали неспешно разгружать машину, доктор-азербайджанец завел степенный разговор с молодым учителем в белоснежной чалме и пожилым козлобородым фельдшером, затем, вскинув на плечо тяжелую сумку с красным крестом, в сопровождении фельдшера ушел к больным. Лагунов с товарищем осматривали машину. Нашли несколько вмятин на борту и рикошетный след пули на переднем бронестекле, – видно, стрелок-снайпер метил в летчика. Подошел учитель, рассматривал вмятины, хмурился, качал головой, потом заглянул в кабину. Шелковая лента алой струйкой стекала по борту, сразу привлекая к себе посторонний взгляд… Лагунов не понял, что сказал учитель мужчинам, только они вдруг прервали работу, обступили летчиков, начали пристально разглядывать их. Встревоженный Лагунов хотел поинтересоваться, в чем дело, но учитель спросил сам:
– Той зимой, когда прогнали Амина, ты возил хлеб в наши горы?
Капитан кивнул.
– Мы слышали о тебе и твоих товарищах. Я не знаю, что правда, а что вымысел в рассказах людей, но знайте – бедняки в здешних горах вам благодарны. Нынче первый урок в школе я начну рассказом о могучих братьях, которые в самое трудное время протянули нам руку. Я расскажу нашим детям о летчике с красной лентой, который привозил нам хлеб и книги и в которого за это стреляли выродки. Да охранит тебя небо от всякой беды.
Не все слова разобрал Лагунов, однако смысл речи был ему ясен, и, кажется, впервые чуть пригасло болезненное чувство невольной вины перед девушкой, чью ленту возил он с собой. Люди знают правду, пусть не всю, но хотя бы главное в ней.
Один из дехкан, прежде чем снова взяться за работу, указал на хребет. Там, в седловине гор, вспухало белое облачко. Учитель снова заговорил:
– Вам нельзя возвращаться. Перевал закрыло мокрым туманом, он рассеется к утру. Ни один из наших мужчин ночью не сомкнет глаз – мы будем охранять вас и вашу машину.
Лагунов не ответил, оглядывая хребет. Учитель, похоже, прав: Лагунов знал, какие туманы и облака в эту пору внезапно сползают со снеговых вершин. Но и оставаться на ночь опасно. Возможно, у басмачей есть свои глаза и в этом ауле; они близко, а сколько их, пока неизвестно. Ночующий на окраине аула вертолет наверняка станет приманкой для бандитов. Уж лучше пересидеть где-нибудь в недоступном месте близ перевала – Лагунов ведь не новичок в здешних горах.
Неясная тревога заставила его обернуться – словно толкнули в спину. От глиняного дувала, ограждающего низкие куполообразные жилища и персиковые сады аула, шел рослый доктор. За ним тянулся всадник на ослике с большим свертком в руках. Женщина в парандже семенила рядом, вцепившись в коричневый халат мужчины, а следом, прихрамывая, спешил козлобородый фельдшер. Товарищ Лагунова усмехнулся, наблюдая за странной процессией, но командир остался серьезным, уже догадываясь, что предстоит. Доктор опередил спутников, отер вспотевшее лицо платком, шумно выдохнул:
– Разгрузили?.. Слава аллаху. Летим немедленно – парнишку спасать надо. Не мог этот козел-фельдшер раньше сообщить, а теперь оперативные меры нужны и таблетками не обойтись.
Лагунов стоял около кабины, разглядывая худого унылого человека верхом на ослике с завернутым в серый халат сыном, его маленькую жену в темной парандже, перехватил виноватый взгляд фельдшера, которому, видно, здорово досталось от врача. А в глаза тревожным огоньком плескала красная лента…
– Гляди, доктор, перевал затянуло. Возможно, придется пойти на вынужденную посадку. И сколько просидим там, в холоде и сырости, не знаю. К тому же басмачи… Мы – солдаты, ты – врач, нам собой рисковать положено, а вот ребенком… Ты понимаешь, что заговорят враги, если мы не довезем мальчишку до больницы живым?
Широкие плечи доктора зябко дрогнули, полное лицо словно постарело, он негромко сказал:
– В горах умирает немало детей от болезней и недоедания. Даже революция не в силах изменить этого за несколько месяцев, особенно если ей мешают. Если умрет еще один, он умрет на руках отца, и никто про нас с тобой не скажет плохого. Мы ведь и в самом деле не боги. Я объясню им, что везти больного нельзя.
Лагунов словно встряхнулся.
– Скажи родителям, что в нас, возможно, будут стрелять басмачи, что машину могут подбить.
Доктор громко перевел. Мужчина на ослике вскинул голову, унылое лицо его стало жестким, в глазах разгорался темный огонь. Он тронул ослика, подъехал вплотную к вертолету, протянул сына советскому врачу. Когда тот принимал ребенка в свои громадные руки, мать было качнулась к нему; учитель удержал ее, что-то сказав, и женщина опустилась на колени прямо в пыль, стала молиться.
– Она молит аллаха, чтобы он отлепил тех, кто станет стрелять в вас, – пояснил учитель.
Лагунов молча полез в кабину. Доктор пригласил с собой отца, но тот лишь покачал головой и прижал руки к сердцу. У него дома много работы и еще много детей. Людям, которые привозят хлеб, лекарства и книги, он доверяет сына без страха…
Через несколько минут, ввинчивая машину в узкое небо долины, Лагунов глянул вниз. Как будто горные тюльпаны зацвели там – люди махали всем, что нашлось красного: лентами, платками, повязками… И потом, в сырой серой мути над хребтом, не отрывая глаз от индикатора высоты, Лагунов все еще видел этот охранный цвет и безошибочно находил дорогу.
СОЛДАТ – ВСЕГДА СОЛДАТ
Виктор Муратов
ПИСЬМА СОЛДАТСКИЕ
Новеллы
Баян умолк. И костяшки домино не стучат. В ленинской комнате все стихло. Солдаты склонились над листками. Письма пишут. И те, кто не любит писать, – пишет. Новостей-то! У старослужащих в письмах больше вопросов. Что нового дома, в колхозе, на заводе. Им важно знать, что их ждет дома.
Молодые вопросов не задают. Они недавно из дому, с завода, из колхоза. Для них здесь каждый новый день – новость, каждый час – открытие.
За окном ночь. Слышно, как в темные стекла осторожно царапается голыми ветками клен. Тишина…
Истоки
«Недавно ездили на Волжскую ГЭС, на экскурсию. Совсем не та здесь Волга, что возле нашего села Карпушки. Помнишь, Ромка, первоклашками еще переплывали ее? А потом вброд переходили – вода тихая, прозрачная, как стекло. Раки по дну ползают. У нас Волга – речушка тихая, задумчивая, а здесь – море, даже зимой не замерзает, потому что бушует. Горбатые волны рождаются где-то далеко-далеко, и несутся белые гребни, как белые корабли, с ходу врезаются в бетонный берег и рассыпаются в дождь.
Помнишь, Ромка, сколько летом приезжает к нам в Карпушки художников? У нас Волга – натурщица, а здесь – работница. Давит на плотину, крутит турбины и срывается с огромной высоты десятками водопадов. У самой плотины бурлит вода, крутится на одном месте, будто приходит в себя, и, отдохнув малость, медленно течет дальше.
Труженица Волга. Где силы она берет? Там, где и наша карпушинская Волга? У горы Каменик на Валдае?
Лозинка
«Были в колхозе у шефов. Везде одинаковые люди. И ребята такие же, как у нас в Сосняках, и девчата. Хотя…
Не в обиду Соснякам нашим, девчата здесь не такие. Есть тут… Эх, Степка. Честно. Не видел я у нас в Сосняках такой дивчины. Анюткой зовут. Стройная, как лозинка, а глаза – небо васильковое. Смотрел бы, смотрел…
Нет, Степка, такой Анютки в наших Сосняках. Как хочешь, так и думай. Я не хотел ей о том говорить, да вышло так. Провожал домой ее и молчал всю дорогу. О чем говорить-то? О службе? Боялся, вдруг тайну какую выдам. Только она говорила, говорила. У нее-то нет военной тайны. Про колхоз, про телят своих. Скажешь, нашла о чем? Погоди. У самого дома глянула на меня так, что… «Знаешь, – говорит, – много хлопцев у нас в деревне, а таких, как ты, нет. Только не зазнавайся дюже. Знаю, всех вас там дома невесты ждут». Нет, говорю, у меня никакой невесты. А потом письмо ей написал. В стихах. Смеешься? Если бы ты видел Анютку! А стихи простые, как умел:
Не у каждого из нас
Девушки в родном краю.
Может, встречу среди вас
Я любовь свою.
Письмо отослал, а сам боюсь: засмеет, как ты, небось. А мне нельзя, чтобы Анютка надо мною смеялась. Потому, что нет такой девушки в Сосняках.
А может, нигде, на целой земле нет такой Анюты! А? Степа?»
Навечно
«У нас в казарме стоит кровать. Всегда аккуратно заправленная. А на стене – портрет парторга батальона капитана Петра Ивановича Сизова. Это – герой. В 1943 году он ценою своей жизни обеспечил успех наступления целому батальону. Каждый день на вечерней поверке старшина называет его фамилию и я, как правофланговый, отвечаю: «Герой Советского Союза капитан Сизов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины».
А завтра снова поверка и снова произносится перед строем эта фамилия. И так будет всегда. Потому, что герой навечно занесен в списки нашей роты.
Я отслужу, вернусь домой. Придут на мое место другие. И у них будут вечерние поверки. И они будут слышать фамилию героя. Так будет вечно.
Вечно? Я спросил у командира роты:
– Почему вечно? Наступит день, когда распустят армии. И нашу роту распустят. Не будет больше вечерних поверок. Списки с именами героев передадут в музей.
Капитан Яресько задумчиво ответил мне:
– Когда-нибудь наступит такой день. Обязательно! Но гораздо раньше отслужите вы свой срок и уйдете в запас. Списки в ротной канцелярии останутся, а в сердце у вас – имена героев. В сердце – навечно.
Верно. Мы их в сердце вписали навечно».
Солдат пишет письмо. Он пошлет его братишке, другу, матери. Он пишет на конверте адрес. Конверты все одинаковые – синие. И треугольные штампы одинаковые: «Солдатское. Бесплатно».
Помнит солдат вот такие же конверты с таким же штампом. Они хранятся у матери в заветной шкатулке. Но их мало. Больше треугольных конвертов. Треугольники с фронта – бесценные весточки от деда.
Выводит, солдат адрес на конверте со штампом «Солдатское. Бесплатно». Ждут этот конверт друг, братишка, невеста. Ждет мать от сына письмо. Солдатское. Бесценное.
Олег Куваев
ТЕЛЕСНАЯ ПЕРИФЕРИЯ
Рассказ
…Взрыв вскинул его, швырнув на выступ скалы. Осколок остро и горячо скользнул по виску и, цокнув по камню, завизжал в рассвет. Он осел: слабость, туман, страх, но в следующее мгновение продолжал бег, и горизонт косо запрокидывался ему навстречу.
…Семен Калиткин открыл глаза и какое-то время лежал в темноте – весь напряженность, весь бросок. Затем опустил ноги с кровати, нащупал выключатель. Лампочка залила светом голые стены номера. Калиткин стал делать успокаивающее дыхание по системе йогов: вдох левой ноздрей на четыре такта, восемь тактов задержки, выдох правой ноздрей на четыре такта, вдох правой… Он сидел на взбаламученной кошмаром кровати, тощий, длиннорукий, строго по инструкции держал спину прямо, взгляд вперед. Ноздри хрящеватого носа яростно и поочередно вздувались в усердии ритмического дыхания.
Тьма за окном была плотна. С той стороны шел неумолчный шифрованный стук – ночная летучая живность билась о стекла. Калиткин вынул из рюкзака чайник, маленький электрокипятильник. Шнур кипятильника не доставал до стола. Калиткин пристроил чайник на подоконнике, а сам уткнулся носом в стекло. Тьма стояла – режь ножом, ковыряй фрезой. И все бились прямо напротив лица мягкие и упругие тела насекомых. Калиткин цепко держался за подоконник, ждал. Вода в чайнике закипела неожиданно быстро. «Высота. Закипает ранее ста градусов по шкале Цельсия», – сообразил Калиткин. Он дернул за шнур кипятильника, проскочила искра, щелкнуло, и в тот же миг припадок снова поймал его.
…Прогрохотала автоматная очередь. «Лоп-лоп-лоп!» – ударили пули, и две фигуры бежали по косому горизонту.
– Отставить! – лежа на полу гостиницы, подал команду Калиткин.
Он долго переливал заварку из чайника в пиалу, из пиалы в чайник. Руки дрожали. Потом Калиткин накрыл чайник фланелевой чистой портянкой и, ожидая, пока заварка настоится, зашагал по комнате. Тень его в длинных, до колен, трусах моталась за ним. Калиткин ждал утра.
…Городок был чистый, белый и строгий, как вымытый с мылом мальчик. Асфальт был влажным, и в нем отражалось рыжее солнце, которое пока еще набирало силу. Горы, нависшие над городком, также были рыжими, как бы начиненными изнутри грозной взрывчаткой.
Перед каменным забором Калиткин подтянулся. Часовой вышагнул из будки, преградил путь. Калиткин извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник с очень большим числом отделений и, внушительно оттопырив нижнюю губу, протянул часовому пропуск. Часовой козырнул, как показалось Калиткину, с насмешкой над его штатским видом. Калиткин даже набрал в грудь воздуха, чтобы съязвить, но тут заметил в будке раскрытую потрепанную книгу, лежавшую рядом с телефоном. И потому лишь мысленно произнес свое любимое: «Итого…» В данном случае «итого» означало жалостливое презрение к часовому. Читать? На посту!
К штабу он шел уже вольной походкой человека, знающего свою роль и вес. Но перед каменным столбом с государственным гербом опять все-таки подтянулся и даже припечатал шаг. Солдат, пробегавший мимо, задержался в недоумении. Штатский в пыльных брезентовых сапогах, колхозном пиджаке и без фуражки тянет нос перед столбом, символизирующим мощь государства и незыблемость его границ. Смехота! Умора!
В комнате дежурного офицера пахло свежевымытым полом. В окно лезли листики молодых тополей. Дежурный офицер был выбрит, румян и очень уравновешен. Калиткин с удовольствием протянул ему пропуск для регистрации.
– А! Медицина! – уважительно протянул лейтенант, рассмотрев командировочное предписание Калиткина. Он открыл ящик стола, но вдруг поскучнел. – Кто вам пропуск давал?
– Соответствующий орган по месту жительства, – разъяснил Калиткин.
– Допуск в зону закрыт! – отрубил лейтенант, захлопнув книгу.
– Задачи медицины требуют, – возразил Калиткин.
– Какая медицина? Зона закрыта для посторонних! При чем тут медицина, а, товарищ?
– Выявление ресурсов местной природы, – высокомерно вздернул голову Калиткин.
– Закрыта зона. Ясно? – Лейтенант стал смотреть на плакат, где солдат, очень здоровый и румяный, растирался снегом рядом с умывальником на двенадцать сосков.
«Наверное, в жару на этот плакат смотреть хорошо», – подумал Калиткин и нутряным голосом спросил:
– Разрешите прибегнуть к каналу связи?
– Что-что? Какие такие каналы связи?
– Полковнику Сякину Ивану Григорьевичу…
– А ну-ка, товарищ, – встрепенулся лейтенант, – подождите меня в коридоре. Сейчас я…
– Не разрешите, вызову по обычному телеграфу, – пробурчал Калиткин от двери.
– Стой!
Рефлекс у Калиткина сработал. Он приставил ногу и четко развернулся через левое плечо. Лейтенант что-то начал понимать.
– Ты полковника Сякина лично знаешь?
– Так точно.
– А он тебя?
– Вне сомнения. – Голова у Калиткина надменно дернулась. Не снимая руки с телефона, лейтенант быстро решал задачу.
Он жестом спросил Калиткина: а не попадет ли ему по шее за вызов грозного полковника Сякина? Калиткин жестом его успокоил.
– Пошли! – Лейтенант прошел к комнате связи. – Подожди тут. – Он исчез за железной дверью. Через минуту выглянул и с изумлением пригласил Калиткина в комнату.
– Калиткин? Ну как ты там, Калиткин? – донесся из тысячекилометрового отдаления знакомый голос Сякина.
– Разрешите обратиться, товарищ полковник? – прокричал Калиткин.
– Не кричи. Все слышу. Что у тебя, Калиткин?
– Прошу пропуск в пограничную зону. Задачи медицины, товарищ полковник.
– Тебе отдыхать надо, Калиткин. Ты отдыхаешь, что ли?
– Отдыхаю, участвуя в активном строительстве жизни. Ищу мумие, эликсир жизни. Командирован научным учреждением, товарищ полковник.
Полковник долго молчал.
– …Потому что в рядах, – сиплым голосом добавил Калиткин.
Полковник снова молчал, и Калиткин даже представил мысленно всю широту земли, отделяющую Среднюю Азию от московского кабинета полковника Сякина.
– Иди отдыхай, Калиткин. Примем решение. Отбой, – сказал полковник.
Обратно в гостиницу Калиткин шел точно по осевой линии улицы, прямой и настолько отдаленной от суеты, что два бабая, два старика на завалинке прервали разговор и долго смотрели ему вслед из-под барашковых мохнатых папах.
Вечером его позвали к телефону. Уборщица подозрительно глянула на кровать. Атлас, которым было положено покрывать постель, свернутый лежал на столе. Уборщица кинулась искать в атласе дырку от сигареты, а Калиткин подумал: «Штатское разгильдяйство. Постельное белье должно быть на виду».
В вестибюле было пусто. Из окошка администратора торчала телефонная трубка. Калиткин откашлялся и со штабной оттяжкой голоса произнес:
– Калиткин слушает.
– Машина на заставу отходит в шесть ноль-ноль от моста. Будете ехать?
– В шесть ноль-ноль буду в назначенном месте.
– Ну-ну… – совсем по-штатски сказал голос, и там положили трубку.
Ночью Калиткин лежал, вытянувшись под одеялом, руки сложены на груди. Ждал, когда повторится припадок – если начиналось, то шло несколько ночей подряд. Где-то по соседству шумела свадьба. С непостижимой страстью гремел рубоб, и голос певца наполнял азиатскую темноту. Под гром рубоба Калиткин стал думать о том, как позавидуют ему Кошурников, Гагель и хитрый бабай Музафар. Он заснул, и не было ни погони, ни взрыва. В половине шестого Калиткин поднялся, как бы вскинутый военной пружиной.
Утро было холодным. Только сейчас Калиткин сообразил, что, привыкнув к жарким пескам, он не взял в горы теплой одежды. Всякая непредусмотрительность, штатское разгильдяйство всегда очень его раздражали. Но исправить что-либо уже поздно…
Без двух шесть у моста никого не было. Река с ревом мчалась на север. Тот берег реки был уже чужой, уже заграница. В шесть ноль-ноль Калиткин увидел офицера в меховой куртке. Погон на куртке не имелось, по лицу – не меньше майора.
– Калиткин? – спросил офицер.
– Так точно.
– Ну-ну. – Голос был вчерашний.
У офицера было изрезанное морщинами, загорелое лицо – нормальное лицо пограничника, и Калиткин почувствовал доверие и облегчение.
– Как Иван Григорьевич-то? – спросил офицер.
– Не видел его давно, – вздохнул Калиткин.
– Служили когда-то вместе. – Офицер тоже вздохнул.
– Так я же с Иваном Григорьевичем!.. – обрадовался Калиткин.
Из-за поворота выполз мощный тягач.
– Что же вы, товарищ Калиткин, в пиджачке в горы? Там снег может быть! – прокричал офицер сквозь рев тягача. – Несерьезно.
Он снял куртку и протянул Калиткину. Погоны оказались, точно, майорские, и Калиткину стало совсем весело оттого, что он угадал.
– Что вы, товарищ майор. Обойдусь!
– В карманах бутерброды. Дорога дальняя, – сказал майор.
«Ах, Иван Григорьевич, товарищ полковник!» – растроганно подумал Калиткин, точно Сякин сам лично послал ему куртку и положил в карман бутерброды.
…Тягач покрутился немного по сонным еще улицам городка и потом пополз в гору. Так ему и предстояло ползти вверх всю дорогу.
«Итого», – сказал про себя Калиткин. В данном случае это означало, что они двигались к высокогорью в четыре тысячи метров. Медицина же категорически запрещала Калиткину пребывание где-либо, кроме умеренно теплых равнинных краев.
…Все началось с того, что Сякин Иван Григорьевич, тогда еще подполковник, послал въедливого старшину сверхсрочной службы Калиткина в неурочный обход вдоль границы. Он посылал его так раз или два в месяц «с целью критики и общих соображений». О придирчивой и въедливой пограничной памяти Калиткина ходили легенды. Он так и не узнал, кто были те двое, которые, видимо, знали расписание нарядов, но не знали расписания старшины Калиткина. Они решили прорваться понахалке, с оружием в руках, благо, до границы было несколько сот метров. О награждении боевым орденом Калиткин узнал в госпитале. Из госпиталя Калиткин вышел инвалидом второй группы. Подполковник Сякин уже у себя на квартире, налив в стакан крепчайшего чаю, сказал:
– Ты, Калиткин, не считай себя штатским. Считай, что в рядах.
Не в пример Ивану Григорьевичу, жена сразу Калиткина из рядов вычеркнула. У них был свой домик невдалеке от заставы, где Калиткин раньше служил. Теперь жена считала, что домик и огород надо продать и ехать на Украину, к родственникам. Калиткин, герой тайной войны, пристроится где-либо в военкомате, она – по торговле, и все пойдет хорошо. Но Калиткин отвечал: