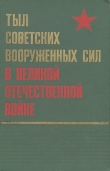Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Радист Лыгарев еще дважды бегал к муравейнику у подножия холма, приносил Чупрову живительный эликсир. Он бы перенес и самого Чупрова поближе к муравейнику – лишь бы это помогло… В налитой тяжестью голове Чупрова слегка прояснилось, обморочное состояние прошло, четче проступила явь, но дыхание все еще было неровным, «зашкаливало». Впервые в жизни нещадно сдавливало сердце, глаза слезились, отчего окружающий мир виделся сплошь розовым, зыбким, как бы плавающим в воде. Чупров помотал головой, пытаясь стряхнуть с себя неимоверную тяжесть, пригнувшую его к земле, не позволявшую хоть на миг отлепиться от приютившего его валуна.
Когда-то, еще в курсантские годы испытавший все это на себе, лейтенант Апраксин не торопил солдата, не подгонял его ни приказом, ни взглядом, хотя единственным его желанием в этот момент было, чтобы Чупров пересилил себя, как можно скорее поднялся. Ведь без собаки, которая слушалась только своего инструктора – Чупрова, они бессильны, а нарушитель за это время, потерянное впустую, мог углубиться в тыл, выйти из заблокированного района, и тогда попробуй отыскать и обезвредить его в массе людей!..
Пискнуло в наушниках радиотелефона связиста – застава вызывала тревожную группу на связь. Апраксин с явной неохотой взял протянутый Лыгаревым микрофон, догадываясь, что вызывал Невьянов. Но чем мог ему помочь оставшийся на заставе направленец? Распечь за непредвиденную задержку? Выразить сочувствие?.. Апраксин тщательно вырабатывал в себе качество, которым гордился – самостоятельность, диктовавшую поведение, закалявшую волю. Именно в силу этих причин он не боялся начальственного гнева, равно как и не нуждался в чьем бы то ни было утешении. Он вообще забыл, как звучат приторно-жалобные нотки сочувствия, и сам никогда к ним не прибегал, считая, что жалость унижает достоинство человека. Но, вместо угаданных будто бы слов старшего офицера, Апраксин, в ответ на сообщение о горном недомогании Чупрова, услышал резкое, заставившее задребезжать мембрану:
– Почему теряете время?
Апраксина взорвало: хорошо говорить о времени, сидя в кабинете, за тридевять земель от этого чертова перевала! Что, кроме своих машин и солярки, мог знать этот технарь о пограничном поиске? Граница – не механизмы и запчасти, а живые люди со всеми слабостями, горестями, наконец, с пределом возможностей и сил… Как чуяло сердце: что-то произойдет! Не зря и птица кричала – накликала…
– Продолжайте преследование по вероятному направлению движения нарушителя! – вновь издалека долетел до Апраксина сипловатый, недовольный голос Невьянова. – Вы слышите?
Апраксин слышал. И другие солдаты слышали – аккумуляторные батареи радиостанции были заряжены до отказа, слова подполковника звучали так громко, будто он сам стоял рядом, поскрипывал своими просторными, сшитыми на заказ, сапогами и глядел с усмешкой, ядовито…
Но сейчас Апраксину нужны были не команды, пусть и справедливые в конечном счете. Командовать он и сам умел. И советовать ему, начальнику заставы, как вести тревожную группу по наиболее вероятному направлению движения нарушителя, было, по крайней мере, нелепо, потому что это даже не арифметика, а счетные палочки первоклашки, азы. А что предпринять в данном случае, в конкретной ситуации? Вызвать из заслона или с заставы другого вожатого с собакой? Не имеет смысла: в оба конца и далеко, и времени затратится больше. Оставить или, точнее, бросить Чупрова одного он тоже не мог – не позволяла совесть, сопротивлялся разум…
Будто подслушав мысли лейтенанта, Чупров попытался встать, отлепиться наконец от притягивающего его, будто магнитом, прохладного валуна. Но тело еще плохо слушалось его, в голове по-прежнему стоял такой гул, словно десяток бондарей, действуя в полном согласии, сбивали с бочек ржавые обручи.
– Цеза! – тихо позвал он собаку, чтобы хоть что-то сказать и немного себя взбодрить. – Иди ко мне. Ну иди, дурочка, иди. Вот так, умница.
Апраксин излишне пристально следил, как ничего не понимавшая Цеза, тоже, по всему, обескураженная задержкой, послушно подалась вперед, на ходу виляя длинным и сильным телом, ткнулась жаркой мордой в мослатые колени Чупрова. Лейтенант избегал смотреть на самого инструктора, чтобы тот, не дай бог, не прочел в его взгляде нетерпения и досады. Сейчас Апраксин даже больше надеялся на Цезу, чем на самого хозяина, мысленно молил ее помочь Чупрову прийти в себя.
– Я скоро, – зачем-то пообещал Чупров лейтенанту и остальным солдатам. – Вот только оклемаюсь.
– Конечно, – с какой-то нарочитой беззаботностью в голосе поспешно отозвался Апраксин, хотя в этот момент с языка готовы были слететь совсем иные, более жесткие и требовательные слова. – Ты скоро оклемаешься, – повторил он вслед за Чупровым. – Ничего.
И как бы в подтверждение его слов долговязый радист, столбом возвышаясь на нижней каменистой террасе, когда Чупров на него оглянулся, через силу подмигнул ему, на расстоянии внушая солдату бодрость духа, а потом, не выдержав виноватого, отчего-то заискивающего взгляда поверженного наземь инструктора, отвернулся, закусил нижнюю губу.
Чупров рывком вскочил, охнул беззвучно, потому что тело словно прошило жгучей молнией. Но он только крепче, стремясь пересилить немощь, намотал на кулак шлейку собачьего поводка. Надо было уравновеситься, почувствовать под ногами твердую почву, не оплывавшую от осыпей землю, унять шум в голове и ушах, и на эту многотрудную работу у него ушло много сил. Но вот прояснилось в глазах, спала с них розовая мутная пелена.
– Цеза, след! След, Цеза, – тихо сказал инструктор воспрянувшей собаке, и та, понимавшая его с полуслова, не рванулась вперед, иначе бы Чупров не устоял, – а медленно, с оглядкой, потянулась к болоту, постепенно убыстряя и убыстряя ход.
Поначалу жутко было видеть такое количество бесполезной, непригодной для жизни маслено-черной воды, в которой, кроме мха, не тянулось к росту ничто живое. Даже белощекая крачка – неизменный обитатель топей – и та не вила здесь гнезд, держалась подальше от гиблого места. Лишь чудом зацепился по обе стороны узкого болотного клина стойкий к затоплению толстокорый кипарис. Но и тот не удался мощью, ник и чах в застойном воздухе и вязкой взбулькивающей грязи. Пограничники сюда редко наведывались – не было особой нужды, потому что какому нарушителю придет в голову заживо топить себя в вонючем болоте?
Открывал или, наоборот, запечатывал болотную горловину рыжий, без малейшей растительности каменистый утес, от которого вправо и влево тянулся зыбун. Апраксин знал, что в таком зыбуне в два счета можно было увязнуть…
И тем не менее едва заметные следы, оставленные нарушителем, уходили туда, к седловине утеса. И собака тоже упрямо, на ходу взлаивая от нетерпения, вела пограничников вверх.
На что рассчитывал нарушитель? Неужели избрал своим прикрытием топь, полагая, что другим сюда хода нет? А может, вгорячах, подстегнутый страхом, сбился с намеченного маршрута и сам угодил сюда по ошибке, которую нет времени исправить? Или отсиживался настороже в потаенной щели и только и ждал, держа наготове оружие, когда появятся пограничники? В такой ситуации Апраксин мог предположить все, что угодно.
Лейтенант молча кивнул Лыгареву и Данилину: мол, идите в обхват. Те мгновенно, без пояснений поняли, – не маленькие. Вчетвером они с разных сторон вскарабкались на макушку утеса, соблюдая предельно возможную осторожность, сошлись в седловине. И что же? Апраксин от досады едва не выругался: утес был пуст. А собака беспокойно подскуливала и все норовила сорваться вниз: видимо, ее звал, манил непонятно куда ведущий запах, оставшийся в воздухе после того, как тут прошел неуловимый пришелец.
Придерживаясь за скальные выступы, Апраксин спустился сколько мог, взглянул сверху на воду и мгновенно все понял. Под утесом среди сплошного гнилья длинными разводами чернело окно, которое могло означать только одно…
– Веревку! – заметно нервничая, громче обычного скомандовал Апраксин. – Подстрахуйте меня.
Он сам, не уступая ни Лыгареву, ни Данилину своего командирского права, спустился на прочной капроновой веревке к воде. Держа пистолет наготове, до боли в пальцах сжимая его рифленую пластмассовую рукоятку, Апраксин оглядел малейшие щели и выступы вплоть до маслянистого зеркала болотной жижи. Он все еще надеялся отыскать скрытую от глаз нишу, складку, в которой мог затаиться неизвестный. Однако нигде не обнаружилось никаких следов пребывания человека.
Хмурый, раздосадованный, лейтенант поднялся наверх, на макушку утеса, еще хранившего дневное тепло. Жадно закурил, торопливо глотая дым и почти не ощущая горечи табака.
Все трое из состава тревожной группы ждали его решения, смотрели на него с надеждой. Чупров уже вполне пришел в себя, только бледность на лице еще напоминала о его недавнем недомогании. Цеза тоже вела себя спокойно, облизывалась, по-своему понимая, что поработала хорошо, на совесть…
Апраксин тычком погасил окурок о гранитный скол, дал солдатам команду хорошенько обследовать прилегающую к утесу местность и, когда убедился, что осмотр тоже ничего не прояснил, приказал Лыгареву передать на заставу: поиск прекратить, заслон снять. На недоуменный вопрос Невьянова о нарушителе Апраксин четко, не колеблясь, выговорил: нарушителя засосало болото, а для того, чтобы поднять утопленника, необходимо дополнительное снаряжение и люди, которыми он, Апраксин, в данный момент не располагает.
– Отставить команду «прекратить поиск»! – сердито грохнул Невьянов. Затем потребовал у начальника заставы: – Дайте точные координаты своего местонахождения.
Координаты были предельно просты: утес в начале болота. Невьянов не стал расспрашивать подробней, сказал коротко, решительно:
– Ждите меня. Выезжаю.
Больше всего в этот нескладный вечер Апраксину не хотелось встречаться с Невьяновым, хотя с момента их знакомства пролетело не так уж много времени, за которое они успели обменяться едва ли десятком фраз. В чем тут крылась загадка, Апраксин вряд ли смог бы объяснить.
Долго ждать им не пришлось – подполковник Невьянов вскоре прибыл к подножию холма. Он хотя и был достаточно информирован о ходе поиска, поскольку доклады поступали к нему регулярно, тем не менее неожиданно для Апраксина потребовал от начальника заставы подробного отчета: где именно, в какое время и при каких обстоятельствах были обнаружены следы нарушителя, каким маршрутом двигался, где исчез… Апраксин, удивляясь в душе переменам, происшедшим с медлительным на первый взгляд Невьяновым, без запинки обрисовал путь, проделанный тревожной группой, по минутам, словно на оперативном совещании, расписал организацию поиска и действия тревожной группы.
Невьянов молча выслушал доклад, потом хмыкнул, укоризненно сказал своим маловыразительным голосом:
– Действия в основном правильные. Одобряю. А вот участка своей заставы ты, Апраксин, не знаешь.
В ответ на неприкрытое недовольство, недоумение и мимолетную обиду Апраксина подполковник высказался тоном, не терпящим возражений:
– Да, да, не знаешь… Ну, теперь-то что об этом! Поздно критиковать.
Оглянувшись на зловонное болото, распространявшее вокруг сырость и смрад, Невьянов решительно сказал:
– Не будем терять время. Едем, товарищ лейтенант! Водитель, разворачивайте машину.
Ехали молча. Уязвленный Апраксин и понятия не имел, что затевал этот непонятный Невьянов. Но глухая досада, в ответ на упрек старшего офицера заполнившая душу, не рассасывалась, а, наоборот, набухала на языке словами оправдания, неуместной сейчас иронии.
– Какова протяженность твоего болота, знаешь? – первым нарушил молчание Невьянов, внешне вполне миролюбиво, будто разговор шел о вещах обыденных, малоинтересных.
– Знаю, – однословно ответил Апраксин. Невьянов ждал, и лейтенанту волей-неволей пришлось пояснить: – Оно оканчивается глубоко в тылу. С боков к нему не подступиться – топь. Один у нарушителя путь – через утес.
– Один, говоришь?.. Хм! Поворачивайте на тыловую дорогу, – вдруг приказал Невьянов шоферу.
Апраксин терялся в догадках, но задавать вопросы не спешил. Пусть он и допустил в чем-то просчет – у кого их не бывает! – но настанет минута, когда Невьянов сам убедится, что тоже был неправ. Настанет…
Когда достигли противоположного края болота, сумерки почти укрыли землю, соединив ее сплошной темнотой с небом. Шофер тревожной группы уловил и понял молчаливый жест подполковника, в нужном месте остановил машину.
– Так, – сказал Невьянов, близоруко щурясь на циферблат часов со светящимися капельками фосфора. – В нашем распоряжении еще около получаса. Вполне достаточно. Закурим, лейтенант?
Мягкая нотка в подобревшем голосе Невьянова разом отрезала возникшую отчужденность. Да и не умел лейтенант долго держать обиду.
А Невьянов между тем достал из кармана кителя простенькие сигареты с фильтром, одну, не глядя, протянул Апраксину, другую взял сам, щелкнул крошечной зажигалкой и как ни в чем не бывало закурил, шлепая губами, словно пробовал дым на вкус…
Решив, что настала подходящая минута, Апраксин обратился к направленцу:
– Товарищ подполковник, разрешите вопрос?
Невьянов коротко хохотнул, похлопал Апраксина по плечу:
– Потом вопросы, лейтенант, потом. Даст бог, еще успеем наговориться.
Примерно через полчаса тревожная группа, заняв ту позицию, которую заранее наметил солдатам Невьянов, лицом к лицу столкнулась с выбредавшим из воды, из чавкающей болотной жижи, нарушителем границы. Обессиленный тяжелым переходом, незнакомец ничего не успел понять, когда чуть ли не в грудь ему уперлись вороненые стволы автоматов.
С двух сторон в упор осветили его фонарями – мокрого, грязного, дико поводившего глазами… И тут Невьянов вздохнул, отчетливо сказал нарушителю:
– Ах, Джамал, говорил же тебе, что мы еще встретимся! Вот и довелось. Это сколько же лет-то прошло, ой-е-ей! Да, старый ты уже стал, не то что прежде, руки-то вон как дрожат. Поизносился ты, Джамал, поистерся малость. А все, понимаешь, неймется. Чего ты забыл на нашей земле? На что надеялся?
Вот теперь Апраксин действительно ничего не понимал. Молча смотрел он на подполковника. И тогда Невьянов засмеялся – впервые за день раскатисто, с удовольствием. Сказал:
– Признайся, лейтенант, не поверил, когда я сказал, что не знаешь участка заставы? Ты в машине об этом хотел спросить, я угадал? Ясно, что не поверил, чего там. Здесь когда-то была гать, верно я говорю, Джамал? Контрабандисты денег на нее не пожалели – рассчитывали, что пользоваться будут долго. И ведь как хитро настлали, упрятали под водой, кто бы догадался! А все ж таки взяли мы их тогда почти всех, мало кто уцелел.
Невьянов сломил прутик, поторкал им в воду, нащупал кладь. Прут ушел в глубину почти на полметра.
– Она, та самая. Ишь, как просела. Видать, засосало болото…
Невьянов неуклюже потоптался на пружинящей моховой подстилке, выбирая местечко посуше, где вода не доставала сапог. Пососал потухшую сигарету. Апраксин смотрел на него не отрываясь.
– А ведь тогда он в спину мне саданул, Джамал. Памятку оставил… – Невьянов круто развернулся к нарушителю границы. – Да только выжил ведь я, Джамал, я не мог умереть, пока тебя по земле носило. Не мог. Вот и встретились, понимаешь… Ну, ведите его, ребята. А тебе, лейтенант, так скажу: я тогда был моложе, ну вот вроде тебя. И тоже, как ты, в начальниках заставы. Здесь и принял крещение. Выходит, теперь мы с тобой побратимы.
Сергей Луцкий
ТЕПЕРЬ – И НАВСЕГДА
Рассказ
В свое последнее армейское утро Ганин проснулся задолго до подъема.
Сквозь ветви берез в окна казармы било свежее утреннее солнце, на неподвижные койки, на одеяла, прикрывающие спящих ребят, проецировались темные узоры мелкой березовой листвы, и Ганин, щурясь от света, представил, как должно быть сейчас холодно и росисто во дворе.
Он тихо, стараясь не скрипеть пружинами, сел на койке, опустил ноги на пол и потянулся к «хабэ» на табурете. Быстро оделся и, сдерживая радость – как-никак «старик» и почти гражданский человек, так что не пристало прыгать ошалевшим теленком на глазах у дневального, который и так уже удивленно уставился на тебя, – не торопясь, вразвалочку направился к выходу из казармы.
Подвернувшийся дежурный по батарее понимающе спросил:
– Не спится?
– Какое там! – неожиданно весело ответил Ганин и махнул рукой.
Во дворе действительно было ярко, росисто и холодно. В гуще мокрых деревьев по-утреннему радостно пели птицы, в голубое высокое небо поднимался невесомый дымок над котельной.
Ганин ознобисто передернул плечами. «Хорошо! – подумал он. И от прохлады, от солнца, от радости бодро и беспорядочно принялся размахивать руками. – Отлично! Превосходно!..»
Был конец мая, всего лишь неделя прошла с тех пор, как началась настоящая весна. А раньше, вплоть до самых праздников, по обочинам бетонки холодных здешних мест лежали ноздреватые льдистые сугробы, и солнечные майские дни в резком, пронизывающем ветре с моря перемежались неопрятным, быстро падающим с плоского низкого неба снегом. В такие дни не верилось, что когда-то можно будет снять шинель, а робкие иголки травинок на южных склонах сопок казались недоразумением.
Ганину представлялось, что эти травинки – нежные пальцы всего растущего, осторожно высунувшегося из уютных недр земли и спрашивающего чистыми голосами: «Ну, как здесь у вас?.. Уже можно?..»
Но потом наступало то, во что не верилось. Окрепшее солнце до основания слизывало сугробы, прогревало землю, будило в ней дремлющие силы, – и устремлялись буйные соки к верхушкам белостволых берез, и дымились березы цыплячьей зеленью раскрывающихся почек… Эти мгновения весны Ганин любил больше всего. Было в них что-то от робости и доверчивости бледного ребенка, и ему вспоминалось детство и младший брат Дима, тяжело переболевший скарлатиной и тянущийся слабой рукой к солнечному лучу на стене.
Ганин слегка стеснялся своей впечатлительности, но все равно никогда не ходил, как другие парни из батареи, собирать березовый сок. Он читал, что и у деревьев есть что-то вроде нервной системы, а раз так – значит, березам бывает больно. Мишка Вахрамеев, земляк, с которым они вместе прослужили два года, посмеивался:
– Ты, Леха, как из пансиона благородных девиц! Все бы тебе сантименты. Витамины организму вот так нужны! В березовом соке их навалом, понимать должен. – Он подмигивал ребятам и добавлял, надеясь поддеть непохожего на себя человека: – Зря, вообще-то, ты из писарей ушел. Точно, зря!..
Судя по грубоватому, с тяжелым подбородком лицу Мишки Вахрамеева, он не должен бы знать таких слов, как «сантименты» и «пансион благородных девиц», но даже и за эти язвительные насмешки Ганин на него не обижался. Он знал, что Вахрамеев в общем-то неплохой парень, в тяжелую минуту не подведет, а это главное.
…– Лихо, Ганин, лихо!
Леша так увлекся зарядкой, что совершенно не заметил, как со стороны КПП подошел капитан Асабин. Он встал было «смирно», но командир батареи мягко махнул рукой.
– Вольно, вольно, Ганин… Продолжайте.
– Денек-то какой, товарищ капитан, а?! Как по заказу! – не выдержал Ганин. И, чувствуя, что губы сами собой растягиваются в улыбку, выпалил: – На всю ведь жизнь этот день запомнится!..
Капитан помолчал, усмехаясь и пристально глядя на него. Казалось, он не очень-то одобрял Ганина.
– Сегодня, значит, домой? И по такому случаю – зарядка за полчаса до подъема?
– Так точно! – весело отозвался Ганин, не обращая внимания на усмешку капитана. – Не спится!..
В руках у командира он заметил этюдник и быстро сообразил: «На этюды ходил. До восхода, наверное, поднялся. Это ведь как любить надо!..»
– Мундир готов? Лычки на месте, товарищ ефрейтор? – поинтересовался, все так же щуря глаза, капитан.
– Еще бы! – немного даже удивился Ганин. – Они у меня всегда на месте! А вы восход писать ходили, товарищ капитан?
Командир батареи уже направлялся к казарме.
– Любознательный ты человек, Ганин, – сказал он, и по тону было ясно, что говорит капитан с улыбкой. – Обо всем-то тебе доложи.
«Конечно же восход писал!» – отчего-то с восторгом подумал Леша. И ему вспомнилось, как он впервые увидел капитана на этюдах.
Тогда – случилось это в самом начале службы, когда Ганин, робкий салажонок, только что прибывший из «карантина», стал батарейным писарем, – как раз тогда капитана Асабина неожиданно (было воскресенье) вызвали в штаб части. Старшина батареи прапорщик Паливода сказал своему новому писарю, критически оглядывая его топорщащееся «хабэ» и всю нескладную фигуру:
– Хоздвор знаете где? Как раз за ним, в лесочке на поляне, и найдете капитана… И чтоб мигом. Одна нога здесь, другая… Выправки, выправки больше, вы ж солдат, а не мокрая курица!
Ганину можно было и не говорить насчет расторопности – он и так был рад вырваться из душной канцелярии, от всех этих списков личного состава, от ведомостей и расписаний. И сейчас он еще помнит, как бежал к хоздвору, и даже мысли свои тогдашние помнит. А мысли были невеселые.
Нет, совсем не такой представлял себе Леша службу! До армии он учился в культпросветтехникуме и, находясь все время среди девчонок, чувствовал томящую необходимость быть настоящим мужчиной. Он стал заниматься боксом, однако его нос оказался слишком слабым для таких испытаний, и из секции пришлось уйти. Даже если бы этого не случилось, Ганину вскоре надоела бы условность спорта. Душа его жаждала настоящих трудностей. И все надежды он возлагал на службу в армии. Его дед был офицером в отставке, фронтовиком, и Леша с детства наслышался рассказов о форсировании Днепра, о взятии Будапешта и о других, далеко не столь известных, но не менее трудных боях. Ему и его младшему брату Диме эти рассказы казались чудесней сказок. Вот поэтому-то, видимо, и появилось стремление проверить себя как человека армией. Хотелось знать, чего ты стоишь.
Но в подразделении Ганина назначили писарем. «Везет человеку, – поговаривал кое-кто из ребят, которые вместе с ним призывались. – Мы – в поле, мерзнуть и мокнуть, а он – транспаранты писать!»
Однако сам Леша не считал, что ему повезло. Наоборот. Рушилась его мечта о трудных, но очень нужных переходах, о точном выстреле на полигоне, от которого радостно распирает грудь, о кружке воды, вынесенной ему, усталому и пропыленному, миловидной застенчивой девушкой где-нибудь в деревушке, через которую будет проходить полк… Попробовал было обратиться к командиру батареи, но капитан Асабин, выслушав, покачал головой и посмотрел укоризненно. «За прихоть счел! – с обидой решил Ганин. – Не понял!»
Поляна открылась неожиданно. Только метров за двадцать до нее замелькали меж прямых сумрачных сосен зелень травы, яркие пятна солнца, бойкая пестрота цветов. И воздух здесь был особый: неподвижный, теплый, пахучий.
Почти в центре поляны спиной к Ганину сидел капитан Асабин и, пристально поглядывая перед собой, писал пейзаж. Он не слышал, как подошел Леша – трава глушила шаги, – и продолжал работать. Леша рассмотрел почти готовую акварель с краем леса, что напротив, и частью поляны перед ним. Лес был темен и строг, а солнечная поляна на его фоне выглядела безмятежной, светлой, и цветы в траве светились ярко и празднично… И казалось, что не быть поляне такой умиротворенной, если лес не будет суров и молчалив.
Ганин сам немного рисовал и потому сразу понял, что перед ним настоящая работа. Он забыл о том, зачем его сюда прислали, и стоял, подавшись вперед, к акварели.
– Здо́рово! – вырвалось у него.
Капитан оглянулся.
– А что здесь делает батарейный Нестор?
В неслужебное время капитан бывал весел и слегка ироничен в обращении.
– Товарищ капитан!.. – восторженно начал Ганин, но тут же вспомнил, зачем он здесь, старшинское «чтоб мигом», и упавшим голосом закончил: – Вас в штаб вызывают…
– М-м… Жаль! – Капитан откинулся и, прежде чем встать, еще раз искоса взглянул на этюдник. – Весьма сожалительно! Полчасика бы еще…
– Товарищ капитан, – спросил Ганин, – а вы давно живописью увлекаетесь?
– Ну как… С детства, наверно.
– Почему же пошли в военное училище? Вам ведь в Суриковское надо.
Капитан закрыл этюдник. Помолчал.
– С сорок первого по сорок четвертый год наша семья жила в Белоруссии, – сказал он наконец.
Ганин ждал, что последует дальше, но капитан молчал.
– Ну и что?
– А вы подумайте, – негромко ответил капитан.
«Ладно, – размышлял Ганин, шагая чуть позади капитана и неся его складной стульчик. – Ладно, жила семья Асабиных в Белоруссии, и как раз во время войны. Натерпелись от фашистов. Конечно, понятно желание, чтобы никогда такое не повторилось. Ну так что же, из-за этого нельзя становиться художником?.. Неужели нет людей, которым не надо ничем жертвовать и которые будут прекрасными офицерами? Зачем самому-то, когда у тебя талант?!»
Они шли мимо хоздвора, и добродушная буренка пялила из-за ограды на них глаза. Ганин глянул на ее бестолковую морду и опять почувствовал обиду.
– Товарищ капитан! – обратился он к командиру. – Переведите меня в расчет. В любой. Кем угодно!.. – Он умоляюще смотрел на капитана.
Капитан все так же размеренно шагал впереди.
– Рядовой Ганин, у кого в батарее лучше всех почерк?
Леша опустил голову и нехотя, будто его уличали в чем-то недостойном, буркнул:
– Ну, у меня…
– Рядовой Ганин, кто за несколько недель научился хорошо вести документацию? Кто освободил нас со старшиной от многих хлопотных дел?
Ганин еще ниже склонил голову.
– Кем доволен наш строгий старшина?.. Несмотря, так сказать, на отдельные замечания.
Ганин молчал.
– Вот видишь, – сказал капитан. – Писарь – это тоже серьезно. Писарю автомат полагается, и на учениях он вместе со всеми… Орудийным номером служить проще, поверь мне.
Шагая за капитаном, Леша думал, что стать художником тоже, наверно, труднее, чем артиллерийским офицером… Обида не проходила.
Сейчас, в последний день службы, он улыбнулся своим давним мыслям. Что он понимал тогда… Думал о том, куда хочется. Где нужнее – не спрашивал.
Потом были подъем, тренаж, завтрак – все, как и положено по распорядку. А кроме того – еще и радостное нетерпение ребят, увольняемых в запас, и повторное наглаживание вчера только отутюженных, об стрелки порежешься, брюк, и надраивание ботинок до солнечного блеска… Перед обедом старшина собрал военные билеты, а командир батареи отнес их в штаб.
– Оркестр из дивизии приехал! Живем! – крикнул, влетая в казарму, Мишка Вахрамеев. Глаза его сияли, лицо раскраснелось. Выглядел Мишка именинником, будто все, что происходило, затевалось ради него одного. – Проводы – по первому разряду! А что, не заслужили?!
Ганин на оркестр смотреть не пошел – на плацу посмотрим, – он укладывал в «дембельский» чемоданчик учебники, по которым готовился в институт. За этим занятием его и застал Корзинщиков.
– Леша, держи, – сказал Женька Корзинщиков, писарь и батарейный умелец, подавая синий конверт. У него была привычка письма сержантам и старослужащим вручать самолично и улыбаться при этом так, будто сам он их написал.
– Спасибо, – кивнул Ганин и сунул письмо в карман брюк. Он размышлял над тем, как втиснуть в чемодан сборник задач по физике.
– Если б завтра пришло, не застало бы, – сказал Корзинщиков, все еще не уходя.
«Точно, – подумал Ганин. – Неужели случилось что?..» Он домой уже сообщил, чтобы не писали – скоро, мол, увольняется. Озабоченно потянул из кармана письмо, но распечатать не успел, его позвал вышедший из канцелярии прапорщик Паливода.
– Ефрейтор Ганин, ко мне!
Ганин слегка удивился – не время для таких команд, – но все же подошел как положено и как положено вскинул ладонь к козырьку фуражки.
– Товарищ старшина…
– Отставить, – остановил прапорщик и, повернув лицо к писарю, сказал: – Вот, Корзинщиков, у кого выправке учиться надо! Человек в части последние, можно сказать, часы находится, а какая преданность службе и дисциплине!..
Старшина порой любил выразиться красиво.
– Ну-у, так он же строевик, – протянул Корзинщиков.
– Он раньше писарем был, как вы сейчас, – назидательно пояснил старшина. И, обращаясь уже к Ганину, сказал: – Зря вообще-то я вас, Ганин, в расчет отпустил! Не следовало бы. Точно не следовало…
Леша улыбнулся. Сам старшина его, конечно, никогда бы не отпустил, если бы не случай на тех памятных учениях да не капитан Асабин. Был «убит» наводчик одного из орудий, потом – заменивший его номер расчета. Ганин, который находился при капитане Асабине, увидел, как у того напряглись и побелели желваки. «Вот он, звездный час!» – отчаянно и восторженно подумалось ему. Он решительно ступил к командиру:
– Товарищ капитан, разрешите мне?
У капитана не было выбора, к тому же он, видимо, знал, что батарейный писарь часами пропадает в огневом классе и на тренажерах один из лучших – дело доходило до конфликтов со старшиной, который считал, что место писаря прежде всего в канцелярии.
– Действуйте! – коротко бросил Асабин.
Этих учений Леша не забудет всю свою жизнь! Его пушка стреляла так, что командир дивизии объявил в приказе благодарность расчету, в котором при таких неожиданных и счастливых обстоятельствах Леша оказался. А после учений его вызвал капитан.
– Ну что ж, рядовой Ганин, наводчик из вас может получиться не хуже, чем писарь, – сказал он. – Особенно если душа к этому лежит. А она лежит, верно?
Ганин кивнул так поспешно, что капитан засмеялся и приказал старшине искать нового писаря.
…– Да, Ганин, так вот я что. – Прапорщик Паливода значительно смотрел на него. Была в его взгляде хитреца. – Надо, понимаешь, один транспарантик написать. Давай-ка сейчас по-быстрому…
Ну, старшина!.. Вчера на вечерней прогулке на все, как говорится, сто использовал способности уходящего в запас батарейного запевалы. Лучшему строевику из увольняемых сержантов сегодня утром приказал провести тренаж на плацу, а теперь, выходит, дошла очередь и до Ганина.
– Можно, – легко согласился Леша и направился за старшиной в ленинскую комнату. Но прежде чем приняться за уже разлинованный транспарант, достал из кармана письмо, глянул на обратный адрес. Письмо было от брата.
– Ты, Ганин, это… Не спеши, аккуратненько, – говорил между тем старшина, уже по-свойски обращаясь на «ты». Он хорошо понимал ситуацию и не приказывал, а просил. – Но, соответственно, и не медли… Кто же теперь мне транспаранты писать будет? Какой Корзинщиков чертежник…
Такая искренняя озабоченность слышалась в голосе прапорщика, что Ганину стало его жаль. Он уезжает в прекрасную новую жизнь, а старшине оставаться здесь, среди привычного, давно известного… Леша даже неловкость почувствовал, будто был в чем-то виноват.
– Не расстраивайтесь, товарищ старшина, – попробовал ободрить он прапорщика. – Из молодых, из нового пополнения подберете. Знаете, какие ребята встречаются – таланты! Транспарант им – ерунда!..