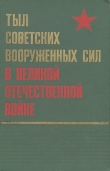Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
– Ну вот скажи мне: куда твои ракеты нацелены? Кого ты в случае чего шандарахнешь?
Алексей даже слегка отпрянул – не ожидал он такого вопроса. Взял себя в руки, стараясь выглядеть, как и прежде, спокойным, ответил:
– Это, отец, не правда, а тайна.
– Ну и что ж. Я ее не разглашу. Унесу туда. – Он потыкал пальцем в пол. – И присягу я принимал, умею хранить военные тайны.
– Не могу я тебе этого сказать. Не положено. Сам понимаешь, – сказал после долгого молчания Алексей.
Отец вдруг засмеялся, всплеснул руками:
– Вот молодец! Вот обрадовал! Ну, спасибо тебе, сынок! Уж если отцу перед смертью не сказал – значит, никому не скажешь! Так и держи! Тайну, если б сказал, я вправду с собой унес бы. Но был бы не спокоен. Все же ты ее мне сказал! А теперь я глаза закрою с улыбкой. Очень ты меня, Алеша, обрадовал. Спасибо тебе!
Алексей был еще больше озадачен этим отцовским признанием и испытанием, смущенно улыбаясь, крутнул головой:
– Ну, папа, ты даешь! Разве можно такую проверку устраивать!
– Можно! Я же тебе говорил, мне на последнем рубеже все можно. К тому же я этот разговор завел не для себя. А опять же для тебя, для людей добра желаючи. Насторожить всех вас хочу. Ну, ладно, прости, коли обидел. Ты и вправду, сынок, поезжай. Нечего тебе тут крутиться. Мы с тобой хорошо попрощались – душа моя теперь спокойна. Дай обниму тебя напоследок.
Не зная еще, действительно ли он уедет или останется, Алексей склонился к отцу. Тот бережно обнял его, прижался колючей щекой к гладкой, пахнущей одеколоном щеке сына. Задержал его в своих руках минуту-другую. Алексей тоже обхватил плечи отца, почувствовал, какой он стал легкий, усохшийся, поразился, куда делась былая налитая сила в этом теле! От отца шел теплый, родной, только его, памятный Алексею с детства, запах табака, хоть, заболев, уже давно отец не курил. «Надо же, как просмолился!» – подумал Алексей. Потом они отпустили друг друга, и оба прятали глаза, пытаясь скрыть набежавшую на них влагу.
– Ну, а теперь иди. Не будем мучить друг друга, – глухо сказал отец, не переводя на сына взор. Алексей не уходил, стоял у кровати, не зная, как поступить.
– Иди, иди. Мы с тобой солдаты, нечего нам сырость разводить. Запомни меня живого. Не хочу, чтоб покойником видел. Уезжай сегодня же. И не забывай, о чем на прощание говорили.
Алексей сделал несколько шагов назад, не отворачиваясь от отца. Кузьма Петрович так и не посмотрел в его сторону. Только когда сын повернулся спиной и пошел к двери, отец вскинулся с подушки, жадным взором устремился за ним вслед. Но теперь уже сын не оглянулся, он аккуратно, без стука прикрыл за собой дверь.
«Может быть, он прав, – думал Алексей, – лучше, если так вот живым останется в памяти. Да и выхода другого нет: отпуск кончается. Дать телеграмму, просить, чтоб продлили? Но отец, дай бог ему здоровья, вроде бы еще некоторое время протянет. Надо ехать. В крайнем случае опять прилечу, когда это случится».
Майор съездил в аэропорт за билетом. Рейс был ночной. Алексей вернулся домой, посидел с матерью на кухне, тихо пошептался с ней до самого отъезда, но в комнату, где лежал отец, больше не заходил. Только когда взял чемоданчик, мать, беззвучно заплакав, тихо спросила:
– Так и уйдешь?
– Мы попрощались. Он все сказал. Просил больше не мучить его. Ты же знаешь, как он меня любит.
– Уж это я знаю, – прошептала мать.
Алексей подошел к двери, осторожно приоткрыл ее, заглянул в щель. Отец лежал с закрытыми глазами, небритый подбородок торчал вверх. «Уж не умер ли?» Майор испуганно прикрыл дверь. Испугался не смерти отца, а что не выполнил его наказ, увидел мертвым. Испугавшись, заторопился:
– Пойду я, мам, мне пора.
– Ну, поезжай, мы уж здесь как-нибудь сами.
Но Алексей не уходил, все стоял и думал: «Как же я уйду? Зачем тогда, спрашивается, приезжал?»
И в это время отец за дверью закашлялся скрипучим кашлем старого курильщика. Прерывая и сдерживая кашель, крикнул:
– Надя! Уехал, что ли, Алексей-то?
Мать вскинула глаза на сына, а он опустил веки, подсказывая ей ответ, и крадучись пошел к выходу.
– Уехал, уехал, – ответила мать и сама ступала на цыпочках вслед за Алешей, чтоб закрыть за ним дверь…
Когда майор возвратился в часть, домой, его ждала заплаканная жена. Подала телеграмму. На этот раз в ней было всего два слова: «Папа скончался».
– Ты успел? – спросила жена.
– Что успел? – Алексей думал, что она спрашивает, успел ли похоронить.
– Застал его живым?
– А, ты об этом… Повидались.
Он не сказал, что не дождался смерти отца. И рапорт еще об одном краткосрочном отпуске писать не стал. «Пусть думают, что я успел его схоронить».
Майор вздохнул тяжело и печально. Очень жаль было отца. Жене сказал:
– Ладно, Аня, потом поплачешь, помоги мне собраться… И вот что… Может быть, ты съездишь к маме? Побудь с ней, поддержи неделю-другую. А может, согласится, вези ее сюда. Пусть с нами поживет.
Жена уехала.
Перед заступлением на дежурство подразделения выстроились на плацу. Под звуки марша вынесли знамя. В наступившей тишине перед уходом под землю Алексей попытался уловить запахи и звуки, которые его обычно встречали на поверхности после дежурства. Но, как он ни старался, не ощущал ни аромата хвои, ни шелеста ветра. Не улавливал даже дыхания сотен людей рядом в строю. Все они стояли в полном молчании. А он сам, все его думы, внимание, чувства были направлены совсем на другое – что-то очень большое и величественное.
Теперь казалось: не звуки и запахи заполняли землю, а только вот эта глубокая, полная тишина. Все замерло перед значительностью происходящего. И в этой затаившейся то ли от восторга, то ли от страха жизни вдруг громко и властно прозвучали слова генерала:
– Для защиты нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, первой смене на боевое дежурство заступить!
Через некоторое время, опускаясь в лифте все глубже в полную тишину, майор с грустью думал, опять вспоминая отца: «Вот и я под землей. Я даже глубже тебя. Я живой, а ты мертвый. Выходит, под землю мы теперь укрываем не только смерть, но и жизнь. Земля – самый надежный хранитель. Ну что же, батя, буду держать, как и обещал тебе, шнур натянутым, чтобы охранять миллионы жизней, чтобы сдерживать миллионы смертей…»
Майор сел к пульту. Светящиеся лампочки, рычажки, кнопки, стрелки в различных приборах знакомой россыпью раскинулись перед ним на панели. «И шнур во мне…» – подумал Алексей, окончательно отрешаясь от всего земного. А точнее, от всего своего личного и как бы превращаясь в пульс того огромного и страшного, что скрыто здесь под землей.
Николай Горбачев
ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВКА
Отрывок из романа «Битва»
По громкой связи объявили часовую готовность.
Командный пункт заливал яркий свет дневных ламп, веяло влажной приятной прохладой, и Янов, сидя за центральным пультом, нет-нет да и ловил себя на непрошеной мысли: неужели все это на многометровой глубине в толще земли? Неужели такое в Шантарске, а не в благодатной лесной тиши среднерусской полосы? Центральный пульт растянулся просторно, длинной скобой, отливает мягкой муаровой рябью, многочисленные табло поблескивают разноцветными стеклами – красными, зелеными, белыми; на вертикальной и горизонтальной панелях скобы – приборы, индикаторы, переключатели с темными эбонитовыми ручками, ряды тумблеров и разномастных кнопок – все объединено, сгруппировано по известным разумным принципам, и теперь он, Янов, окидывая взглядом панели, стремился постичь, что здесь к чему. На горизонтальной панели обособленной группой размещались коробки телефонов, динамики громкой связи, селекторное переговорное устройство с баянным многорядьем рычажков, кнопок и сигнальных глазков.
Народу много, но каждый, кто находился здесь, видно, понимал значение момента, потому и переговаривались редко, лишь по необходимости, негромко, не заглушая притушенного, точно шмелиного, гудения вентиляторов. Кося взглядом из-под нависших век, Янов видел сразу почти всех, и знал он тоже всех: главный конструктор Умнов, застывший в напряженной строгости, смаргивал под очками; министр Звягинцев, все больше полнеющий с возрастом, рассеянная улыбка блуждала на полном, тугом и чистом лице; два-три других представителя министерства, управления «Спецмонтаж»; конструкторы комплексов и систем «Меркурия»; генералы Министерства обороны; генерал Бондарин, будто в предельном спокойствии куривший, сухо морщил волевое острое лицо; полигонное начальство – Сергеев, Фурашов, Моренов, начальники некоторых полигонных служб… Видел Янов в центре пульта, в кресле с черной низкой спинкой, и генерал-лейтенанта Купрасова – председатель государственной комиссии крутолоб, с большими залысинами, словно сбит из одних жил, энергичен и подвижен, и Янову порой кажется, что Купрасов даже сдерживает себя, свою энергию. Что ж, пусть включается. И председателем госкомиссии ему быть с руки: пусть-ка и видит, и принимает то, чем придется «владеть»…
Янов сидел у пульта не в центре, а левее от генерала Купрасова, так что в центре, как бы олицетворяя главенство роли и всю ответственность за предстоящее событие, оказывались Умнов и генерал Купрасов. Словно чтоб подчеркнуть свою уже несущественную, второстепенную здесь роль, Янов вел себя не по обстановке просто, не сосредоточенно, как многие другие, поворачивался, посматривал на панели пульта, на сигнальные табло с каким-то игривым настроением, и в глазах его под набрякшими складками-веками вспыхивали хитро-веселые чертики – сдавалось, он вот обернется, обведет взглядом всех, кто собрался на командном пункте, спросит со смешком: «А чего вы так нахохлились, строгие и суровые? Берите пример с меня – я знаю, верю, будет все в порядке!»
Чертики в глазах Янова, однако, гасли, и своего вопроса, всех этих слов он не произносил: обстановка серьезная, и люди, собравшиеся возле пульта управления, правы в своей строгости и сосредоточенности, потому что далеко еще не ясно, что будет, пусть ты и настроен оптимистически, но дело-то трудное, не зависит от твоего настроения, встретят ли антиракеты те, другие, баллистические ракеты… Твое настроение – внутренний барометр твоих дел, вот того решения, которое ты наконец принял: уходишь, оставляешь службу, переходишь в «райскую группу», откуда, как говорят шутники, дорога только в рай… Но ты же приехал сюда не только, чтоб ввести в курс генерала Купрасова, хотя и это важно; приехал с тайной мыслью – и ты ее никому не откроешь, ни с кем ею не поделишься, – приехал посмотреть: какое же оно в окончательном виде, оружие? Устоит ли оно против наступательных ракет, против тех, о которых теперь шумят, на которые делают ставку в гонке вооружений? Какая в нем сила? Конечно, ты далек от тщеславия, что, мол, вот в твое время все было другим, все было лучше, надежнее, весомее, – есть, есть у стариков такое представление, но тобой движет иное, ты просто хочешь увериться, понять, все ли на верном пути, убедиться и успокоиться. Да, убедиться и успокоиться.
Он сейчас вспомнил, что объявил свое решение об уходе сначала дома – в воскресный день, во время ужина. Невестка, жена сына Аркадия, чернявая, мягкая и добрая, подстриженная коротко, «под польку», раза два перед тем заглядывала в дверь его домашнего кабинета и тихо прикрывала ее, ничего не говоря; и он понимал с легкой раздраженностью, что надо оставить рапорт, идти к столу, там все накрыто, там Аркадий и внучка. Он как раз начал рапорт и не хотел отрываться, полагая: вот прервется – и тотчас утратятся и настрой, и накал, изменятся движущие им чувства. А они были сложными: Янов испытывал в душе и удовлетворение от того, что принял такое решение, и грусть – все, теперь будешь не у дел, начнешь «райскую жизнь» (смешно – райскую!), – и вместе обиду, не очень ясную, неотчетливую, но она нет-нет и накатывала кипятком. Уже порвал три или четыре варианта рапорта – не нравились. Что-то в них, когда прочитывал, было не то и не так: то казалось неубедительно, то жестко, по-канцелярски, то, напротив, вроде рассиропленно, слезливо, и он безжалостно на мелкие клочки рвал написанный рапорт и принимался за новый. В конце концов написал коротко:
«Прошу освободить меня от занимаемой должности, так как возраст и высокие требования, вызванные техническим прогрессом, особенно в последние годы, не позволяют мне выполнять надлежащим образом возложенные на меня обязанности».
Да, в этом последнем варианте не было уже ничего такого, что ему хотелось и что он пытался сказать в предыдущих – о выполненном им долге, о пройденном в армии за сорок с лишним лет пути от рядового конноартиллерийского дивизиона до маршала артиллерии, – теперь все без эмоций, жестко и лаконично, но он остался доволен написанным.
Утром в понедельник он явился на службу в свое обычное время, как всегда оставив ЗИМ на площади и пройдя положенные двести метров пешком. Часового у входных дубовых дверей миновал без пяти минут девять, поднялся к себе. Вставшему из-за стола в приемной подполковнику Скрипнику сказал, чтоб доложил, когда появится у себя главком. Да, все в это утро было обычным, совершалось по заведенному кругу, и Скрипник, проницательный, изучивший, кажется, за эти годы все до единой привычки Янова – он мог каким-то чутьем угадывать его настроение, сглаживать углы, тактично, без подобострастия, что нравилось Янову, – Скрипник, однако, ничего не заметил. И Янов, отдав приказание и в ответ услышав «есть», с неожиданной грустью подумал: «Вот и вы, товарищ Скрипник, хоть и аккуратист, все на вас ладно, подогнанно, а вот и вы погрузнели, морщинки у глаз, и зачес волос вон как просвечивает».
К главкому он явился, выждав после скрипниковского сообщения минут пять: пусть тот сядет за стол, выслушает доклад дежурного генерала, а уж тогда… Янов удивился, даже испытал некую неловкость, когда тот, против обыкновения, встретил приветливо и даже дружелюбно – удлиненное лицо чуть разгладилось от морщин, было мягче, – спросил о самочувствии, настроении. Главком стал говорить о том, что предложено составить государственную комиссию по приему «Меркурия».
– Надо подработать состав от военных. Возьмитесь, Дмитрий Николаевич, подготовьте предложения. Кстати, председателем комиссии, возможно, вы? Есть опыт, не одну систему приняли…
– Думаю, нецелесообразно вести речь обо мне, – сказал Янов и почувствовал, что говорит спокойно, до странности спокойно, хотя чуть раньше, выйдя из своего кабинета и направляясь к главкому, ощутил скованность, свинцовую тяжесть в ногах – как все произойдет, как вручит рапорт? И, ощущая это спокойствие, удивляясь и радуясь ему, повторил: – Нецелесообразно по двум причинам. Во-первых, есть генерал Купрасов, ему и карты в руки. Его – председателем комиссии… Во-вторых… – Раскрыв папку, Янов подал лист лощеной бумаги главкому, тот вздернулся, смотрел секунду-другую на Янова, словно решая, брать или не брать бумагу, глаза настороженно щурились. – Вот мой рапорт, – все так же спокойно пояснил Янов.
Какой-то огонек, короткий, точно вспышка спички в сыром темном месте, мелькнул в глазах главкома, он как бы нехотя – вот, мол, смотри, без желания беру – взял рапорт, вздев очки, долго читал единственную фразу, и Янов, напряженно вглядываясь в узкое резкое лицо, стараясь хоть что-то отметить на нем, как бы вслед за главкомом мысленно повторял слова рапорта: «Прошу освободить меня от занимаемой должности…»
Наконец главком отложил рапорт на край широкого полированного стола, не глядя на Янова, мрачновато сказал:
– Министру доложу. Мне за вас в свое время мораль читал – кадры опытные беречь… Пока оставайтесь и исполняйте обязанности.
– Хорошо. А что касается генерала Купрасова, готов ввести его в курс дела, даже поехать на полигон, на предстоящее испытание «Меркурия».
– Да-да, знаю. Было бы неплохо осуществить. Я – за. Пожалуйста.
Слушая главкома, Янов вновь, однако с поднявшейся откуда-то из глубины горечью думал, как бы в такт словам главкома: «Да-да, сорок с лишним лет отслужил, а точнее, сорок четыре и ухожу, а у тебя ни участия, ни хотя бы формального сожаления». Вслух же спокойно сказал:
– Ясно, все сделаю. – И мысленно, уже про себя, сурово добавил: «Сделаю по долгу и совести». Ему казалось, что тем самым он проявляет твердость перед этим человеком, он всегда и везде всю свою жизнь только так и поступал, поступит и теперь; и вместе теми словами – «по долгу и совести» – он пресекал свою горечь и обиду, как бы отделял просьбу этого человека от того убеждения, по которому он все будет делать…
Больше говорить было не о чем, и, испытывая неодолимое желание остаться одному, побыть наедине с самим собой, Янов, попросив разрешения, ушел.
Даже то малое движение, те малые разговоры, какие еще возникали на командном пункте, разом прекратились; мягко, с легким щелчком включились динамики громкой связи, их далекий, едва уловимый шорох, словно принесенный из глубин Вселенной, наложился на приглушенное гудение вентиляционной системы, и голос, размеренный и четкий, голос Фурашова, руководителя испытаний, разнесся густо, чеканно:
– Внимание! Обнаружен запуск стратегических ракет, идет непрерывное слежение за ними. Все системы комплекса «Меркурий» автоматически введены в режим боевой работы. Товарищ председатель государственной комиссии, товарищи члены государственной комиссии, сигнализация пульта готовности, доклады руководителей систем комплекса подтверждают: «Меркурий» в полной готовности к действию.
Тотчас Янов отметил, как высветился пульт управления, загорелись матово-белым светом ряды лампочек слева; одно за другим, в какой-то своей закономерности, вспыхивали квадратные табло – их тут десятки, разноцветных, самой разной величины, – ровным светом сияли вертикальные стойки с монограммами, графиками, системой пространственных координат; аппаратные блоки, загромождавшие стены командного пункта, тоже словно бы высветились – там заработали, перемигиваясь, бесчисленные сигнальные лампочки. На командном пункте стало заметно светлее.
Все, кто находился здесь, словно прониклись сознанием значительности момента: через считанные минуты по воле умных и тонких машин начнут стартовать антиракеты, одна за другой будут соскальзывать со стартовых установок, устремляться в небо, в бескрайнюю голубизну, навстречу тем ракетам, траектории которых выписывают сейчас невидимые перья – голубоватые дужки прочерчиваются, ложатся на табло вертикальных стоек. И хотя отдаленное гудение вентиляторов, комариный зуд ламп, легкое потрескивание разрядников, шорох в каналах громкой связи – все вливалось в чуть слышную симфонию звуков, однако теперь, после мощного, усиленного голоса Фурашова, все точно оборвалось, отрезалось; гулкая, взрывчатая тишина спрессовалась на командном пункте. И тишина эта, подчеркнутая негромкой металлически-отсечной работой метронома – он с маятниковой неумолимостью отсчитывает медленное время, – казалась особенно чуткой, настороженной.
Несколько пообвыкнув после всплеснувшегося беспокойства и все же еще чувствуя внутреннее напряжение, которое – Янов знал – теперь уж не отпустит, напротив, будет лишь усиливаться, маршал, торопясь, будто в этом было что-то важное, будто это могло относиться к нынешнему испытанию, подумал уже без горечи и обиды, усмехнувшись в душе над собой, о тех своих днях после вручения рапорта. Тогда он испытывал странную потерянность; казалось, с таким его шагом кончалось все: дела, постоянная забота, думы, поиски, кончалась сама жизнь, он как рыба, выброшенная внезапной волной прибоя на берег, – обратно в родную стихию возврата нет… Так думалось и представлялось ему тогда, и была такая тоска, такой безрадостный мрак на душе, что сдавалось, ничем уже свое состояние он не развеет, не просветлит; перерезана, отсечена пуповина жизни. Это было самое страшное, чего можно было ждать и о чем он никогда не думал, чего никогда не представлял. Другие рядом уходили в запас, в отставку, а у него, думалось, будет всю жизнь так – работа, занятость «под завязку»; и если уж когда и являлась мысль, что жизнь не бесконечна, придет и его черед, то соображалось: в делах, на ходу он встретит смерть, как говорится, раз – и нету… Ан вышло все не так. Не так! Что ж, теперь дело сделано. Конечно же еще пройдет какое-то время, пока его рапорт будет гулять по инстанциям. Главком – этот в душе рад, доволен, хотя и не выказал ни в момент вручения рапорта, ни после своих истинных чувств, а вот когда дойдет рапорт до министра… Что скажет?
На командном пункте спрессовавшуюся напряженную тишину вдруг прорезал голос Умнова. Янов, вскинув голову, увидел главного конструктора, тот, стоя, чуть склонившись к сетчатому шару микрофона, говорил по селектору, рука, лежавшая на черной блестящей панели с многорядьем кнопок, заметно подрагивала, но голос, хотя и был жестковатым, звучал негромко, ровно:
– На «Крабе»? Как по пункту третьему программы? Понял. Обратите внимание на восьмой пункт… Установите контроль за горячим резервом. Ну, хорошо… «Крыша»? «Крыша»? Эдуард Иванович? Как ведут себя семьдесят первые блоки? Сбоев нет? Та-ак… Наша ночная эпопея оправдывается? Ну вот… Не зря бдели! Следите! Думаю, цепочку демпфирующую надо поставить, но после. Задача вам ясна… Пока! «Омар»? Контрольная аппаратура по пункту пятнадцатому в норме?
Слушая голос Умнова, стараясь вникнуть в технические термины и фразы, которыми обменивались сейчас, в эти последние минуты, главный со своими помощниками на местах, далеко не все представляя себе из этих переговоров, Янов сидел в кресле возле пульта управления с рассеянной улыбкой, и ему казалось, что во всем происходящем сейчас тут кроется пока что некая большая тайна, но что вот пройдут какие-то еще минуты в бесконечном необратимом времени – и всем им, и ему, Янову, откроется что-то значительное, явится непременно важное постижение. Это ощущение вошло в него, Янов жил им, был сейчас весь в этом ожидании.
Вновь мягко звякнули, включаясь, динамики, и один за другим посыпались доклады, перекрывая разговор главного по селектору:
– Есть автоматическое сопровождение целей!
– Вычислительные средства ведут расчет траектории!
– Старт вышел на режим подготовки!
Вскользь, сознанием, заполненным теперь всецело тем ожиданием, в котором он находился, Янов отметил, что и без докладов вся обстановка ясна: состояние многочисленной аппаратуры комплекса «Меркурий», разбросанной за десятки километров отсюда, от командного пункта, и приведенной теперь в состояние единой готовности, единого напряжения, точно перед гигантским рывком, отражалось на индикаторных стойках, на табло, вспыхивавших, перемигивавшихся или горевших ровным спокойным светом, на экранах, больших и круглых, высвечивавшихся вслед за разверткой молочно-белым клубящимся пространством. И на миг в обостренном до крайности, как бы опаленном воображении Янову предстало огромное, бесконечное небо, оно где-то чистое, безбрежно голубое, где-то клубится молочно-белыми облаками, где-то извергает бурю, грозу, льет тропическим дождем, пылит белой снежной пургой; оно, как бы в одном охвате, моментально высвеченное, открылось ему, и это небо, бесконечное пространство, прошивали скоростью ракеты – они пока были лишь белыми точками, чертили следы-дужки на экранах, на индикаторных стойках…
В воображении, теперь как бы раздвинувшем всю толщу тверди, лежавшую над бункером, Янов увидел и другое: на стартовом комплексе «Меркурия» ощетинились ракеты, медленно, точно в царственной сосредоточенности и строгости, поворачиваясь на пусковых установках, поворачиваясь в синхронной четкости, нацеливаясь на незримые точки в далеком и бесконечном пространстве. Сомкнув веки, Янов мысленно даже считал ракеты на установках – губы его, бледные, бескровные, непроизвольно шевелились: одна, две… пять… семь…
Он вздрогнул: в динамиках громкой связи объявили трехминутную готовность, и Янов, возвращаясь к реальности, покосил глазами из-под тяжелых, налитых век – не заметил ли кто его старческой слабости, причуды? Еще чего, шептуном стал! Но успокоился: на него, кажется, не обращали внимания, и он уже пооткрытее взглянул на все, что теперь делалось здесь. Под потолком вспыхнули пронзительно красные буквы: «Идет боевая работа», багряный отблеск лег на лица людей, столпившихся у скобы пульта плотно, в молчаливой сосредоточенности – вспыхнувшее под потолком табло и только что объявленная по громкой связи готовность действовали магически. Багряный отблеск делал суровее и жестче лица всех, кто сгрудился возле пульта. Многие стояли; кроме Янова сидели в креслах лишь генерал Купрасов, Умнов, министр Звягинцев и генерал Бондарин. Взгляд Янова, скользнувший сейчас коротко по лицам, точно в моментальной фотографии, зафиксировал: генерал Купрасов, подобравшись, вздернул плечи, весь застыл в напряжении, супил светло-пшеничные брови, бугристый лоб сморщился двумя короткими складками; лицо Умнова бледновато-мраморное, с отхлынувшей кровью, но глаза под очками пронзительные, и в них – порыв и работа разума; министр Звягинцев сохраняет спокойствие, но оно лишь кажущееся – Янову легко догадаться, что значит и для Звягинцева этот день: вместе они стояли за «Меркурий» в том споре со «Щитом», – чуть приметная теперь сухость в глазах, короткие складки в уголках губ выдают напряжение и ожидание… Аскетическое темное лицо генерала Бондарина словно больше сжалось, кожа натянулась на скулах, утончилась, блестит, он уже не курит, руки на кромке панели, подрагивают тонкие пальцы.
Янов успел подумать, что три минуты будут длиться долго, целую вечность, и хотя ему представлялось, что он человек уже посторонний, все, что делается здесь, касается его постольку, поскольку – еще неизвестно, потребуется ли его мнение, возникнет ли такая нужда, – он, однако, ощутил: общее напряжение сжало его тисками, сломав, выходит, его прежнюю хрупкую защитительную преграду… Он стал думать о программе испытания, она была напряженной и жесткой, те ракеты, которые сейчас точками медленно двигались по экрану, – лишь первая волна, предполагаются разные сложные варианты налетов; и Янов вновь с удовлетворением отметил: такого испытания потребовал генерал Купрасов… «Что ж, проявил настойчивость, понимание и, выходит… зрелость. Так что сомнения твои…»
– До пуска одна минута! До пуска одна минута!
Нет, он недовершил мысли: сейчас будто разом с этим веским докладом, с зажегшимся на вертикальной панели зеленым табло каким-то моментальным ураганом из сознания Янова вымело все; он нечего не испытывал, лишь видел зеленое, точно циклопический глаз, табло, видел, как тонкая секундная стрелка на круглых часах пульта, подрагивая, скользила по кругу циферблата, и, кажется, где-то в самой голове, резонируя, металлически отстукивал метроном…
– Пуск! Пуск! Пуск!
Поворачиваясь всем корпусом к экранам, Янов передвинул и отечные, затяжелевшие ноги; по круглому выпуклому полю бежали, прочерчивая белые траектории, точки, они бежали стремительно навстречу тем другим, которые Янов видел раньше, и сантиметры на экране, разделявшие их, убывали на глазах катастрофически. Сейчас Янова занимали лишь вот эти сокращавшиеся, съедавшиеся сантиметры – они таили в себе все: удачу, беду, успех, поражение…
Точно изолировавшись от всего, не зная и не представляя, что делали теперь другие на КП, Янов ждал момента, когда точки встретятся, сольются, – это будет тот самый момент, которого они ждут, ради которого они сидят тут, ради которого многие годы люди трудились, горели в поисках, терпели лишения. И он, как ни напрягался, как ни ждал мига, как ни старался увидеть это слияние и мысленно подталкивал, подстегивал время, он все же его не заметил; Янова заставили вздрогнуть доклады, взметнувшиеся один за другим:
– Первая – встреча! Вторая – встреча!
Он уже не слышал иных докладов, не видел экрана – все растеклось перед глазами, и, оглушенный наплывшими чувствами, щемящей и щекотной теплотой, сдавившей горло, не желая, чтоб видели его, как он думал, старческие проявления, ругая себя в душе, Янов поднялся, не замеченный никем – а может, ему так только показалось, – пошел за штору, на выход из командного пункта.