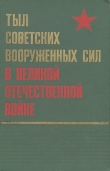Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Не знаю, как бы я ответил, если бы Кондаков стал на меня кричать, читать мораль, доказывать прописные истины, не знаю. Но он сделал просто. Снова повернувшись спиной к ветру, будто желая закурить еще одну папиросу, проговорил полунасмешливо:
– Частушка на местные темы… Тебя как зовут? Алешей, правильно… Слушай… Мы с миленком загорали во сосновой роще… Вдруг миленок… Вдруг Алеша говорит: лучше бы у тещи!
Не опоздали, прибежали минута в минуту. Доложили, так, мол, и так, явились из городского увольнения, замечаний не имеем. Как-то странно вышло: и докладывали мы вместе, почти в голос. Слова ведь одни и те же. Старшина, заступивший помдежем в этот вечер, улыбнулся, принято докладывать раздельно, а тут – дуэт, но понимающе махнул рукой: «Отдыхайте». Старшина, а вернее – прапорщик Паращук сам еще недавно служил срочную здесь же, в нашем первом дивизионе, и знал, что такое вернуться минута в минуту из города, на «барыге», сделать марш-бросок от станцийки железнодорожной, без опоздания явиться к помдежу, доложить… Да как докладывают-то: четко, как артисты-куплетисты, в голос… Непорядок небольшой, не по Уставу, ну да ладно – один-то впервые был в городском увольнении!
Когда мы пошлепали с Кондаковым в «сурлепчиках», так почему-то называли в дивизионе резиновые тапки-шлепанцы, мыть ноги на ночь, я снова, как и тогда, после первой встречи-разговора о родной стороне, многое хотел сказать своему нежданному-негаданному другу, но выдавил лишь простое: «Николай, давай закурим».
Не богата внешне событиями наша жизнь: наряд, караул, изучение техники, политзанятия, бесконечные тренировки, регламентные работы, снова наряды, караулы, тренировки… Совсем не так красиво, как в кино показывают. Да и кино-то любят снимать про десантников или танкистов… Прыжки с неба, бои на открытой местности… А у нас что? Во время регламентных работ дивизион вообще похож на стан большой полевой бригады, где механизаторы, разбросав свою технику по частям-блокам, готовятся к уборке или посевной… Когда идет боевая работа – на позиции только локатор крутит бесконечные круги своей антенной да остроносые ракеты, войдя в синхронизацию с локатором, настороженно всматриваются в небо, вздрагивая, как гончие при виде добычи, тщательно приноравливаясь, готовые мгновенно рвануться по невидимому для других, но известному только им, ракетам, электронному лучу станции наведения.
Большие учения мы называем словом «война». И говорим так: «До войны осталась неделя», «после войны обещали отпуск». Полигонные стрельбы сдавали на отлично, но еще ни разу не стартовала ракета, «голубушка», как мы ее зовем, с нашей позиции. Конечно, это для нас ракета – «голубушка», а для кого-то она злее самой злой мачехи. Да что там «мачехи»?.. Трудно даже подыскать сравнение, кем является наша «голубушка» для непрошеного гостя.
Прошла в солдатских заботах-работах зима, промелькнула быстрая весна, наступило лето. И вот в одну из душных июльских ночей прозвучала «тревога», кодовое название которой сразу насторожило всех – от оператора ручного сопровождения до командира. Такой сигнал объявляли в особо важных случаях. Управление с КП полка вел сам «батя». Так мы между собой называли командира полка.
С аэродрома в воздух были подняты истребители-перехватчики. Они сейчас маленькими негаснущими искорками скользили по экрану ВИКО, выносного индикатора кругового обзора, не входя в зону действия наших зенитно-ракетных комплексов. Сегодня даже командир дивизиона подполковник Бородин, всегда каким-то неведомым чутьем ракетчика-зенитчика угадывавший, какие цели и с каких направлений пойдут на дивизион, молча сидел у ВИКО и ничего не мог сказать. Учения или нарушитель? Впрочем, какая разница: дивизион готов к тому и другому. С командного пункта полка пришел приказ выключить сторожевые прожекторы на вышках, ввести полное затемнение и перейти на питание от дизель-электростанции. Впрочем, это тоже ни о чем не говорило. И на учениях посредники вводили такие закавыки-вводные, еще похлеще…
«Точка» настороженно замерла…
Всю ночь сторожко всматривались хвостатые ракеты в темное небо. А под утро пришел приказ сменить позицию, перейти на запасную, развернуться и быть готовым… К чему? Опять неясно. И подполковник Бородин, и все офицеры, что находились вместе с ним в кабине управления боем, и солдаты-операторы только терялись в догадках. Но не было ни суеты, ни спешки, ни удивления. Надо просто работать.
И работали.
Аппаратная, где служил Кондаков, первой свернула свое хозяйство. Тягач вытащил кабину из капонира. До команды «Начать марш!» оставалось несколько минут, где-то ухали кувалдами стартовики, выбивая клинья из зарядных мостиков. Путь предстоял трудный, по размытой дождями проселочной дороге, местами совсем по бездорожью. Кондаков заскочил на склад ЗИПа, к ефрейтору Макарьеву.
– Макарьев, дорога дальняя, пни да кочки, а система рядового Уголкова, сам знаешь, не любит тряски… Два прибора… на запас, а?
– Пускай сам Уголков и заботится, ты-то чего…
– Это для него… и для его системы первый марш… Он не все знает… Не знает, что его система не любит тряски, а тут пни да кочки…
– У меня склад, а не дойная корова. Уверяю, ничего не случится… – Макарьев был непреклонен в своей скупости и прижимистости.
– На «ничего» пусть господь бог надеется, – строго сложил на груди руки Кондаков, будто вызывал Макарьева на ринг. – А мы – солдаты. Солдатам запас спину, извиняюсь, не дерет. Да и богу мы не родня…
Я с интересом прислушивался к их беззлобной перепалке. Да, это для моей системы просил приборы Кондаков. Старые, конечно, работали, параметры были в допуске и в случае прохода цели ни я, ни Кондаков – а наши системы зависели друг от друга – никто бы не был виноват. Все-таки выбил Кондаков у прижимистого Макарьева, которого за необыкновенную скупость порой навеличивали Плюшкиным, приборы и на новой позиции помог мне поставить их, отрегулировать, и система полностью снимала «местники», отражения гор, облаков, в общем, местные помехи, а по-солдатски, по-простому – «лапшу». Так в шутку прозвали эти белые пятна на экранах.
Используя складки местности – две цепи гор, «цель», войдя в «зону поражения», резко спикировала и, видимо по телекопирам, пошла почти над самой землей, на сверхмалой высоте. Как я был благодарен Кондакову! И вряд ли можно было уловить этот крохотный импульс, скользящий с невероятной скоростью. Это был мой первый выстрел.
Мы вышли из жаркой кабины, когда уже занялось утро. Березовые рощи были серыми от тумана. Солнечный диск напоминал желток яйца, плавающий в молоке. Над позицией, перебивая вкус пресного тумана, лесной прели и свежих грибов, стоял крепкий и терпкий запах.
Над зарослями шиповника гудели лесные пчелы.
Где-то совсем неподалеку стрекотали сенокосилки.
Мы спустились с Кондаковым к озеру. Николай отогнал от берега прибитую ветром травяную гниль, сказал мне:
– Умывайся.
Я подошел к воде. Но не смог зачерпнуть: пальцы отказывались повиноваться. Они, казалось, все еще чувствовали холодный эбонит штурвала – я служил оператором сопровождения цели по азимуту. Я дрожал, но не от холода.
– Это бывает, – просто сказал Николай, – особенно после первого выстрела. Потом руки будут тверже.
– Николай, – сказал я, – давай сначала закурим.
Он достал свой портсигар, с неглубокими вмятинами и трещинкой на крышке, мы сели на поваленную ветром осину и закурили. Но ровно минуту глаза Кондакова хранили серьезность.
– Хочешь частушку? – спросил он. – На местную тему… Слушай…
«УПТ» нули не давит,
Хоть кричи, хоть волком вой.
Командир мозги мне правит,
Мама, я хочу домой…
Мимо, на тягаче, провезли обломки сбитой «цели».
Михаил Чванов
СЫПАЛИСЬ ЛИСТЬЯ
Рассказ
Шли маневры. После оглушительного марша танки вот уже несколько суток тупо дремали в березовой роще меж двух маленьких, затерявшихся в тихих полях деревенек.
Была осень. Печально светились последние дни сентября, и роща на закате томилась застенчивым торжественным светом. Поля были убраны, над деревеньками тянулись к югу журавлиные клинья, в золотой стерне грустно трубили им вслед разжиревшие гуси, и сумятный ветер метался по сыплющим желтым дождем перелескам, до снега торопился обтрясти их.
От деревеньки к деревеньке по ту сторону речки вилась проселочная дорога, иногда она пряталась в лощинах или за одинокими, сгорбленными временем и ветрами ветлами и снова выскакивала на желтые пригорки. Было тихо, светло и уютно на уставшей за год земле.
По дороге изредка тянулись телеги с соломой да раз в день неслышно пилил старенький почтовый грузовик. Пешком же ходили тропой по эту сторону речки, совсем рядом с березовой рощей, в которой теперь затаились угрюмые танки, бог весть откуда нагрянувшие ветреной ночью, и деревеньки от этого тревожного соседства стали еще тише.
Только у мальчишек был праздник. Неожиданно привалило счастье, да такое, что и во сне не всегда приснится: в березовой роще, которую они знали до самого последнего кустика, прятались танки, самые настоящие танки! Мальчишки из меньшей деревеньки в школу бегали в деревеньку, что побольше. И из дому они выходили теперь совсем рано, чтобы перед уроками успеть поторчать около рощи, которая вдруг стала недоступной, а потому вдвое таинственной. Но неразговорчивые часовые и близко не подпускали к ней. Мальчишки собирались в кучу и, восторженно перешептываясь, глазели издалека на замаскированные молодыми березками боевые машины. В полдень они бежали обратно, и теперь были готовы торчать около рощи до ночи, пока не приходил с хворостиной кто-нибудь из родителей. Или, грозно насупившись, с автоматным ножом на поясе, к мальчишкам начинал спускаться усатый старшина Довгулов, и они, подхватив портфели и ранцы, обращались в молчаливое бегство.
Торопливо проходили женщины с хозяйственными сумками – в магазин. Боязливо косясь, семенили старушки. Обиженно-независимо шли мужчины и старики. В первый же день многие из них, особенно ежели кто навеселе, после работы чинно потянулись к роще: побалагурить с солдатами, помусолить с ними махорку. Ведь почти все бывшие солдаты или даже фронтовики, а некоторые и танкисты – а танкисту с танкистом всегда есть о чем поговорить. К тому же у многих сейчас сыновья в солдатах. Но снисходительно-неприступные часовые еще издалека сурово и равнодушно гасили эти душевные солдатские и отцовские чувства, отчего в сердцах зарождалась обида. И может быть, поэтому, а может, просто по случаю окончания уборки мужики чаще стали заглядывать в сельповскую лавку, потом собирались кучками на чьих-нибудь бревнах, вспоминали войну, много вздыхали, а вернувшись домой, отыскивали в сундуках свои солдатские награды, старые фотографии не вернувшихся с войны сыновей, братьев.
А вечером, уже в сумерках, в сторону меньшей деревеньки проходил нарядный тракторист с баяном. Обратно он возвращался обычно только перед рассветом и будил неуютно спавших под осенними березами солдат залихватским перебором. Проходя мимо рощи, он неизменно начинал драть «Трех танкистов». На холодную броню сыпались вспугнутые листья, солдаты со сна хмуро ругались, грозили хорошенько отдуть счастливого тракториста, но даже этого не могли сделать, так как не имели права выйти за линию часовых.
Но как-то командир первого взвода лейтенант Горохов подкараулил тракториста.
– Слушай, парень, – сказал он дружелюбно, они были почти ровесники, – счастье из тебя так и прет. Это хорошо. Но не буди ночью, не зли моих ребят. Не трави, ради тебя же прошу. Иначе они тебе как-нибудь шею свернут.
Тракторист независимо усмехнулся, небрежным поворотом плеча сбросил руку Горохова и, вызывающе громко раздирая мехи, пошел своей дорогой.
А еще – утром и в полдень – то в одно время с ребятишками, то чуть позже их – мимо рощи проходила тоненькая девушка со стопкой тетрадей под мышкой. Шла девушка быстро, пепельные пряди развевались на ветру, закрывала глаза, мягким взмахом она отбрасывала их назад, волосы снова спадали на лоб, все это, видимо, очень нравилось ей, и она улыбалась. Но как только подходила к роще, легкий шаг путался, девушка низко опускала голову и, ни разу не посмотрев в сторону рощи, напряженно и как-то неловко, почти бегом, проходила мимо.
Каждый раз лейтенант Горохов старался понять, почему ему так больно смотреть ей вслед. Ведь он ничего о ней не знает. И даже не знает, как ее зовут.
Ее испуг, когда Горохов первый раз столкнулся с ней на тропе, был совсем детским, но уже в следующую секунду она смотрела на него чуть ли не по-матерински скорбно.
Откуда это чувство, словно он знает ее давным-давно и ему больно за все, что с ней будет? Откуда все это? Ведь он увидел ее первый раз всего три дня назад, а может, уже через час опять протрубят тревогу – и опять, уже в который раз, останутся за плечами в грохочущей пыли и эта сентиментальная, теперь искромсанная танками роща, и крошечные, притихшие в недобром ожидании деревеньки.
Горохов снова и снова вспоминал первое утро в этой роще… Танк словно споткнулся, уткнувшись в огромный трухлявый пень, замер – и в уши ворвалась, оказывается, еще существующая на свете тишина. Горохов знал, но все еще не верилось, что этот оглушительный марш в неизвестность окончен. Хоть ненадолго, но окончен. Горохов продолжал сидеть с закрытыми глазами, пока его не толкнули. Тогда он открыл люк – в глаза, подобно взрывной волне, ударило рассветное небо, вовнутрь хлынул запах прелой, чуть подмерзшей за ночь листвы.
Горохов зажмурился от ослепительной синевы и перебросил затекшее и отяжелевшее от усталости тело через край люка. Земля качнулась под ногами, и Горохов торопливо прислонился к березке рядом с танком. Было тихо. Было до того тихо, что густо шумело в ушах. Лишь где-то за холмами чуть слышно стрекотали тракторы, и только теперь, вслушиваясь в их спокойное, даже добродушное ворчанье, Горохов наконец поверил, что это всего-навсего очередные маневры и на земле ничего не случилось.
Изнурительный марш был неожиданно прерван, в неподготовленном к этому мозгу внезапно образовался какой-то вакуум, и Горохов только сейчас понял, как он устал. Он стоял, прислонившись к дереву, и не замечал вокруг себя ровно ничего: ни торжественной красоты осеннего утра, ни сжатых полей, ни деревенек. Его немигающие глаза словно блуждали в тумане. Вдруг зацепились за сверкающую ленту воды под пригорком: надо же, он ее сразу и не заметил. Горохов с трудом оторвался от дерева – на плечи с жестяным шорохом посыпались листья. Машинально выполнял приказы, столь же машинально отдавал свои, а перед невидящими глазами все это время качалась прохладная лента воды. Как только был отдан последний приказ, заткнул за пояс рядом с пистолетом полотенце и, медленно переставляя непослушные, онемевшие ноги, стал спускаться к речке. Вдруг ошеломленно остановился. По тропинке навстречу, как в его частых юношеских снах, улыбаясь, шла девушка, смотрела себе под ноги и ворошила листья.
В голове еще тонко звенели моторы, и он ничего не мог понять. Странное видение счастливо смеющейся девушки никак не вязалось со всем тем, чем он жил последние дни. Как она очутилась здесь, среди танков, в самой гуще военной игры? Может, это уже сон?
Горохов рукавом провел по глазам, но девушка по-прежнему шла навстречу. Нагнувшись, подобрала с земли что-то желтое и, повернувшись к Горохову спиной, стала рассматривать это желтое на солнце. Горохов невидяще смотрел на нее, старался понять, что у нее в руках. Наконец догадался: это был обыкновенный кленовый лист.
Она была уже совсем рядом, но все еще не заметила Горохова. Снова присела на корточки, подняла еще один лист, засмеялась, вскочила – и чуть не столкнулась с Гороховым. От неожиданности вскрикнула, тетради вместе с листьями посыпались в ноги Горохову. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу – кого оставят равнодушным застигнутые врасплох глаза восемнадцати– или девятнадцатилетней девчонки?! Потом она бросилась подбирать тетради, Горохов растерянно смотрел сверху.
Девушка поднялась, и Горохов почувствовал, что бледнеет. Испуг и растерянность в ее глазах неожиданно сменились какой-то пронзительной болью. Так смотрела на него в детстве мать, когда он тяжело болел.
Горохов не смог выдержать этого взгляда.
– Девушка, здесь ходить пока нельзя, – сказал он неожиданно для себя сухо и глухо, хотя хотел сказать как можно мягче.
Но она все еще смотрела на него широко раскрытыми глазами, полными синей, совсем не девичьей боли.
– Рощей ходить пока нельзя. Вам придется пройти вдоль реки, – сам не зная почему, повторил Горохов еще суше. Настроение у него совсем испортилось. Он проклинал себя за свою суровость и по-прежнему смотрел поверх нее в пустые поля.
Девушка резко повернулась и, неловко опустив худенькие плечи и как-то вся сжавшись, быстро пошла к реке. Горохов шел следом. Слыша за спиной его тяжелые шаги, девушка горбилась еще больше – и Горохов, смотря на нее, вдруг почувствовал странную горечь, похожую на жалость к самому себе.
А девушка бежала тропинкой вдоль речки и никак не могла успокоиться. Не успокоилась и когда начался урок, и после уроков. Что-то случилось. Но она еще не могла понять, что именно. Она пыталась убедить себя, что ей просто жалко рощу. Но почему-то вспоминались воспаленные и тяжелые глаза лейтенанта.
«Ну и что? – пыталась успокоить себя. – Просто солдат. Просто не спавший несколько суток и потому уставший солдат».
И она замирала от мучительного предчувствия…
Она училась в пединституте и сюда приехала на практику. Она была совсем еще девчонка, и все ей нравилось здесь: и спрятанные по перелескам то ли богом, то ли чертом деревеньки, синие и звонкие от первых утренников рассветы, и осенний крик грачей в сжатых полях, и застенчивые ребятишки с непричесанными овсяными волосами, и смешной баянист, почти все ночи напролет проводящий под ее окном. Особенно ей нравилась роща, по ней вилась мшистая тропинка, она ходила по этой тропинке в школу, с каждым утром роща становилась все светлей и печальней, и редкие крупные капли, словно слезы, шуршали в опавших листьях.
Она хорошо знала все тайны маленькой рощи, но смутно представляла, что творится в большом человеческом мире, потому что слишком была увлечена своим. Конечно же она читала и слышала по радио об идущих где-то войнах, о сожженных напалмом детях, растерянно недоумевала: ну, как это можно – убивать друг друга, когда мир так прекрасен?! Неужели на земле еще есть люди, что способны поднять руку на ребенка, и как такие вообще появляются на свете?
А газетные статьи и сводки об убитых и раненых на этих войнах, о завоеванных и отвоеванных землях тоже были привычными и больше походили не на явь, а на отрывки из книг о прошлой большой войне.
Та война не дошла до здешних мест, но увела за собой всех здоровых мужчин, и мало кто вернулся назад. Одни одинокими безымянными горбами лежали у дорог, у полей чуть ли не всей Европы. Другие черным дымом из труб концлагерей рассеялись над планетой. Третьи аккуратно выстроились в ряды на жутковато-чистеньких военных кладбищах за тысячи километров от родных погостов: солдаты и после смерти строятся в ряды – на кладбищах, на которые редко кто приходит. Но она не видела таких кладбищ – дальше областного города ей никуда не приходилось ездить. Вернулись лишь немногие, со странным блеском в глазах. Такой блеск она иногда замечала у отца, особенно когда он смотрел на играющих в войну мальчишек, но она никогда не задумывалась над причиной этого.
И вдруг в ее рощу, в ее жизнь ворвались танки. Шумным грачиным утром она бежала в школу, уже подходила к роще, как неожиданно лицом к лицу столкнулась со странным солдатом.
– Девушка, здесь ходить пока нельзя. Пройдите вон там вдоль реки, – равнодушно, устало и холодно сказал он.
И только тут она увидела танки. Неясными кучами они темнели под березами. Любимая тропинка была искромсана стальными гусеницами, на березах кое-где тоже были видны рваные раны, словно из-под содранной кожи торчали кости. Часть подлеска была вырублена, умирающие березки лежали на холодной броне и светились каким-то особенно чистым светом.
Она растерянно стояла перед солдатом. Конечно же не первый раз в жизни она видела солдат, но те, приезжающие на побывку или демобилизованные, были бодры, розовощеки, чисто выбриты, на парадном мундире – ряды играющих солнцем значков. А этот был страшно усталый, заросший щетиной, с большой ссадиной на лбу, в пыльной, пропитанной потом и маслом гимнастерке. До сегодняшнего дня таких солдат она видела только в кинофильмах о войне. Сначала она приняла его за часового, но часовой с автоматом стоял немного в стороне, ближе к роще, и, присмотревшись, девушка увидела на странном солдате офицерские погоны с двумя маленькими звездочками.
В закопченных руках лейтенант держал мыло, за широкий ремень было заткнуто полотенце. Он был, наверное, не намного старше ее и ровесник многих ее однокурсников, но в его губах таилась какая-то тяжелая и грустная усмешка, и ей стало не по себе, словно этот солдат знает о ней и о себе какую-то горькую правду-тайну, о которой даже не догадывается она.
– Девушка, здесь ходить пока нельзя, – повторил лейтенант устало, и синий свет совсем потух в его глазах.
Ночью она не могла уснуть. Она боялась себе признаться, что ей были приятны, но в то же время и страшили прилипчиво-грустные взгляды солдат. Она не знала почему, но ей было жалко их, молодых, с виду веселых парней, особенно же этого странного лейтенанта с тяжелыми печальными глазами, который уже четвертое утро встречается на перекрестке тропинок около речки и молча уступает дорогу.
В пятую ночь в этой роще лейтенант Горохов проснулся задолго до рассвета. Еще гуще падали листья, непонятная тоска давила грудь. Бросить бы все и затеряться вот в этих перелесках, растить хлеб…
Тракторист с баяном прошел только на рассвете. Сегодня у него, наверно, была особенная ночь: проходя мимо рощи, он не драл, как обычно, «Трех танкистов», а лишь неуверенно пробежал по басам, и те словно всхлипнули. За холмами чуть слышно стрекотали тракторы, их усталое бормотанье уютно вплеталось в крестьянскую ночь. Тракторы переговаривались между собой, как усталые мужики: вот кончим пахать – и по домам, на отдых.
Они были одной породы с танками, эти неказистые, потрепанные работяги. Но это родство, видимо, подобно родству холеной и тупой овчарки-людоеда с сибирской лайкой, с которой охотятся, пасут оленей, на ней ездят; а в свирепую пургу, если к ней крепко прижаться и запутать руки в густой шерсти, не замерзнешь.
И Горохов вдруг почувствовал себя чужим в этой осени, словно он и его солдаты вместе с танками, бронетранспортерами, ракетами были незваными пришельцами из какого-то другого мира. Ворвались, не спросившись, в эту мирную осень и отчужденно отгородились от нее часовыми. Вечером солдаты еще больше чувствовали свою ненужность здесь: по тропинке мимо рощи с полей шли усталые, пропыленные люди, а они вот уже несколько дней подряд изнывают от безделья.
Солнце поднималось все выше. Молчаливыми любопытными стайками потянулись мимо рощи мальчишки. Горохов уже несколько раз смотрел на часы. Уже пробежали последние ребятишки, но ее почему-то не было. И он поймал себя на том, что волнуется.
Как бы прочитав его мысли, откликнулся Сорокин, его механик-водитель:
– Запаздывает что-то учительша. Раньше хоть часы по ней проверяй, а сегодня нет и нет. То ли проспала, то ли еще что.
И Горохов чувствовал, что волнуется еще больше. Неужели на самом деле что-нибудь случилось? Или все дело в трактористе?
– Идет! – наконец заулыбался Сорокин.
Горохов и сам уже видел, что идет.
Что-то дрогнуло внутри. Пальцы растерянно бродили по пуговицам гимнастерки. Еще не зная, что он сделает в следующую минуту, Горохов заткнул за пояс полотенце и пошел к реке – наперерез ей. На перекрестке тропинок остановился, широко расставив ноги, и, вслушиваясь в ошалелый шум в висках, стал ждать. Девушка видела это и еще ниже опустила голову. Когда поравнялась с ним, Горохов преградил ей дорогу.
Она ждала этого, но все равно растерялась. Еще какое-то мгновение стояла с низко опущенной головой, потом резко отбросила назад перепутанные ветром волосы, и широко раскрытые глаза оказались рядом с его глазами.
– Мне нужно с вами поговорить, – глухо сказал Горохов.
Она поняла, что вот наступила та минута, с которой начнет рушиться ее детство.
– Я опаздываю на урок, – сказала она растерянно.
– А вечером?.. К речке. Я не могу отойти далеко от рощи… Я не могу прийти в деревню, поймите меня правильно. Придете?.. Хоть на несколько минут?
Ничего не ответив, девушка обошла его. Потом побежала.
– В десять! – крикнул вслед Горохов, хотя знал, что она не придет.
Никакого смысла в этом свидании не было. Трезвым умом Горохов понимал это. Но почему так щемит сердце? Почему только от одной мысли, что она не придет, он готов поверить, что именно ее искал все эти годы?
Горохов видел, как она возвращалась из школы. Прошла очень быстро, прижав к груди тетради, ни разу не посмотрела в сторону рощи. И Горохову стало жарко от вдруг пронзившей его тело нежности и вины перед ней.
Наконец стало темнеть. Горохов старался меньше попадать на глаза старшим офицерам. Конечно же она не придет, он хорошо знал это, но все равно ждал десяти; в далеких полях сонно стрекотали тракторы, и палые листья печально шуршали под сапогами часовых.
Было без десяти десять.
Десять.
Десять минут одиннадцатого…
Разумеется, она не пришла. Горохов с самого начала знал, что она не придет, но почему же так больно сердцу?
Вдруг на далеком пригорке посреди поля он увидел тоненькую фигурку. Девушка шла быстро, придерживая руками платок.
Предупредив часового, Горохов пошел навстречу. Тропинка петляла из стороны в сторону. Горохов бросил ее, побежал напрямик через поле, под ногами хрустела стерня.
Между ними оставалось всего несколько шагов. Горохов уже видел ее глаза.
Вдруг за спиной послышался треск. Горохов резко обернулся – в небо волочила дымный след сигнальная ракета.
Горохов в отчаянии сжал зубы…
Еще треск – зеленая…
Еще – снова красная…
«Тревога»!
Роща наполнилась грохотом, было слышно, как один за другим, взрываясь, заводятся моторы. А они стояли посреди лунного поля и растерянно смотрели друг на друга.
Из рощи уже выкатывались первые танки.
Несколько мгновений он смотрел в темные от слез и немого вопроса глаза, словно старался запомнить их навсегда. Потом резко обхватил ее голову шершавыми ладонями – и крепко и больно поцеловал в губы. И, все еще не выпуская из рук мокрых щек, горько и хрипло выдохнул:
– Прости меня и… прощай!
Обессилевший от бега Горохов вскарабкался на броню. Стрелок-радист поторапливал его:
– Скорее, товарищ лейтенант! Мы идем первыми. Курс: северо-запад. Станция Сосновка. Больше пока ничего не известно.
– Хорошо.
Горохов свалился в люк. Прежде чем захлопнуть его, оглянулся. Одиноким поникшим парусом маячила в голубом поле тоненькая фигурка. Горохов стиснул зубы и, словно крышку гроба, захлопнул за собой люк.
Танк взревел, выполз на пригорок, на мгновенье остановился, словно выискивая что-то хищным стволом-хоботом, и, низко пригнувшись и подминая под себя кустарник, понесся опушкой рощи к тусклой кромке заката, и Горохову казалось, что сквозь рев мотора он слышит, как на гудящую броню сыплются желтым дождем еще живые листья.
Неожиданно левым боком танк налетел на дерево. Береза не хотела умирать, она тоскливо заскрипела, словно застонала. Но танк зарычал еще сильнее и тоже подмял ее под себя. И опять на ревущую броню сыпались листья.
– Куда смотришь?! – зло закричал Горохов водителю. – Беру управление…
…Горохов бросал танк из стороны в сторону, старался петлять между деревцами. Когда это не удавалось, стискивал зубы и закрывал глаза, в ушах висел печальный шорох сыплющихся листьев.
Вдруг в наушниках резкий, словно металлический скрежет, голос:
– Пятнадцатый! Пятнадцатый! Я – первый! Пятнадцатый! – командир полка уже кричал. – Вы слышите меня?
– Да! – равнодушно отозвался Горохов.
– Что значит «да»? Какого черта вы мечетесь из стороны в сторону? Мешаете другим машинам. Зря вас считают лучшим экипажем. Проснитесь, лейтенант!
– Слушаюсь!
Но рация командира полка все еще не отключалась.
Неожиданно для себя, нарушая всякие уставы, Горохов спросил:
– Куда это мы, Иван Трифонович?
Спросил – и испугался.
Горохов даже в обыденной жизни никогда не называл командира полка по имени и отчеству, хотя право на это имел: тот в свое время воевал вместе с его умершим несколько лет тому назад от ран отцом и сам ходатайствовал, чтобы Горохов-младший попал к нему в полк.
В наушниках – томительное попискиванье, потрескиванье…
Потом какой-то неуверенный, дрогнувший голос:
– Как куда?
– Куда мы несемся?
– А я и сам толком не знаю, Саша, – сказал полковник тихо… Но тут же его голос снова стал холодным, жестким: – Прекратите разговоры, лейтенант! Соберите нервы! Вы удивляете меня сегодня.
Танки рвали в черные клочья грустную проселочную дорогу. Снова вырвались в поля. Впереди перед стволами закачалась дрожащая цепочка огней.
Через полчаса танки с потушенными фарами ворвались на какой-то заспанный полустанок. С лязгом и грохотом вползли на платформы, и приземистые короткие эшелоны с небольшими интервалами, набирая скорость, понеслись в ночь.
Было свежо, и Горохов набросил на плечи куртку. Мимо проносились деревни, стога сена, поля, одинокие костры, избушки, гулко и тревожно грохотали мосты – все это стремительно налетало и уносилось назад, в прошлое – лишь стылые звезды, как совесть, как глаза всех безвременно погибших на войнах, по-прежнему скорбно висели над горизонтом. И еще одна большая и яркая звезда висела все время перед составами – зеленый глаз семафора.
На одной из станций эшелон остановился, но всего на несколько минут, пока меняли локомотив. И Горохов вдруг подумал: «А что, если бы сейчас ему вдруг предложили сменить профессию?.. Поехать в ту деревню? Найти ту девчонку, затеряться с ней в березовых перелесках?..»
Ему даже жарко стало от этой неожиданной мысли… Но тут же горько и пусто. Нет, это невозможно… Почему невозможно? Комиссуются же некоторые, и не только по состоянию здоровья… Нет, невозможно… Для него невозможно! Хотя бы только потому, что это у него уже в крови – тревога за березовую страну, за хрупкий мир, который вот уже сорок с лишним лет непрочно живет в ней, за всю зелено-голубую, тяжело больную планету, на которой еще не было ни одного дня – боже мой, ни одного дня! – чтобы где-нибудь человек не убивал человека. И нигде от этой тревоги ему не спрятаться, потому что в отличие от них он всегда, каждую минуту будет знать, как непрочна эта тишина.