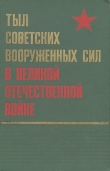Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
«Нет, это невозможно», – гулко и больно отдавалось во всем теле, словно он говорил вслух в большом и пустом зале. Горохов сжал кулаки. Нет, не для него спрятано счастье в тех березовых перелесках. Не для него. Но, черт возьми, он сделает все от него зависящее, чтобы была счастлива, хоть немного была счастлива та девчонка! Чтобы был счастлив тот разудалый тракторист и все те люди на слепых ночных полустанках и в спящих городах и селах!
Горохов смотрел на спящих солдат, им снились счастливые сны, и он думал, что этим снам, может быть, никогда не сбыться. Потому что на их плечах, еще не знавших ласки женских рук, лежало тяжелое и великое бремя: не допустить беды. Любой ценой, может быть, даже самим сгореть в ней, но не пустить ее в эти хрупкие перелески.
Над землей поднимался холодный рассвет. Звезды потухли, и лишь одна, низкая зеленая звезда, все неслась и неслась навстречу эшелонам…
Михаил Гаврюшин
ТЕПЛЫЕ МЕСТА
Рассказ
При выброске задержка получилась минуты на две с половиной. Следовательно, до площадки сбора километров семнадцать-восемнадцать. К тому же ночь, дождь, сопки… И это на полковых учениях… Эх Корнышев, Корнышев, сопляк…
Сержанта Гурьева уже несколько минут волокло по земле мощным горизонтальным потоком, он уже дважды пытался погасить купол, натягивая передние лямки, и оба раза ветер вырывал их у него из рук, обжигая ладони. Гурьева швыряло с кочки на кочку, с камня на камень, темнота вокруг чавкала и трещала, комбинезон раздирали колючки. «Главное, не перевернуться на спину, удержаться на груди… Тьфу… черт!» На запаске, на которой, словно на санках, тащило Гурьева, скопился целый ком грязи. От очередного толчка приличная порция земли и колючек влепилась в широко раскрытый рот, забила нос, глаза.
Вдруг Гурьев почувствовал, что скорость ослабевает. Он резко дернул на себя передние лямки подвесной системы: «Тпру», вскочил, сделал два больших прыжка и всем телом рухнул на гаснущий купол. Ветер рвал под ним уже далеко не белоснежные складки парашютного шелка, но дождь довел дело до конца. Купол сдался.
«Только бы никто из ребят не заблудился», – думал Гурьев, заталкивая парашют в сумку. Он расчехлил автомат, примкнул магазин и сделал одиночный холостой выстрел, сигнал сбора отделения…
Бежать с тяжелым мокрым парашютом на спине было не очень приятно. При каждом шаге тугая парашютная сумка подпрыгивала и ударяла в спину. Такие дожди в этих краях бывают очень редко. И надо же, чтобы во время учений так некстати разверзлись хляби небесные… Ну, Корнышев…
С воздуха было все как на ладони, виден даже мутный абрис гор, а здесь темень непроглядная. Где же эта высота Песчаная? Гурьев посветил фонариком на компас. «Так… север справа… Значит, идти нужно вон на ту сопку». Он, тяжело дыша, бежал по дну высохшей речки и неожиданно на повороте русла услышал возню и голоса.
– Эй, тут кто?
– Дед Пихто. Иди помогай. Корячкин ногу подвернул.
Гурьев застонал. Три мокрых парашюта… Арифметика простая: «Марюгин тащит Корячкина, а я – три парашюта… Шестнадцать километров по пересеченной местности…»
– Как же ты, Корячкин: пять месяцев служишь и приземляться не научился? Ножки надо вместе держать.
– Да я, товарищ сержант, в дырку провалился.
– Дырка у тебя в голове, Корячкин. А на площадке приземления неровности почвы. Вперед, рысью.
Теперь они бежали вдвоем. С момента их выброски прошло минут пятнадцать. Корячкин весь напрягся и сцепил зубы, чтобы не стонать от боли, словно этим помогал Марюгину.
– Володь, – сказал он жалобно, – может, я сам, а?
– Сиди… Ух-ха, ту-зе-мец, ух! Дома… маслом рассчитаемся.
Гурьев бежал впереди. Подъем был крутой, сапоги скользили по мокрой глине. «Как во сне, – подумал он. – Бежишь во всю мочь, а все на месте. Бред какой-то». Потом к ним присоединились еще трое, потом еще двое. К Песчаной они вышли ввосьмером.
– Огонь, товарищ сержант! – заорал Корячкин.
– Че орешь? – ухмыляясь, спросил Гурьев. Он уже секунд сорок видел костер, обозначавший угол площадки сбора. Забрасывая в кузов машины сумки с парашютами, он не чувствовал боли в онемевших пальцах. Корячкина увезли на санитарной машине.
– Первая рота, ко мне! – Голос старшего лейтенанта Хмеля, резкий, хриплый, ускорил движение на площадке Гурьев различал в темноте знакомые лица. Вся эта беготня могла показаться хаотичной, но Гурьев знал – через считанные секунды рота построится в линию взводных колонн.
Яркий свет фар резанул по первой шеренге. Гурьев зажмурился и открыл глаза, лишь расслышав сквозь фырканье «уазика» голоса ротного и комбата.
– Первая рота, смирно! Отставить. Все знаю. – Комбат был крепок, невысок. Из-под капюшона плащ-палатки поблескивали насмешливые цепкие глаза. – В бою смоете позор свой. Думаю, что не подведете. Офицеров прошу подойти ко мне.
Комбат любил в «войну» играть всерьез, хотя и делал это с усмешкой. На стрельбах он командовал: «По ненавистному врагу…» Замполита называл комиссаром.
Гурьев видел, как комбат расстегнул планшет и что-то показывал на карте, над которой лейтенант Бруев держал фонарик. «Самое время покурить», – послышался за спиной Гурьева голос Кошкина, пулеметчика из второго отделения. Гурьев знал, что комбат не курит, а «сытый голодному не товарищ»…
Он не успел додумать. Ротный скомандовал: «Бегом, марш!» «И-и… аллюр «три креста». Десантник – три минуты орел, остальное время лошадь», – вспомнил Гурьев популярную поговорку. Ремень на нем был затянут настолько, чтобы не тер, не давил, но и не болтался. Ремень десантника – это целый багаж. На нем – шлем, штык-нож, подсумок с магазинами и гранатами, саперная лопатка, котелок и фляга с водой.
Бежать было легко и весело. Бег согревал промокших и озябших солдат. Дождь уже прекратился, над горами наметился белый шрам рассвета.
Уже два месяца Гурьев занимал должность замкомвзвода. Звание сержанта ему присвоили второго августа, в День воздушно-десантных войск. Должность не обременяла. Гурьев любил своих парней. И сейчас, чувствуя за собой дыхание двух десятков разгоряченных глоток, внутренне радовался, потому что верил в каждого из своих товарищей.
– Сербин, Кутузов – дозорные. Туз, Кошкин – наблюдатели за воздухом!
Рота выбежала на сопку, усыпанную маками. Их багряные, усеянные росой лепестки еще не совсем распустились, и тяжелые сапоги десантников безжалостно давили эту кровавую красоту. Кто-то на бегу срывал мокрые цветки и втыкал под кокарду. «Красное на голубом. Красиво, – подумалось. – Тут бы упасть да подышать, но ротный скуп на передышки. А сейчас, после задержки, их и вовсе не жди. Эх, Корнышев, Корнышев, из-за одного «храбреца» вся рота отдувается».
Гурьев прислушивался к хриплому дыханию бегущих. Оглянулся и осмотрел взвод. Кошкин на бегу подтягивал ремень, Марюгин поправлял лопатку, нещадно колотившую по бедру. Березовский судорожными глотками пил из фляги отвар верблюжьей колючки. Гурьев приостановился, вырвал у него флягу.
– Я же предупреждал, как, когда и сколько нужно пить на марш-броске… Сейчас свалишься, и кто тебя тащить будет… Бегом марш!
Солнце поднималось и уже стало напоминать о своем азиатском коварстве. Пот градом лил со смуглых физиономий. На комбинезонах проступали темные маслянистые пятна, а сапоги покрывались белой, как мука, пылью. «Парни выдержат. На разведвыходе и не то выдерживали. Вот только молодняк: Паршин, Березовский, Колесников, Саидов. Пока бегут, хоть и дышат неровно. Но к полудню жара будет не меньше пятидесяти, что тогда? В нашем деле главное привычка. Вот Туз – еще и анекдоты травит».
– …едет… по пустыне ух-ху… пески-и… ух-ха… навстречу бедуин. «Товарищ бедуин, отсюда до моря далеко?» Ух-ха! «Километров шестьсот…» Ух! «Ничего себе… пляжик отгрохали…»
– Туз, отставить баланду! – твердо, но без строгости приказал лейтенант Бруев. Он знает, что шутка сейчас нужна. Люди бегут уже километров семнадцать-девятнадцать, устали, юмор поднимает настроение.
– Ша-а-гом! – слышится команда ротного. – Командирам взводов выделить личный состав на подмогу четвертому взводу и радисту.
Никто не возмущается, все понимают, что труднее всего приходится четвертому взводу – они тащат гранатометы на станках, да и радисту с радиостанцией несладко.
Хмель собирает офицеров и сержантов, объясняет им боевую задачу, развернув карту, указывает маршрут движения роты. Говорит, что времени на передышки нет. При этом значительно поглядывает на Гурьева и лейтенанта Бруева. Губы ротного нервно подергиваются. Черные цыганские глаза смотрят весело, с жестким прищуром. Он лихо заламывает берет на затылок и выкрикивает глухо, хрипло, будто сквозь платок:
– Что приуныли, гвардия! Бе-е-е-гом! – И с оттяжкой на самой высокой ноте: – Марш! – словно клацнул затвором.
Гурьев заметил: чем выше поднималось солнце, тем больше становились белые буруны под ногами. Идти еще километров тридцать пять – сорок. И ведь как идти. Почти все время бегом по пересеченной местности. До чего же она, эта местность, пересеченная: с сопки на сопку, с горки на горку, через высохшие русла. А солнышко не жалеет, жарит во всю мочь. Градусов сорок пять, не меньше. «Что делать, – говорит в таких случаях Славка Туз. – Приятель Азия – это вам не пляж Ланжерон». Да, верно, не пляж, но ребята мокрые, как тридцать три богатыря. У мощного сибиряка Паршина вокруг рта белая корка.
Саидов бежал позади всех и прихрамывал, при каждом шаге подтягивая ремень гранатомета. Это заметил и лейтенант Бруев. А он знал самое лучшее лекарство для тех, кто отстанет:
– Гранатометчик Саидов ранен в ногу. На руки!
Кошкин и Туз тут же сняли с Саидова гранатомет, сплели руки и, несмотря на то что он упирался, понесли.
– Ну-у, теперь твоя совсем бай, у тебя даже есть свой конь, ух-ха… – прошипел Туз.
– Сам, сам! – вырвался Саидов и побежал, уже не отставая.
– Товарищ лейтенант, ух-ха, Саидов… уже совсем здоров… и может вернуться в строй.
«Честолюбие – хорошая черта; оно лечит слабых духом, а физически Саидов не слабее других, – думал Гурьев. – Ничего, привыкнет, а вот Корнышева, пожалуй, уже ничто не исправит. Эх, Корнышев… Ведь земляк». Вспомнилась худосочная фигура в неподогнанном «хабэ», смуглое лицо, тонкие вытянутые губы, тонкий с горбинкой нос…
– Товарищ сержант, не желаете ли посетить буфет?
– Желаю, – отвечает Гурьев.
В личное время они направляются в буфет. Очаровательная Танечка с улыбкой отвешивает им пряников, наливает кофе с молоком. Сначала они едят молча, потом Гурьев спрашивает:
– Вы ведь из Донецка, Корнышев? Чем занимались до армии?
– Учился на сварщика, потом работал на стройке.
– Гм… – вставая из-за стола, Гурьев подтягивает ремень. – Ну что же, поели, теперь можно поработать. Ведь человек живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. Не так ли, Корнышев?
– Так точно, товарищ сержант!
– Стало быть, самое время заняться строевой подготовкой. Она у вас хромает, прямо скажем.
Физиономия Корнышева недоуменно вытягивается. Они идут на плац. В течение часа Корнышев чеканит шаг и отдает честь начальнику справа и слева. Потом они идут в ротный ружпарк. Гурьев проверяет оружие Корнышева. На штык-ноже у самой рукоятки остатки тушенки.
– Да вы садист, Корнышев. Вы хотите, чтобы враг, которого вы будете колоть этим штык-ножом, умер от заражения крови? Тридцать минут вам времени – вычистить оружие и доложить.
Корнышев чистит оружие, Гурьев наблюдает за его работой.
– Корнышев, почему вы не пишете писем домой? Ваша мать обратилась к командиру части, жалуется, что за четыре месяца службы всего два письма, да и те еще в мае.
– Я пишу… Я сегодня же напишу. Не успеваю, товарищ сержант.
– Как же другие успевают…
Еще на взлетно-посадочной полосе Гурьев заметил, что лицо Корнышева было неестественно бледным.
– Не дрейфь, Володя. Все будет о’кэй! Главное – не перепутать кольцо с ухом…
Гурьев дружелюбно похлопал Корнышева по плечу. Сидеть в плотно затянутой подвесной системе, откинувшись на тугой парашютный ранец, было удобно, как на диване. По взлетной полосе то и дело с ревом проносились истребители. А неподалеку стояли огромные Ил-76. Блюдечко аэродрома, окаймленное горными хребтами, тонуло в мутном мареве горячей азиатской ночи. Звезды подбадривающе мигали. И тогда никто даже не предполагал, что в месте выброски их ожидает сюрприз с дождем и шквальным ветром. Солдаты тихо разговаривали, время от времени вспыхивали огоньки сигарет.
– Товарищ сержант, а парашют может не открыться?
Гурьев улыбнулся и внимательно посмотрел на Корнышева.
– Д-пять более надежен, чем ваш желудок. Ну а если что… Есть запасной. Как вести себя в воздухе в случае сближения с другими парашютистами, вы знаете. – И уже мягко добавил: – Да ты что, Володя? Ты ж из Донбасса.
– Я не просился в этот десант! – зло ответил Корнышев.
Гурьев растерянно замолчал, сорвал с земли пыльный колосок и стал грызть его. «Ну фрукт, ну деятель!..» Сам Гурьев не представлял себе иной службы. Еще на медкомиссии в военкомате он скрыл вырезанные гланды и перелом левой руки. Сам упрашивал военкома: «…В воздушно-десантные войска, только в ВДВ». Бегал кроссы, плавал. А этот тип… может, больной, так ведь нет, и бегает недурно, и на перекладине вертится. Худой, но жилистый… Странный парень… или просто трус, гнилье.
– Знаете, Корнышев, я думаю, что ВДВ вполне обойдутся без вас, но я хотел бы видеть вашу физиономию, когда вы будете повествовать своей девушке о героической службе.
Губы Корнышева растянулись в презрительной ухмылке. Гурьев зло сплюнул изжеванный стебель. «Да, этого смазливого хорька никакой агитацией не проймешь, ну ничего, прыгнет как миленький, выпускающий ему поможет».
– Первый корабль, встать! Три шага вперед!
Началась контрольная проверка. Офицеры парашютно-десантной службы осматривали парашюты, приборы, замки. В это время уже шла загрузка техники. В черных жерлах под килями самолетов исчезали платформы АСУ, радиостанции, походные кухни, машины медицинского пункта. Гурьев все это время не спускал глаз с Корнышева.
– Второй корабль, направо, бегом марш!
Тяжелые сапоги загремели по трапам. Десантники размещались на сиденьях. Настроение сразу поднялось, а Корнышев был по-прежнему бледен и хмур, плотно сжимал губы и смотрел себе под ноги.
– Ты что, касторки выпил, Корнышев? – крикнул ему Туз. – Прогуляться по облакам не менее приятно, чем по Дерибасовской. А у тебя, юноша, вид словно у незаполненной авоськи… Ты пой, Корнышев, пой… это помогает.
Это действительно помогает: Гурьев отчетливо вспомнил свой первый прыжок. Прыгал он тогда в аэроклубе под Ворошиловградом. В самолете от какого-то восторженного ужаса он запел. В реве двигателя сам едва слышал свой голос.
Когда же настало время прыгать, он слабо оттолкнулся при выходе из самолета, и потом его развернуло лицом к обшивке. Он чуть ли не носом пересчитал все заклепки на ней. А потом его занесло на колхозную пашню и на высоте около сотни метров развернуло спиной к земле. Он пытался повернуться в подвесной системе, но не успел и рухнул спиной, больно ударившись о булыжник, будто нарочно лежавший на борозде. С гулом в ушах, закусив от боли губу, он вскочил и стал собирать гаснущий купол. С тех пор он сделал больше двух десятков прыжков и почти всегда умел встать на ноги. Прыгать он любил, но почему-то больше всего запомнился первый прыжок, и то неповторимо-жуткое ощущение высоты, неба и своей силы, силы человека, получившего крылья. «Мужчина должен быть мужчиной, защитником, и, если под угрозой честь, Родина, он должен не размышлять, а драться. Да, драться». Именно поэтому Гурьев пошел в десант и никогда не жалел об этом.
Ровно гудели турбины, самолет летел в район выброски. Кое-кто уже спал.
Старший лейтенант Хмель играл в шахматы с Товкачом и, судя по лукавой улыбке, имел преимущество.
Потом из кабины появился один из пилотов и что-то сказал на ухо комбату. «Приближаемся к району выброски», – подумал Гурьев. Так оно и было.
Лейтенант Бруев встал и пошел между рядами сидений, пристегивая карабины вытяжных фалов к стальному тросу. Чтобы скоротать время, Гурьев стал вспоминать показанный вчера в летнем клубе фильм «Звезда пленительного счастья». Вспомнились строчки песни: «Кавалергарда век недолог… Не обещайте деве юной любови вечной на земле…»
«Черт побери, я ведь совсем забыл, что получил письмо от Томки». Во время фильма как раз, когда Анненков давал пинка своему лакею, Туз протянул ему берет, полный персиков, и письмо. Гурьев только взглянул на конверт и сунул его в карман. А прочесть так и не успел. Ночью их подняли по сигналу «сбор». И сейчас, вспомнив о письме, он потянулся к карману, туго стянутому грудными лямками, а тут… завизжала сирена. Замигал желтый глаз над десантным люком, створы которого уже медленно вбирались внутрь.
– Приготовиться!
По этой команде надо встать, опустить пониже ножные обхваты, правой рукой взяться за кольцо, а левой обхватить запаску. Все привычно. Выпускающий открывает дверцу при выходе в люк. Вспыхивает зеленая лампа.
Гурьев стоял, широко расставив ноги. Считанные секунды – и вокруг будет черное ночное небо. И завертит тебя, сердечного, так, что понять, где небо, где земля, где голова и где ноги – будет невозможно. Один на один с темнотой, лишь гулко стучащая кровь в висках и отсчет времени, словно внутренний метроном. «Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три…»
– Сто-о-ой! – услышал он сквозь рев турбин голос Туза. Он и Бруев оглянулись одновременно. Корнышев мешком сидел на полу. На сером лице мелким бисером блестел пот страха. Рядом с ним валялось преждевременно вырванное кольцо. Туз отстегивал его карабин, выпускающий закрывал дверцу…
– Стой, рота!
Старший лейтенант Хмель снял берет и рукавом комбинезона отер мокрый лоб. Лицо его было покрыто белой глиняной пудрой, и потому особенно отчетливо выделялись на щеках и подбородке соленые ручейки. С близлежащей сопки, наперерез роте, то исчезая, то появляясь в облаках пыли, мчалась машина комбата.
– Сейчас десерт подадут, – уныло протянул Туз.
Комбат молодцевато выпрыгнул из машины.
– Первая рота, сми-ирно! Товарищ гвардии капитан, первая рота, выполняя возложенную на нее боевую задачу, выдвигается…
– Хорошо движетесь, старший лейтенант. Так вы, пожалуй, наверстаете свое время. Но плацдарм, который не был подготовлен вами для выброски техники и всего полка, останется на вашей совести. Поэтому приказываю: темп движения не снижать, продемонстрировать все, на что вы способны. С вас самый серьезный спрос.
И, повернувшись лицом к роте, добавил:
– Солдаты! На пути продвижения роты зона заражения отравляющими веществами глубиной в два километра. Рота, бегом…
– Я же говорил, что десерт привезли, – повторил Туз, расстегивая сумку с противогазом.
– Взвод! Проверить наличие клапанов! – скомандовал Гурьев.
Он видел, как из машины комбата вылетали дымящиеся шашки хлорпикрина. Хлорпикрин не отравит, но вызовет кашель до тошноты, и слезы побегут в три ручья.
– Газы! – кричит Хмель и сам выхватывает из сумки противогаз.
Гуп-гуп-гуп – громыхают многие десятки сапог. Душно. Пот заливает глаза.
– Рота, в линию взводов!
Гуп-гуп-гуп! Гремят сапоги, бряцает оружие.
– Взво-о-од, в линию отделе-е-ений…
– Впере-е-е-ед!
Та-тах, та-тах, та-тах, та-тах!.. Бух-трах! – взрывпакеты.
– Ура!
– Командир! На горке кухня дымит! – сдирая с взъерошенной головы противогаз, ухмыляется Туз…
Да, кухня. Но никто почему-то не идет к ней. Все бегут к большим железным термосам, в них вода, если можно назвать водой это горькое коричневое варево из верблюжьей колючки. О, какое блаженство напиться вдоволь и наполнить пустую флягу. На лицах улыбки, будто выпит божественный нектар, будто на земле во всех колодцах нет ничего, кроме этого теплого, мутного отвара, предохраняющего от инфекционных заболеваний. Вода… Вода… Лишь после того, как будет утолена жажда, парни начнут греметь котелками, выстраиваясь в очередь у походной кухни. Черпак Дочкина, всеобщего любимца, батальонного повара, проворен и меток. «Щи да каша – пища наша».
– А знаешь, Серега, я, когда в полку продукты получал, видел твоего Корнышева. Довольный такой сидит в чайной, томатный сок пьет. Танечке памирские пейзажи описывает: «Хороши горы с высоты птичьего полета». – Ложки на минуту умолкают, замирают на полном ходу челюсти, кто-то закашлялся… – И еще одну новость могу сообщить: прапорщик Аксаков сказал, что пом-полка приказал перевести Корнышева в другое подразделение, он теперь отпрыгался…
Гурьев знает, что о Корнышеве никто больше не вспомнит ни злого, ни доброго. Он будет забыт: и нет ничего страшнее этого не предусмотренного дисциплинарным уставом наказания.
– Рота-а! Закончить обед, приготовиться к построению…
И опять бряцает оружие, шуршат пучки травы, отирая со стенок котелков самую память о привале, обеде.
– Становись!
– Сережа, дай дернуть разок. – Туз жадно затягивается и бежит в строй.
– Шагом!..
– Как же шагом… Небось жирок завяжется.
До Кара-Четао, где роте предстоит занять оборону, километров тридцать.
Гуп-гуп – гремят сапоги. Гуп-гуп-гуп.
– Противник слева, к бою! Воздух.
«Дома сейчас тепло. Арбузы, наверное, поспели. И дыни. Здесь, конечно, дыни покрупнее, но наши куда слаще…» На марш-броске мысли о доме помогали как нигде. Если в карауле или в наряде они вызывали острые приступы ностальгии, то на учениях от них становилось легче, картины, подаренные памятью, отвлекали от однообразных, пустых пейзажей, где на десятки километров нет ни единого деревца.
А белое солнце понемногу скатывалось к горизонту. «Должно быть, скоро дойдем до места. Конечно, с саперной лопатой в руках, один на один с проросшей каменными жилами высушенной землей – отдых весьма сомнительный, но все-таки… И может быть, к утру удастся немного поспать».
– Шагом!
Хмель улыбался. Его сверкающие белые зубы и голубоватые белки ярко выделялись на запыленном лице. Он доволен: рота задачу выполнила. К плацдарму, на котором предстояло занять оборону, вышли вовремя. Оставалось преодолеть самые крутые километры у подножия хребта Кара-Четао, на карте скромно обозначенного «высота Блиндажная».
– Гвардейцы, нам остается пройти два с половиной километра. Там отдохнем. Нужен последний рывок.
Гурьев подошел к радисту и стал снимать с него рацию.
– Отдохни, земляк. Поносил, дай другому.
Тот лишь благодарно кивнул. «Скоро дойдем, – думал Гурьев. – Ребята идут хорошо. Саидов только прихрамывает да Березовский отстал. Но в целом взвод идет хорошо. Дойдем».
Солнце уже садилось, зависнув над самой вершиной хребта, залило облака и снежные шапки гор розовым, так что, где кончаются горы и начинается небо, понять было невозможно. Воздух стал свежее, сгущались сумерки.
– Сто-о-о-ой! – разнеслась команда ротного по круглому, густо поросшему верблюжьей колючкой склону. В считанные минуты вечер заполнил все у подножия хребта вязкой и густой, как вакса, темью. Тишину нарушал лишь скрежет саперок, глухие размеренные удары, недовольный шорох растревоженной глины и сопение солдат, вгрызающихся в монолит склона. Работа шла быстро. Гурьев закончил свой одиночный окоп и начал рыть ход сообщения к пулеметчику Паршину.
– Ну что, гвардия, припотели? Перекур!
Гурьев выпрыгнул из окопа, отряхнул глину с колен и, вытерев подкладкой берета потный лоб, достал сигареты.
– Закурим, славяне, – хмыкнул Туз, протягивая Саидову пачку «Памира». – Я бы на месте администрации табачной фабрики имени Абидовой украшал пачку не этим праздногуляющим туристом, а потным десантником в берете с саперной лопатой в зубах. Саидов, ты ведь из Ташкента? Будешь в отпуске, зайди к землякам, внеси коррективы.
– Пусть сначала портянки мотать научится, а потом об отпуске мечтает. Всю пятку себе раскурочил, – пробубнил молчаливый Марюгин.
«Это моя вина», – подумал Гурьев. Для него, выросшего в шахтерской семье и отработавшего полгода в шахте, наматывание портянок не представляло никакого труда. И подчиненных он учил этому с первого дня службы в полку. А здесь промашка вышла, проглядел Саидова. Гранатометчик он неплохой, а портянки наматывать не научился. Нога в портянке должна быть как куколка. «Ничего, наверстаем, есть еще время».
– Мужики, тут на верхотуре верблюд пасется. – К курящим подсел сержант Сухенко.
Гурьев оглянулся и различил в темноте шлепающего по сухой глинистой прогалине верблюда.
– Седай! – заорал Сухенко и легко вскочил на спину оторопевшему животному. – Туз, а на нем и до дому можно ехать, на дембель… Гы-гы…
Но верблюд явно не собирался везти командира второго отделения сержанта Сухенко в сторону столицы Украины. Его изумление, столь робкое вначале, переросло в гнев, верблюд пытался ухватить зубами сапог бесцеремонно взобравшегося на него всадника. Сухенко отбивался ногой.
– Ах ты образина! Гвардейца-десантника везти не хочешь? Но, цоб-цобе!
Верблюд вытянул шею и издал хриплый булькающий звук, похожий на те, которые производит раковина, втягивая остатки воды.
– Лягай! – завопил неудачливый кавалерист и сиганул в траву.
Но верблюд, возмущенный выше горба, и не думал оставлять в покое обидчика. Он погнался за ним, высоко поднимая гуттаперчевые ноги, мягко шлепая широкими подошвами. Дружный хохот огласил темноту.
– Это еще что за ярмарка? Гурьев, почему до сих пор не готовы ходы сообщения? Почему бруствер не замаскирован?
– Перекур, товарищ лейтенант. Грунт очень твердый.
– Вам ли говорить о твердом грунте, вы уже службу кончаете. Рядовой Паршин, почему окоп до сих пор не окончен?
Глаза Бруева видели в темноте, как днем, голос звучал хлестко, с легкой дрожью. Он только что вернулся с НП и был чем-то расстроен. Наверное, ему напомнили о Корнышеве.
– Гурьев, выделите солдата для получения сигнальных ракет.
– Кутузов, ко мне.
– Есть!
Бруев с Кутузовым, уже закончившим работу, направились к старшине роты. И тут из темноты вынырнул Сухенко.
– Ушел? – громким шепотом спросил он.
– Ты о верблюде или о взводном? – ответил Туз вопросом на вопрос, затаптывая сигарету.
– Кончай балагурить, Туз. Паршин, почему возитесь с окопом?
– Да у меня тут настоящий гранит, товарищ сержант. Уже черенок лопнул и штык погнулся, а ему хоть бы что.
– Попробуйте копать в стороне.
– Пробовал, товарищ сержант.
Гурьев спрыгнул в окоп Паршина.
– М-да-а… Ну что ж, давайте вместе копать.
Твердая каменистая почва поддавалась с большим трудом, жила кремния, выползавшая из-под земли в паршинский окоп, сопротивлялась с яростью побежденного. Из-под саперных лопат то и дело вылетали фонтаны искр. Потом Гурьева с Паршиным сменили Туз и Саидов, их – Березовский с Марюгиным. Потом перемешанный с глиной кремний стал гуще и крупнее и, наконец, превратился в мощный монолит.
– Тут бы отбойный молоток, – уныло пошутил Паршин.
– Может, тебе еще и динамиту? – съязвил Туз.
– Утром комбат задаст нам перцу.
Гурьев открыл планшет и стал рисовать схему позиции отделения, отмечая на местности сектора ведения огня пулеметчика, гранатометчика и стрелков. Тем временем ребята замаскировали бруствер окопов.
«Эх, авось пронесет и Красин не заметит, что окоп пулеметчика вырыт не в полный профиль, – вздохнул Гурьев. – Конечно, можно было бы еще поковыряться и выдолбить нехватающие сантиметры, но чего это будет стоить измученным ребятам. Им бы хотя бы парочку часов поспать, хотя бы пару часов…»
– Всем отбой! Кошкин и Березовский – часовые, через полчаса разбудите Сербина и Саидова… – Гурьев вытащил из рюкзака плащ-палатку и, завернувшись в нее, сел на дно окопа, прислонясь к шершавой глинистой стене. Глаза слипались, голова была тяжелой, но мысли отгоняли сон. Сутки, прошедшие с момента выброски до этой минуты, пронеслись как мгновение. Он устал за эти сутки… Но что-то было еще, о чем забыл и мучительно старался вспомнить. Ах да, письмо, Томкино письмо.
Гурьев достал его из нагрудного кармана, разорвал конверт. Но без фонарика было не обойтись. Он включил фонарик и чуть не вскрикнул от отчаяния: бумага насквозь пропиталась потом, строчки расплылись и разобрать можно было лишь последние, слова: «…Из Бреста… Мне… грущу…» Еще в письме была маленькая фотография, на ней стояло много веселых людей на фоне памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. А впереди всех, с сумкой под мышкой, улыбающаяся Томка. «Значит, все-таки «Интурист», – думал Гурьев, ревниво вглядываясь в лица парней на фотографии. – Ну-ну. – Он еще раз взглянул на письмо, сунул в тот же нагрудный карман. – В принципе все ясно: работает, довольна, любит, ждет, и… доброй ночи, товарищ гвардии сержант…»