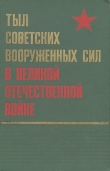Текст книги "Стоим на страже"
Автор книги: Виктор Астафьев
Соавторы: Юрий Бондарев,Олег Куваев,Владимир Карпов,Владимир Возовиков,Александр Кулешов,Борис Екимов,Николай Черкашин,Валерий Поволяев,Юрий Стрехнин,Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая лукавого и глупого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его.
Но память и совесть не выключишь.
Вот если б все люди – от поселка, где делают фанеру, и до тех мест, где сотворяют атомные бомбы, – всех детей на земле считали родными да говорили бы с ними честно и прямо, не куражась, тогда и молодые не выламывались бы, глядишь, чтили бы как надо старших за правду и честность, а не за одни только раны, страдания и прокорм.
«Корить – это проще простого. Они вскормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить, возьмутся, как мы, маскировать свою ущербину, свои недоделки и неполадки. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. Давить своей грузной жизнью мальца – ума большого не надо. Дорасти до того, чтобы дети уважали не только за хлеб, который мы им даем, – это потруднее. И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же гордости хотим и сами же притужальник устраиваем!..»
Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, со сбитым телом и руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела бабой – ух! Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались, и женская мудрость, нажитая разлукой и горестями, сняла с них блеск горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые, вперекос всем женским понятиям о красоте, шли ей. По-прежнему крепко сбитая, без надсадливости делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.
«Нарожала б ребятишек кучу, да мужик не мякиш попался бы…»
Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хорошего – они переняли друг от друга, а худое постарались изжить.
Мать Панина копалась в огороде, вырезала редьку, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Мать Панина постоянно роется в нем, чтоб доказать, что хлеб она ест недаром.
– Да ты, никак, выпивши? – спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.
– Есть маленько, – виновато отозвался Сергей Митрофанович и впереди жены вошел в кухню. – С новобранцами повстречался, вот и…
– Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё…
– Привет они тебе передавали. Все передавали, – сказал Сергей Митрофанович. – Это тебе, – сунул он пакетик Пане, – а это всем нам, – поставил он красивую бутылку на стол.
– Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их едят ли?
– Сама-то ты мыша! Пермяк – солены уши! – с улыбкой сказал Сергей Митрофанович. – Позови мать. Хотя постой, сам позову. – И, сникши головой, добавил: – Что-то мне сегодня…
– Ты чего это? – быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза. – Разбередили тебя опять? Разбередили… – И заторопилась: – Я вот чего скажу: послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?
– Не в этом дело, – вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: – Мама! – Громче повторил: – Мама!
– Чё тебе? – недовольно откликнулась Панина мать и звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой и отвлекаться ей некогда.
– Иди-ка в избу.
Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам. А теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:
– С каких это радостей? Втору группу дали?
– На третьей оставили.
– На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат…
– Садись давай, не ворчи.
– Есть когда мне рассиживаться! Овощи-те кто рыть будет?
Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.
– Сколько там и овощи? Четыре редьки, десяток морковин! – сказала Паня. – Садись, приглашают дак.
Панина мать побренчала рукомойником, подсела бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой:
– Эко налепили на бутылку-те! Дорого небось?
– Не дороже денег, – возразила Паня, давая укорот матери и поддерживая мужа в вольных его расходах.
– Ску-усна-а-а! – сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и уже пристальней оглядела бутылку и стол. Губы Сергея Митрофановича тронула улыбка, он вспомнил, как новобранец на вокзале обсасывал сыр с пальца. – Ты чё жмешша, Панька? – рассердилась Панина мать. – И где-то кружовник маринованный есть, огурчики. У нас все есть! – гордо воскликнула она и метнулась в подполье.
После второй рюмки Панина мать сказала:
– На меня не напасешша, – и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.
Сергей Митрофанович охмелел или устал шибко. Он сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка его, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а вот сердце подмывало и подмывало.
– Чего закручинился, артиллерист гвардейский? – убрав со стола лишнее, подсела к мужу Паня и обняла его. – Спел бы хоть. Редко петь стал. А уж такой мне праздник, такой праздник…
– Слушай! – открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их угадалась боль. – Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?
Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг:
– Что ты?! Что ты?! Бог с тобой…
– Вот так вот проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь.
– Да не пугай ты меня-а-а! – Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно.
Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шароховатые», – вспомнил он. Паня припала к его плечу:
– Родной ты мой, единственный! Тебе чтоб все были счастливые. Да как же устроишь такое?
Он молчал, вспоминал ее молодую, придавленную виной. В родном селе подпутал ее старшина катера с часами на руке, лишил девичества. Она так переживала! Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только там, в долгой разлуке, рассосалось все, и обида оказалась столь махонькой и незначительной, что он после и сам себе удивлялся. Видно, в отдалении от жены и полюбил ее, да все открыться стыдился.
«Ах люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться! Или уж затаскали слово до того, что и произносить его срамно? Но жизнь-то всякий раз нова, и слово это всякому внове должно быть, если его произносить раз в жизни и не на ветер».
– Старенькие мы с тобой становимся, – чувствуя под руками заострившиеся позвонки, сказал он.
– Ну уж…
– Старенькие, старенькие, – настаивал он и, отстранив легонько жену, попросил: – Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких, – сам себя перебил: – Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребятишек. Едут где-то сейчас…
Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями, а когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.
– Эко вас, окаянных! – заворчала Панина мать в сенях. – Все не намилуются. Ораву бы детишков, так некогда челомкаться-то стало бы!
У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой, ударила старуха в самое больное место.
«Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? – хотела сказать Паня. – Детишки, они пока малы – хорошо, а потом, видишь вот, – отколупывать от сердца надо…» Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо.
Сергей Митрофанович зажал в горсть лицо и тихо, ровно бы для себя, запел:
Соловьем залетным
Юность пролетела…
И с первых же слов, с первых звуков Паня дрогнула сердцем, заткнула рот платком. Она плакала и сама не понимала, почему плачет, и любила его в эти минуты так, что скажи он ей сейчас – пойди и прими смерть – и она пошла бы и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.
Он пел, а Паня, не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, причитала про себя: «Ой Митрофанович! Ой солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали их, окопы-те, хлебом заростили, а ты все тама, все тама…»
И когда Сергей Митрофанович закончил песню, она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его побитым сединою волосам, по лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что он и навечно будет с нею.
– Захмелел я что-то, мать, совсем, – тихо сказал Сергей Митрофанович. – Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького-не до слез.
– Еще тую. Про нас с тобой.
– А-а, про нас? Ну, давай про нас.
Ясным ли днем
Или ночью угрюмою…
И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженых ребят, нарядную, зареванную девчушку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, только еще вступающих в жизнь, не умеющих защититься от разлук, горя и бед.
Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать распевно и жалостно рассказывала в который уж раз:
– В ансамблю его звали, в хор, а он, простофиля, не дал согласия.
– Да и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?
– Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить каждый человек может. А талан богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих…
– И-и, голуба-Лизавета, талан у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано.
– Мели!
– Чего мели?! Чего мели?! Если уж никаких способностей нету, один талан – делать другим людям добро – все одно есть. Да вот пользуются этим таланом не все. Ой не все!
– И то правда. Вот у меня талан был – детей рожать…
– Этих таланов у нас у всех излишек.
– Не скажи. Вон Панька-то…
– А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей?! – взъелась Панина мать.
– Тише, бабы, слухайте.
Но песня уже кончилась. Просудачили ее старухи. Они подождали еще, позевали и, которые крестясь, а которые просто так, разошлись по домам.
На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки и прудка, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Он начал пятнать огороды, отаву на покосах, крыши домов. Покорно стояли недвижные леса, и цепенел на них последний лист.
Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми звездами. Такие звезды бывают лишь осенями, вызревшие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадывали осколки, и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли.
Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв собою.
Владимир Карпов
НАТЯНУТЫЙ ШНУР
Рассказ
Телеграмма была «срочная». Содержание личное, не служебное, но генерал разрешил снять майора Лобачева с боевого дежурства.
За годы своей уже не малой службы в ракетных войсках Алексей Лобачев еще не знал случая, чтобы кого-то до срока сменяли с боевого дежурства. «Что там стряслось?» – думал майор, поднимаясь в небольшом металлическом лифте из глубины земли. Лифт клацал на стыках и быстро несся вверх. Как это было уже много раз прежде, Алексей все явственнее ощущал приближение наземной жизни. Это ощущение рождалось от удаляющейся мертвой тишины. Она оставалась там, в глубине. А ближе к поверхности появлялись не только различные звуки, но и охватывало совсем другое, уютное наземное тепло.
Пройдя гулкими галереями, где стук каблуков отлетал от бетонных стен с щелканьем бильярдных шаров, майор несколько раз останавливался перед массивными железными дверями-люками и устройством, похожим на самый обыкновенный телефонный диск, набирал известный ему шифр. Тяжелые двери, словно в фильме-сказке, медленно и покорно раскрывались перед ним и закрывались за его спиной.
Выйдя на поверхность, майор сощурился от дневного света и вдохнул полной грудью вкусный живой воздух. Это была не стерильная смесь для дыхания, которую вырабатывают там, внизу, кондиционеры, а плотный, пропитанный земным ароматом, полный жизни настоящий воздух. Явственнее других проступал дух прошлогодней опавшей хвои, нагретой теплом земли, а поверх этого духа, оттесняя его, тек терпкий, смолянистый запах свежей хвои, той, что жила на деревьях и млела в солнечном согреве. А внизу, не смешиваясь с этим хвойным настоем, тянул сладковатый душок гниющих пней, павших деревьев и грибов, которые прятались где-то здесь же, в травах.
Лобачев окинул взором знакомые поля и тайгу, и его слух уловил неслышную тем, кто постоянно живет здесь, на поверхности, музыку земной жизни. Какой-нибудь горожанин назвал бы эти места глухоманью, царством тишины, а для майора, вышедшего из недр, эта тишина состояла из множества очень ясных и громких звуков: дышал ветер, шелестели листвой ближние деревья, причем каждое по-своему – березка шелковисто, дубы словно кожу перебирали, а весь лес гудел глухим могучим гулом. Рассекая воздух крыльями, пролетали птицы. Рядом жужжали комары, чуть подальше плескалась в ручье вода, а совсем далеко – но после подземной тишины для майора казалось просто оглушительно, словно деревянной колотушкой, – долбил дерево дятел. Все эти звуки Лобачев слышал будто усиленными какой-то невидимой стереосистемой.
В штабе вручили телеграмму. Всего четыре слова: «Приезжай отец умирает мама».
И сразу будто все сорвалось с мест и закружилось, майор не ходил шагом – бегал. Когда человек умирает, надо к нему непременно успеть. Все это понимают. Рапорт командиру части. Тот быстро наискось резолюцию: «Разрешаю». Сказал одно слово: «Езжайте!» Штабные тоже все бегом: «В два мига соорудим, товарищ майор!» Отстучали отпускной билет на машинке, учинили подпись, печать – все готово. На квартире, пока бросал в чемоданчик какие-то вещи, объяснил жене, Ане, куда и почему спешит. «Ох, как же так неожиданно!» А смерть всегда приходит неожиданно.
В вертолете отдышался. Пролетая над деревьями, которые сверху были похожи на зеленые одуванчики, над бездорожными холмами и болотами, Алексей подумал: «Хорошо, что у нас такой транспорт, каким-нибудь старым – лошадьми или автомашиной – с «точки» домой добрался бы уже после похорон. Хотя и сейчас успею ли?»
Так неожиданно и стремительно началась эта поездка…
И вот, после всей этой спешки, девять долгих, однообразных дней Алексей дома. Отец – Кузьма Петрович – лежит совсем непохожий на умирающего, лицо будто с курортным загаром, глаза живые, полные беспокойного света. Алексей знал, отец ни разу не был в санатории у моря, это в своем цеху он так прокалился.
Мать, Алексей и все, кто приходит навещать, ступают осторожно, на цыпочках, говорят шепотом. Только сам отец кричит из комнаты, где его кровать, громким твердым голосом:
– Чего вы там шушукаетесь? Живой я. Говорите, как при живом говорят!
Алексею и горе и радость. Хорошо, конечно, что отец не умирает, но и отпуск кончился – всего десять дней дали, как положено в таких случаях.
Отец в порядках и делах военных тоже разбирается, всю войну отшагал в артиллерии, да еще после победы года три прихватил. Как он сам говорит, «закреплял позиции».
Странное чувство охватило Алексея дома – с одной стороны, приятно, все вокруг родное, близкое с детства, с другой – неотвратимое горе, которое уже проникло в эту уютную, теплую квартиру и вот-вот ударит.
Мать и отец жили в пятиэтажном доме. Двухкомнатная квартира была оборудована умелыми руками отца, все делал сам – оклеивал обоями, циклевал полы, книжные полки навешивал, белой плиткой туалет и ванную облицевал. А одухотворила жилье мама, она наполнила квартиру домовитым теплом, запахом пирогов, всяких приправ к ним – корицы, ванили и еще чего-то, ведомого только ей. В этой квартире поселились знакомые Алексею с малых лет вещи – комод, старомодный зеркальный шифоньер, большой дубовый стол, который сначала хотели выбросить – полкомнаты занимал, но мать не позволила: пусть стоит, дедам служил и нам еще послужит. Вся эта мебель стояла в бревенчатом пятистеннике, где Лобачевы и их предки жили прежде. Домик снесли, построили на том месте новый, этажный, но квартиру взамен Лобачевым дали не в этом новом, а в другом, готовом к дням сноса. Так что на старом месте не осталось и следа от лобачевского жилья, только некоторое время стояли между высокими домами ободранные бульдозерами яблони да вишни, но и они вскоре зачахли. Теперь прошлое Алексею почему-то больше всего напоминали старинные, почерневшие от времени резные часы с медным маятником. Они висели на стене и безотказно мерили время вот уже много-много десятилетий. Они служили еще деду и бабке, которых Алексей совсем не помнил: умерли, когда ему было три года. Вот в этих часах тикала мягко и плавно еще та далекая жизнь, которая была при дедах, в деревянном домике, как отец говорил, «при проклятом капитализме». На десятый день вечером отец подозвал Алексея, сказал:
– Садись. Посиди возле меня. Попрощаемся. И поезжай. Тебе в часть пора.
– Так как же… – попытался возразить Алексей.
– А вот так. Попрощаешься со мной с живым. Ну, какой толк прощаться, когда я ничего слышать уже не буду? Ну труп и труп. Для вас это невидаль, а я этих трупов на фронте нагляделся – счету нет! Сперва тоже шарахался, замирал. А потом привык. И вообще, странно у нас, у живых людей, получается. Вот пока человек говорит, дышит – к нему одно отношение, а замолк, глаза закрыл, остыл – уже другое! Какой-то страх перед ним. Живой когда, он тебе всякие гадости может наделать – не страшен. А помер, никому никаких бед причинить не может – страх от него идет. Почему так?
– Кто же знает? – замялся Алексей. – Ты больно тему грустную затронул. Давай о чем-нибудь другом.
Отец засмеялся хорошим, бодрым смехом, будто он и не был больной, а тем более умирающий:
– Тема эта, Алеша, для меня самая что ни на есть актуальная. Как говорится, вопрос номер один на повестке дня. И никуда от него не спрячешься! Уходить мне от вас не хочется. Тепло у вас здесь, на земле, солнечно, красиво. Кому охота в сырость и мрак ложиться?
– Пап, ну чего ты взялся жилы тянуть? – вдруг рассердился Алексей. – Ты же не баба.
– Верно, сынок. Но я не для жалости это тебе говорю. А к тому, что ехать тебе надо. И попрощаться с таким, какой я сейчас, даже сподручней. Я в своем уме. Я тебя, ты меня – услышим. Простимся, и поезжай. Дела тебя ждут. Дела ого какие! Мир охраняешь. Шутка ли!
Алексей не знал, как себя вести. Что делать? Что говорить? И вообще, старик придумал такое, о чем Алексей даже не слыхал раньше! Попрощаться с живым и уехать, оставить его на самом пороге жизни и смерти? Все происходящее выглядело как-то неестественно: отец совсем не похож на умирающего. Врач сказал: «Он на своем характере держится».
Да, характер у отца действительно прочнейший! На фронте его прекрасно показал – вся грудь в медалях и даже два ордена. Как он сам гордо говорил, все должности прошел – от самой малой до самой большой: подносчик снарядов, заряжающий, замковый и, наконец, наводчик – главнейшее лицо при орудии, и поэтому даже официально во всех документах называется – первый номер. Очень гордился отец этой должностью: «Первый, он первый и есть, все на нем – и попадание по врагу, и жизнь расчета: ты не будешь попадать – противник попадет, и всему расчету каюк».
Кузьма Петрович и после войны прошел хороший путь – от рабочего до начальника цеха. Институт заочно окончил, хотя и шутил по этому поводу: «Я с цехом и без диплома управлялся. Для престижу надо было эти корочки получить. Ну и получил. Хотя и нелегко было».
Алексей знал, мало что изменил институт, отец по-прежнему писал с ошибками, не всегда правильно произносил слова, может быть, там, на заводе, это образование как-то сказывалось, а в доме, для своих, он вроде бы каким был, таким и остался. И вот этот цвет лица – керамический, совсем не инженерный, тоже на всю жизнь. Алексей и мать между собой полушутя, а больше уважительно называли отца «рабочий класс». «Ну как, не задерживается сегодня наш рабочий класс?», «Что сказал рабочий класс насчет нового телевизора?»
В жизни у Кузьмы Петровича и до института во всем была полная ясность, хоть в делах внутренних, хоть в международных. Никаких сомнений или колебаний. Он о своих руководителях и о зарубежных деятелях точно знал и предсказывал, кто какую линию «гнуть будет». Алексей никогда этому не придавал значения, ну говорит «рабочий класс» – и пусть говорит. Но как это ни странно, при всей далекости от высоких руководящих сфер и всяких особых источников информации, Кузьма Петрович в конечном счете оказывался прав! Что он предсказывал тому или иному деятелю, то и сбывалось. А видел он их за свою семидесятилетнюю жизнь немало.
На смертном одре отец был тверд духом, никакой в нем сломленности. «Какая несправедливость! – подумал Алексей. – Человек набрал мудрости, знает, что есть в жизни добро и зло, в нем кипит душа. Ему бы жить да жить с этой вот своей твердой верой и убежденностью – ее еще на один век хватит, ан нет, тянут его из жизни какие-то таинственные силы, которые еще никому не удалось ни познать, ни одолеть».
– Посиди, посиди, я тебе чего-нибудь расскажу, – успокаивал между тем отец Алексея, понимая, как ему нелегко. – Надо бы в таком случае что-то очень важное рассказать. От стариков всегда мудрости ждут. А я вот никакой особой мудрости и не нажил. Хочется мне почему-то рассказать тебе про натянутый шнур. Не знаю почему. Может, я в себе этот натянутый шнур всю жизнь ощущаю?
Алексей насторожился, думал, отец опять насчет близкой смерти поведет разговор. Но он стал говорить о другом.
– Однажды на Курской дуге пошли разведчики за «языком», или, как тогда говорили, «в поиск». Ну это только так называется, вроде бы они ищут «языка», а на самом деле у них все давно высмотрено, рассчитано, распределено, кто что делать должен. В общем, все как по нотам разыгрывается. Мы, артиллеристы, в этих нотах тоже свою партию играли. Причем очень важную. К нам даже сами разведчики пришли и объяснили. Начальство, конечно, задачу поставило. И мы ее выполнили бы. Но разведчики пришли и сказали: «От вас, братцы артиллеристы, наши жизни зависят. У нас там расстояния короткие – несколько десятков метров от немецкой проволоки до их же траншей. И если нас в этом промежутке застукают, назад все скопом мы в проход в колючке не выскочим. А если затопчемся около прохода, нас побьют за секунды. Сколько летит ваш снаряд отсюда до них? Секунд пять. Вот этого нам уже под завязку. За пять, секунд сколько можно дать очередей из автомата или пулемета? Ну, скажем, несколько. В общем, всех нас не побьют за эти секунды, тем более что мы будем гранатами да ответным огнем отбиваться. Но если нас застукают, а вы будете в блиндаже чай пить, да пока прибежите к орудиям, да наведете, да зарядите, нам уже, как говорится, капут будет. Похоронки надо писать. Вот и просим мы вас, дорогие боги войны: наведите, зарядите, да еще и шнур внатяжку держите в руке, и как мы сигнал ракетой дадим – тут уж за шнуры вы и дерните! Вот тогда мы, может быть, выберемся! Только так все произойдет мигом – дернул шнур, бахнул выстрел, долгие – ох, долгие секунды полета снаряда! – и, наконец, желанный разрыв. Ну, если по нам не попадете, то по фашистам уж точно придется! Для снаряда десять метров туда, десять метров сюда – это не расстояние. Главное, пальните вовремя! Мы там в кутерьме не растеряемся!
Кузьма Петрович помолчал, лицо его от волнения зарумянилось, глаза заблестели беспокойным блеском. «Ему бы закурить сейчас», – сочувственно подумал Алексей. И отец действительно привычным жестом потянулся к стулу, приставленному к кровати, где, когда он был здоров, обычно лежали папиросы «Беломор». Он сделал это движение подсознательно, зная, что папирос на стуле давно нет, поэтому и жест его остался незавершенным, рука сначала быстро выпрямилась, а потом, едва коснувшись стула, зависла, будто в задумчивости, и вернулась на грудь.
– Ну, договорились мы с разведчиками обо всем. И ночью, когда они позвонили из первой траншеи, что «работа началась», мы встали к заряженным орудиям, и я, натянув шнур, держал его наготове. А у них там дело делается не быстро. Осторожность большая нужна. И час и два прошло. У меня аж руки занемели. Я то одной, то другой рукой шнур держу. Казалось бы, ерундовое дело – шнур держать, а вот, поди ж ты, нелегко получается. Раньше, при обычной стрельбе, снаряд в канал, замок щелкнул, команда «Огонь!», и я шнур дергаю. А тут стоишь, в груди вроде бы пружина сильная закручена, а руки, ну, будто совсем без костей, из одного мяса, не хотят держаться на весу, так и падают вниз. Но я держал! Одной рукой смолю цигарку из махры, другой шнур держу. И вдруг – ракета красная во тьме. Командир не успел «Огонь!» докричать, я уже шнур рванул. Звуки разрывов еще не прилетели, а мы всей батареей опять зарядили и бабахнули. Что там у разведчиков было, мы не видели, но огонька дали мигом! Очень они потом нас благодарили. «Если бы не вы – хана бы нам всем». И «языка» приволокли… – Кузьма Петрович вдруг хватился: – Погоди, зачем это я начал рассказывать?
Алексей напомнил:
– Ты говорил, старики – мудрый народ. Наверное, хотел под этот случай какую-то базу подвести.
Отец оживился.
– Вот-вот! – Потом внимательно посмотрел Алексею в глаза, как-то значительно выдержал паузу и молвил: – Мудрость из этого складывается, Алеша, не моя, а твоя. Я ухожу. Мне уже ничего не надо. А при шнуре натянутом остаешься ты. У вас там все на кнопках. Но шнур тот натянутый есть, ты о нем всегда помни. При современном оружии, как тогда у наших разведчиков, все будет решаться в секунды. Так что держите шнур всегда натянутым!
– Не беспокойся, пап, не оплошаем, – сказал Алексей.
– Вот и хорошо. Я тебе верю. Нам этот мир большой кровью достался. Как это странно – за мир надо кровью платить! За все платят деньгами, золотом, а за мир, вот выходит, смертями. Да что я говорю – мертвяки ничего не стоят. Жизнями платили – жизнями живых людей! Ох, сколько же я их видел только моими вот этими двумя глазами! А сколько тех, которых я не видел? Представляешь? И какие люди были…
Он долго молчал, разглядывая сына добрыми, любящими глазами. Алексей не чувствовал неловкости от этого пристального взгляда. Понимал, отец хочет наглядеться перед расставанием, сын-то один-единственный. Но вдруг Кузьма Петрович заговорил совсем не о том, что подразумевал Алексей.
– Честно признаться, я ведь толком тебя и не знаю. Чего стоит человек – узнают по поступкам. А какие у тебя поступки? Я их не помню. Маленький был, мать конфетами начала баловать. Я с нее стружку снял за это. Перестала. А ты поплакал и забыл про конфеты. Ну и дальше я тебя в строгости держал. Так это мой, а не твой поступок. – Отец помолчал. – Был и у тебя первый самостоятельный поступок. Помню его. Очень ты меня тогда обидел! Это надо же, первый раз самостоятельность показал и навек оскорбил отца!
– Что же я сделал? – удивленно и виновато спросил Алексей. – Не помню такого… – Сын не кривил душой, он действительно уважал отца, не перечил ему в детстве. Да и потом, став офицером, встретив на службе нескольких командиров-наставников, которых полюбил всей душой, старался им подражать, но отца никогда даже вровень с ними не ставил: отец – это отец, пусть даже он был всего сержантом на фронте. Отец всегда был для Алексея самым высшим авторитетом. Не по грамотности, не по боевым военным делам, Алексей и сам, пожалуй, не мог бы точно сказать, чем именно, однако определенно знал: отец его самый чистый, честный, трудолюбивый человек на свете. Он и правду-матку любому в глаза скажет, и в беде не оставит.
– Прости, если что было, – попросил Алексей.
– Ох и крепко ты меня тогда обидел. Раз в жизни, но крепко! Ничего тебе тогда я не сказал. Это был первый поступок. Ломать тебя не хотел.
– Что же я сделал?
– Сказал, не хочешь быть рабочим, в офицеры пойдешь!
Алексей хотел сгладить обиду.
– А может быть, я на тебя фронтового хотел быть похожим… Ты же сам много про бои, про товарищей рассказывал.
– Не виляй! Не надо! Я потомственный рабочий, и это главнее всего. В общем, обидел. Ну, а потом ушел в училище. Офицером стал. Служил в разных краях. Может, и добрые дела делал, но я-то их не видел, не свидетель я им. Вот и получается, ни одного большого поступка твоего, настоящего, чтоб личность из тебя ярко проглянула, я пока не знаю. Вот ты майор, звание большое. На фронте я таких вблизи редко видел, у нас командиры батареи старшие лейтенанты были. Один, правда, до капитана додержался, но только звездочку четвертую прикрепил, в первом же бою руку оторвало. Опять старшой на его место пришел. Я это к тому, что ты вот майор, а я в тебе и майора не чувствую. Какой-то ты не фронтовой, не боевой майор. Как-то мне неспокойно таких майоров нонче видеть.
– Наверное, потому, что я тебе сын. Какой же я тебе майор? И полковником стану, все равно ты меня за Алешку считать будешь. Это как для матери: хоть министр, хоть генерал – все равно ее дитя.
– Это правильно, сынок. Служишь ты хорошо. Это мы с матерью знаем. Но мне, как отцу, хочется прочность твою увидеть. Увериться в ней.
– Ты бы не волновался, нельзя тебе, – попросил Алексей.
– Теперь мне, Алеша, все можно. Все. Вышел я, как говорится, на последний свой рубеж. Странно, пока жизнь впереди, то нельзя, это нельзя. А когда один шаг до конца остался – все можно, даже правду сказать. И как это, оказывается, важно для человека – высказать правду! Вот хотя бы ты и я – отец и сын – нет ближе людей. А вот я тебе сейчас могу сказать все, а ты мне не можешь.
– Почему? И я тебе все могу сказать.
Кузьма Петрович хитренько прищурился, лучики морщин так и брызнули от глаз по вискам.