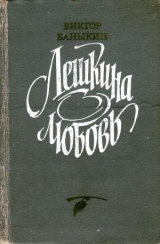
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Совсем недавно – какие-то там недели две назад – в лучах чистого апрельского солнца всюду вокруг еще по-зимнему сверкали снежные сугробы. И на горах, и на дне оврага, и на берегу Волги. Снег и свет, свет и снег! Глаз нельзя было поднять от этого ликующего весеннего блеска.
А тут еще первые ручьи, подтопляющие сугробы. Вода-снежница, казалось, метала искры, и были эти искры куда ярче огней электросварки!
Особенно же привольно было в эти солнечные дни на волжском берегу. Река все еще была скована льдом, но лед побурел, и на нем там и сям светились нежнейшей лазурью озера.
Здесь как-то острее ощущалось волнующее кровь дыхание талой свежести. Горы отбрасывали на заснеженный берег мягкие голубеющие тени, и взгляд отдыхал, скользя с одного сугроба на другой. Над сугробами нависли потешные тонкие козырьки, будто матовые синие абажуры.
И как ни светило, как ни припекало с утра до ночи веселое молодое солнце, но и оно не в силах было справиться с очерствевшими снежными залежами. И тут на помощь солнцу пришла живая вода.
Дня четыре назад небо вдруг принахмурилось, а к вечеру заснеженную землю побрызгал дождь. И был-то он какой-то несмелый, а вот на тебе: напугалась зима, отступила.
Встали люди поутру, а снег весь посерел, зазернился – тронулся. Тронулся журчащими ручейками и потоками. Ни пройти, ни проехать.
– Конец зимушке, – стоя на пахнущем банной прелью высоком крылечке, сказал раздумчиво сторож молодежного общежития Мишал Мишалыч (так прозвали проказливые парии этого доброго, в меру ворчливого старика). – И всему-то виной живая водица!
И хотя все эти дни после дождя небо хмурилось, порывами налетал злой, прохватывающий до самой душеньки ветер, говорливые ручьи все так же весело, наперегонки бежали к Волге, подтачивая леденцовые шапки осевшего снега.
А нынче вот снова засияло солнце. Шла Варя на стройку и нарадоваться не могла весне.
Уж показались проталины. Почему эти первые лоскутки раскисшей весенней землицы всегда так до слез волнуют? Кто знает!
Над крышей заселенного с месяц назад дома мальчишки прибили шест со скворечником. Нечаянно глянув на корявый этот шест с новой дачкой для ожидаемых из-за моря-океана птах, заботливо покрашенной ребятней светло-зеленой краской, Варя вдруг споткнулась и замерла на месте.
Над птичьим домиком увивался взъерошенный скворец. То сядет на конек, то нырнет в окошко, то выпорхнет на крылечко да так засвистит, моргая крыльями!
– Здравствуй, скворушка, здравствуй, черномазый! – сказала Варя и зашагала дальше своей дорогой.
У опоясанного лесами дома – строители готовились сдать его к маю – было особенно грязно. Всюду валялись горько пахучие тесины, битый кирпич, какие-то бочки.
Поругивая про себя нерасторопливого прораба, не позаботившегося о мостике, Варя осторожно перешла через канаву со студеной стоячей водой, доходившей до щиколоток, с трудом взобралась на обсохший бугорок. Остановилась, перевела дух. А когда наклонилась и пожухшей прошлогодней траве – надо было разыскать щепку и очистить отяжелевшие ботики от налипшей к подошвам грязи, – Варя вдруг и увидела глаза весны. Желтые цветочки-корзиночки смело и радостно таращились на небо, тоже радостно-синеющее и такое огромное-преогромное.
Присев на корточки, Варя осторожно раздвинула одеревеневшие ржавые стебли прошлогодней осоки и залюбовалась янтарными капельками, исторгавшими из своих крошечных корзиночек еле уловимый аромат меда.
Варя не прочь бы сорвать впервые увиденные ей в эту весну цветы, но она пожалела их и оставила радоваться солнцу. А чтобы какая-то недобрая нога не втоптала цветы в грязь, Варя огородила это место, точно крепостной стеной, половинками кирпича.
В гулком же пустом здании, пока еще притихшем и невеселом, пропитанном запахами олифы, столярного клея и сосновой смолы, Варю ждал новый сюрприз.
В комнате, где она должна была красить рамы двух больших глазастых окон, на одном из подоконников стояла бутылка из-под молока. Обыкновенная впрозелень пупырчатая бутылка с водой. Из ее горловины торчали подснежники на дымчатых мохнатых стебельках. Белые-белые чашечки. Из чашечек выглядывали тоненькие ножки-тычинки: кремовые, все осыпанные пыльцой.
Сцепив на груди руки, Варя долго любовалась хрупкими полупрозрачными чашечками. Чудилось: прикоснись к ним пальцем, всего лишь подушечкой пальца, и они со звоном вдребезги расколются.
Даже через телогрейку ощущали руки бешеные прерывистые толчки сердца.
Кто, кто ходил в лес за этими подснежниками? Кто принес их сюда?
Внезапно Варе подумалось: Лешка, ну да, он, кто же еще мог отважиться в позаранки топать по липкой грязи, перемешанной с крупитчатым, точно соль, зернистым снегом? Это он бродил по сырому сосняку, с полянки на полянку, выискивая среди колючего кустарника притаившиеся подснежники.
А в эту минуту, затаив дыхание, Лешка крадется на цыпочках из коридора в комнату, чтобы нежданно-негаданно обнять ее, Варю, за плечи, обнять и крепко-крепко прижать к себе.
Варя не удержалась и оглянулась, все еще держа на груди руки. Но в комнате, кроме нее, по-прежнему никого не было.
«Глупая, – упрекнула она себя. – Ну как мог Лешка оказаться сейчас здесь, в Жигулях? Он, поди, по плацу марширует… в своем далеком Львове».
И она принялась готовить кисть и белила для работы.
Весь день Варю не покидало странное ощущение светлой радости и смутной тревоги, тревоги знобящей, лихорадящей. И еще более странно было то, что не одна она, Варя, но и другие девчата и ребята из бригады тоже были настроены на какой-то возбужденный, веселый, даже отчаянный лад. Видно, всех будоражила, ломала весна.
Не усидел дома и вышел на работу Михаил, хотя в кармане у него все еще лежал бюллетень.
Медлительный, несноровистый, он прибивал в коридоре плинтуса, то и дело о чем-то задумываясь. Взмахнет молотком, стукнет по шляпке гвоздя и окаменеет в неудобной позе.
Егозливая, кругленькая Оксана, пензячка, одна из товарок Вари по комнате, острая на язык девчонка, весь день подшучивала над незадачливым Михаилом.
Пробежит с ведром, до краев наполненным раствором, мимо натужно сопящего парня и непременно споет игривым голосом частушку:
Говорят – любовь полезна,
Любовь очень вредная.
Поглядите на него —
Вся мордаха бледная!
А Михаил – ни гугу, ни слова в ответ, только еще ниже согнет свою нескладную спину.
Пройдет немного времени, и Оксана снова примется за парня.
– Товарищ москвич… Михаил Аркадьевич, подь сюда! – закричит на весь этаж. – Ты слышишь, не оглох?
– А чего у вас там загорелось? – недоверчиво отзовется Михаил.
– Живо: одна нога там, другая тут!
Подойдет Михаил к забрызганной мелом Оксане, ловко, по-мужски, орудующей маховой кистью, а она сделает вид, словно не замечает его.
– Ну, какое у вас ко мне дело? – спросит он сдержанно.
– А разве я тебя звала? – не моргнув глазом, удивится девчонка. – Да, вспомнила… Ты не знаешь, светик, почем на рынке в Порубежке молчание продают?
Все так и покатятся со смеху. Даже Михаил, и тот грустно улыбнется, поправит на шее бинт и снова к своему делу заспешит.
– И не совестно тебе над человеком измываться? – покачает головой Анфиса – длинная, как жердь, девушка – вторая Варина соседка по комнате. – Другой бы на его месте такими тебя матюшками обложил!
– Подумаешь! – перебьет рассудительную Анфису капризная Оксана, кривя тонкие накрашенные губы. – Уж и подурачиться нельзя! Иль у тебя свои виды на этого телка?
– Пустомеля! – отрежет Анфиса и надолго умолкнет. Ее строгий иконописный лик – потемневшего золота – непроницаем, точно на десяток запоров замкнут.
«О чем она думает, чем живет?» – частенько спрашивала себя Варя, исподтишка наблюдая за молчаливой, скрытной Анфисой. Та даже вышивки свои и те никому и никогда не покажет. Сядет в угол, на прибранную, непорочной белизны кровать и ковыряет иглой что-то там на круглых пяльцах. Подойди – вмиг спрячет за спину пяльцы и строго так посмотрит на тебя серыми холодными глазами: чего, мол, пристаешь, как смола. Отойди, не мешай! Вот какая она, Анфиса, только что совестившая Оксану.
А Оксана – назло подружке – снова пела:
Я не буду набиваться,
Как она набилася:
«Проводи меня домой,
Я в тебя влюбилася».
Варя то и дело украдкой заглядывалась на подснежники. Кто все-таки принес ей эти цветы? Возможно, Мишка? Или этот вот застенчивый скуластый казах Шомурад с маленькими блестящими глазами? А быть может… нет-нет! Ведь они и виделись-то всего-навсего какую-то минуту, от силы две. Нет-нет! Да и здоров ли он после… после вчерашнего купания в ледяной воде?
В обеденный перерыв Варя пошла разыскивать Михаила.
Удобно развалившись на стружках в самом конце коридора, Михаил всухомятку грыз черствую горбушку.
Варя присела с ним рядом на кучу легких, хрустящих завитков. Присела и протянула парию бутылку с молоком.
– Не брезгуй: я из горлышка не пила.
– Вот спасибо, – обрадовался Михаил, беря бутылку. – А я думал: подавлюсь. Эта горбушка времен Ивана Грозного.
– Где же ты ее откопал?
– Где, где… в тумбочке у себя… в общежитии. Сижу на мели, жду от родительницы перевода, а она…
– Ну, это уже безобразие! – возмутилась Варя. – Когда ты, наконец, научишься на свою зарплату существовать?
– А разве я не учусь? Знала б ты, Варяус, сколько я в Москве в месяц проматывал!
Помолчали. Вдруг Варя тронула Михаила за локоть:
– Мишка, как ты думаешь, если человек… нечаянно искупался в Волге… Встал на льдину, а она развалилась… Как ты думаешь, он не заболеет?
– А зачем ему вставать на льдину? – удивился Михаил. – Сейчас же ледоход!
– Ну… я же сказала тебе: нечаянно. Вылез из воды… подумай только: до ниточки промок. Воспаление легких он не схватит? А?
Поставив в ногах пустую бутылку, Михаил повернулся к Варе, заглянул ей в глаза.
– Что с тобой, Варяус? Тебе плохо?
– Нет. Откуда ты взял? – гордо вскинув голову, Варя легко встала на ноги и засмеялась. – Это я книгу одну читаю… не твоего, конечно, Ремарка… И там герой… симпатичный такой, смелый – в полынью ухнулся.
И она опять засмеялась.
А ночью Варю мучили кошмары. Сначала ей снился Лешка – измученный, отощавший. Он брел по дикому, безмолвному лесу, продираясь сквозь черную непроходимую чащобу, раня руки и лицо, по колено увязая в тинистой, гиблой хляби.
– Это ты всему виной, – шептали распухшие, кровоточащие губы. – Для тебя пошел я в лес за подснежниками… А теперь вот погибаю. Из-за тебя погибаю.
Варя стонала, металась на койке: сердце в груди разрывалось на части от жалости к Лешке.
Но вот она поворачивалась на другой бок, и начинались новые кошмары.
Зачем-то шла Варя через Волгу на другую сторону. А лед уже тронулся. Она прыгала с одной шуршащей чки на другую, с той на третью… Ноги скользили, и она то и дело падала. И чем ближе левый берег, уныло-пустынный, с песчаными тусклыми буграми, тем льдины попадались все мельче и тоньше.
«Видно, мне не видать больше белого света», – думала Варя, с тоской озираясь вокруг.
В самый последний миг – желанный берег был совсем близко, рукой подать – Варя внезапно провалилась по пояс в воду. Судорожно цепляясь руками за острые, как стекло, края льдины, она попыталась вылезти из полыньи и не могла. Не могла, потому что кто-то цепко обхватил руками ее тонкий стан, будто заковал в железный обруч.
– Ага, попалась! – торжествующе захохотал этот кто-то. – Я тебе говорил: на дне морском разыщу. И разыскал вот!
И Варя – что было мочи – закричала, закричала, взывая о помощи.
Она не сразу очнулась, не сразу узнала Анфису, склонившуюся над ее кроватью: странно белую, призрачную.
– Ну разве эдак можно? Я подумала, тебя режут, – шепотом сказала девушка, придерживая у подбородка ворот холщовой жесткой рубашки.
– Мне сон… страшный такой, – расслабленно, точно больная, и тоже шепотом проговорила Варя. – А почему так светло? Уже утро?
– Нет. Луна в окно светит.
И верно: в самое верхнее звено рамы заглядывала луна – голая, озябшая.
Анфиса неслышно опустилась на край кровати. Ласково, ровно мать в детстве, погладила Варю по щеке ладонью, горячей и сухой ладонью.
– А ты перекстись… сотвори «Отче наш», и все страхи улетучатся.
Варя оглядела немотно-глухую, как преисподняя, комнату, осиянную лунным светом – мертвенным, равнодушным ко всему живому, и ей померещилось: начинается новый кошмар.
– Не думай смеяться, я правду говорю, – шептала Анфиса. – Меня бабушка научила. Она все молитвы знала. Она и дьявола могла отогнать…
О чем еще говорила свистящим, шепелявым шепотом Анфиса, Варя уже не слышала. Тут она вдруг заснула – спокойно и крепко.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯВ субботу Варя ходила в соседнее село Порубежку на почту.
Хоть Варя и не хотела признаваться себе в том, что зимой погорячилась, отправив Лешке глупую, ой какую глупую телеграмму, но где-то в тайнике души уже кляла себя за эту свою необузданную горячность. И давно ждала, каждый божий день ждала от Лешки писем, а он все молчал и молчал.
Варе надо бы самой послать ему весточку, приласкаться, загладить опрометчивый шаг, да гордость девичья мешала.
Нынче под утро Варе спились блины – масляные, с румяными похрустывающими ободками, пышущие печным зноем. Проснулась, а они, блины эти самые, всё так и стоят перед глазами – страшно вкусные домашние.
И тут Варя вспомнила, горько вздыхая, как, бывало, сестра, верившая всяким снам, певуче, со смаком, тянула: «А если, случаем, блины во сне увидеть доведется, то уж непременным образом письмо получишь. Самым непременным образом!»
«А быть может, и правда, на почте лежит для меня письмо? – думала Варя, глядя в однообразно белый, как небытие, потолок. – Вдруг Лешка послал письмо «до востребования»? Оно и лежит на почте, ждет не дождется меня?»
Вот после работы Варя и отправилась в Порубежку – старинное волжское село, укрывшееся за горным кряжем от гулливых зимних метелей.
Снег в лощине уже давно весь растаял. Его спалило солнце, источили теплые ветры. Зимняя натруженная дорога тоже давным-давно рухнула. Теперь на месте когда-то укатанной полозьями и колесами машин искристо-синей бугристой дороги тянулась унылая мазутно-ржавая вязкая полоса грязи с лужицами квасной гущи. И в село строители ходили по высокой обочине, уже пообветревшей, протоптанной среди невысокого колючего кустарника.
Но в горах местами лежал снег. Последний снег. Он просвечивал сквозь неодетый еще лес. И казалось, там, на горных склонах, кто-то разбросал холсты.
Уже показались прокоптелые рубленные из сосняка сельские баньки, разноцветными лоскутками замелькали железные крыши изб, а над ними в предвечернем небе – чистом и звучном – серебрился купол приземистого собора.
В селе жили многие семьи нефтяников. Пока строители нового городка не могли обеспечить квартирами всех работающих на промысле.
При дороге, вблизи Порубежки, стояла тонкая, грустная рябина.
Варя взглянула на одинокое, ничем не приметное деревцо. Снова взглянула и заулыбалась.
В прошлую осень, в октябре, какая это была красавица! Узкие, лодочкой, оранжевые листики трепал из стороны в сторону задиристый ветер, гнул непокорную вершину, а деревцо, увешанное сверху донизу коралловыми ожерельями, не поддавалось ему.
Всем людям на диво была эта одинокая придорожная рябина, всех она радовала, у всех вызывала на губах невольную улыбку. И ее никто не трогал, никто не обрывал с нее крупных жарких бусин – ни пеший, ни конный.
Но нашлись-таки злые люди, которым захотелось погубить деревцо, полыхающее радостным огнем.
Как-то раз, недели за две до отъезда Лешки на военную службу, Варя и Лешка возвращались вечером из Порубежки к себе в Солнечное. Навстречу им несся по дороге грузовик, распуская по ветру длиннущий грязно-серый хвост пыли.
И вдруг у самой рябины машина со скрежетом остановилась, точно споткнулся норовистый конь. На миг-другой и грузовик и деревцо сразу скрылось в густом, как бы дымном, вихре.
– Нарви, Петруха, ягод, сгодятся! – донесся до Лешки с Варей глухой булькающий голос.
– А чего тута нянчиться, мы в момент под корень ее! И и кузов! – ответил другой голос, залихватски веселый, пьяный. – А дома самогоночку на ейных ягодах настоим!
И тут Лешка со всех ног ринулся к машине, пока еще еле обозначившейся в поредевшем седом облаке.
– Стойте, бандюки! – закричал он, бесстрашный, подбегая к саженного роста верзиле, уже вскинувшему топор, чтобы сразить ни в чем не повинную рябину.
У Вари и сейчас по спине пробежали мурашки, когда она вспомнила тот случай, продолжая глядеть на тихое, такое скромное теперь деревцо с набухшими лиловатыми почками.
Под Лешкиной рябиной она постояла на бестравной земле, слушая негромкую песенку овсянки, зинькающей высоко над головой, и побрела дальше.
И Варе уже верилось: ждет ее на почте письмо, его, Лешкино, письмо.
Она так торопилась, что когда пришла на почту, смуглое цыганское лицо ее все засияло в светлых бусинках пота. Она и паспорт протянула в окошечко нетерпеливой, дрожащей рукой.
Медлительная пожилая женщина в очках молча взяла паспорт и долго-долго перебирала письма. Варя со страхом смотрела на эти мелькавшие конверты в длинных пальцах, выпачканных чернилами, будто ожидала приговора.
Но вот женщина сунула в какой-то ящик пачку чужих растрепанных конвертов, видно, опостылевших ей, и так же молча возвратила Варе паспорт.
Варе хотелось спросить: «А не лежат ли у вас где-нибудь еще письма?» Но она не спросила, она не в силах была и рта раскрыть.
Шатаясь, вышла Варя из душного помещения, пропахшего сургучной гарью и клеем. Вышла на крыльцо, прислонилась плечом к распахнутой настежь сенной двери, да и простояла так до тех пор, пока не окликнул ее проходивший мимо казах Шомурад.
В серой смушковой шапке набекрень, в новом негнущемся плаще и начищенных до блеска сапогах, этот застенчивый юноша мало чем походил на многих ребят со стройки, вечно грязных, неопрятных.
– Почему скучаете тут? – спросил Шомурад, останавливаясь у крыльца, – Кого-нибудь ожидаете?
Варя мотнула головой.
– Нет, Шомурад, – не сразу сказала она, с большим усилием овладев собой. – Я никого не жду.
Постояла так еще недолго и стала спускаться вниз – медленно, слишком медленно, точно крыльцо все обледенею и она боялась поскользнуться.
– Скучно одному… сам по себе знаю, – снова заговорил Шомурад, не глядя на Варю. – Собирался в клуб на кино сходить, духу не хватило… очень даже скучно одному. Пойдем вместе, не скучно будет.
– Я домой пойду. – Чуть косящие Варины глаза, всегда с веселой смешинкой где-то там, в глубине зрачков, в этот миг были грустными, непривычно грустными. – А вы возвращайтесь-ка в клуб, Шомурад. Там девушек много бывает… познакомитесь.
Казах как-то сразу побагровел лицом. Немного погодя, он несмело опросил:
– С вами, Варя, можно?
Они долго – через все село – шли молча: Варя впереди, казах чуть приотстав.
Смеркалось: в прозрачном, но уже как бы отсыревшем воздухе, совсем еще недавно нежно розовевшем, разливалась негустая, по-весеннему трепетная просинь.
Далеко окрест разносился колокольный звон: ленивый, печальный, нагоняющий на душу тоску. Этот звон сзывал верующих к вечерне. Варе уже повстречалось несколько женщин. Молчаливые богомолки мелкими шажками семенили в церковь, похожие, точно тени, одна на другую.
«Неужели это правда… неужели наша Анфиса тоже из таких вот? – подумала Варя, глядя в бледное лицо молоденькой девушки с опущенными глазами. Та была в темном шелковом платке, туго заколотом под самым подбородком, и в коричневом пальто – совсем в обыкновенном, стандартного пошива. Девушка бережно поддерживала под локоть согнутую крючком старушку. Казалось, они обе не ступали ногами по грешной земле, а плыли по воздуху. – Она, Анфиса, вот так же… и в глаза никому не смотрит, и молчит все».
И Варя – не первый раз за последние дни – с содроганием вспомнила недавнюю глухую полночь, пугающе-светлую, призрачную полночь, и склоненную над ней – тоже призрачную – Анфису.
У самой последней, на отшибе, покосившейся избы, крытой когда-то давно соломой впричесочку, стояли две повздорившие между собой девчонки.
– Ирка-запирка! Ирка-запирка! – твердила скороговоркой одна из них, долговязая и поджарая, в красной вязаной шапочке. Она в одно и то же время молола языком и притопывала, будто козочка, ногами.
Ее подружка, пухлая, неповоротливая, закутанная в меховую шубку, молчала, то краснея, то белея от гнева. Но вот и она наконец решила развязать язык.
– А ты, а ты, – девчурка перевела дух, вытаращила глаза со стоящими в них слезинами, – а ты… ты просто никто! Вот кто ты!
И, заревев басом, бросилась опрометью к калитке.
– Ай-ай! Ка-ак неприлично… такой маленький девочка и так нехорошо ругается! – погрозил Шомурад пальцем девчонке в красной шапочке.
Красная шапочка застеснялась, хмыкнула наморщенным носом и тоже побежала прочь от покосившейся избы, из которой все еще доносились горькие басовитые всхлипывания.
И вот уже ни села, ничего не осталось вокруг, кроме горбатых гор по сторонам да раскиселившейся дороги. Теперь сумерки круто загустели, будто их окропили фиолетовыми чернилами. А из дальнего Бирючьего оврага потянуло апрельским знобящим сквознячком… И тотчас ощутимее стали запахи весны. Пахло почками, клейко-смолистыми, сластимо-горькими, пахло талой землицей и еще чем-то на удивление хмельным, будто дурман.
Шомурад начал часто и громко вздыхать. Варя приостановилась, глянула назад.
– Что с вами, Шомурад?
Тот еще раз шумно передохнул, раздувая широкие ноздри, ровно запыхавшийся на скаку иноходец. Беспомощно развел руками.
– Лучше мне одному идти… с тобой с ума пропадешь!
Хотя на душе у Вари скребли кошки, она все же не удержалась, прыснула в кулак.
– Чем это я вам не угодила?
Протянув руку, Шомурад осторожно, одними лишь подушечками пальцев, чуть коснулся упругой Вариной косы.
– Иду, иду… всю дорогу иду и твоя коса вижу. – Казах отдернул руку, словно обжегся. – Какой у тебя волос… такой бывает грива у молодой ногайский жеребенка. Совсем-совсем молодой.
И он звонко прищелкнул языком.
Варя сошла с тропинки и холодно проговорила:
– Идите-ка теперь вы впереди. Вы ведь мужчина… Я в темноте волков боюсь.
В Солнечное они пришли затемно. На лавочке у общежития восседал в тулупе и валенках с калошами Мишал Мишалыч, располневший не в меру старик с дряблым одутловатым старушечьим лицом.
– Сумерничаете, Михаил Михайлыч? – спросила Варя и присела рядом со сторожем. И лишь тут почувствовала, как она невыносимо устала. Гудели ноги, ныла поясница, а по вискам барабанили невидимые молоточки.
– А ты, девонька, нагулялась? – вопросом ответил Мишал Мишалыч, набивая табаком носогрейку и косясь на проходившего по крылечку казаха. Почему-то старик недолюбливал этого тихого парня.
– На почту ходила, а писем нет, – вдруг призналась Варя.
Старик посопел-посопел, сказал:
– Ты дай-ка мне адресок… Я его с перчиком прочищу… А ведь какой лебедь-то был! Я в твоем этом Лешке души не чаял, а он – на тебе…
– Ну что вы, Михайлыч! – Варя испуганно схватила старика за рукав тулупа. – Он хороший… он такой хороший! Это я… я во всем виноватая!
Запела скрипучая дверь, и на крыльцо выкатилась кругленькая Оксана в пальто клюквенного цвета и на диво замысловатой шляпке. От нее нестерпимо – за версту – несло дешевыми духами.
– Привет честной компании! – пропела Оксана. Помолчав, насмешливо добавила: – А тебе, Варвара, видно, парней мало? Деда непорочного хочешь в грех ввести?
Мишал Мишалыч выпустил к черному мглистому небу с редкими расплывчатыми звездочками струйку забористого, едучего дыма. Пошевелил косматыми, как у лешего, бровями и картинно подбоченился:
– А чем я тебе не жених, егоза-дереза?
Оксана фыркнула, помахала кружевным платочком.
– Ты, дед, летом кури этот свой зверобой. Наверняка все мошки в придачу с комариками враз протянут ноги!
– Ишь, вострая на язык! Ты мне не юли, а ответь напрямки: чем же я непригожий жених?
– Все бы ничего, да толст больно. – Оксана дерзко и нахально глянула старику в глаза – по-детски наивные, с прозрачной стоячей слезиной. – У теперешних невест и кроватей таких не найдется, чтобы тебя, борова, уложить!
Добродушно хихикая, старик покачал головой.
– Пустомеля. Право слово, пустомеля! А полноту мою ты не тревожь! Полнота, она того… все к старости тяжелеют. Землица наша, матушка, и та тяжелеет. Каждодневно. На сколько тыщев тонн каждый день тяжелеет.
Мишал Мишалыч вдруг выпрямился и смерил маленькую расфуфыренную Оксану долгим презрительным взглядом.
И Оксану точно вихрем с крыльца сдунуло. Скрываясь в непроглядной стынущей тьме, она яростно бормотала какие-то ругательства.
Варя встала и поплелась к себе в комнату. В коридоре ее встретил Михаил: чистый, выбритый, в модном своем московском пальто.
– Варяус, ты где… – начал было он, но Варя сердито одернула его.
– Отвяжись, Мишка, ну, что ты, клоун, в самом деле?
И он сразу сник, зачем-то спрятал за спину руки.
– Может, в кино прошвырнемся? – тихо, смиренно спросил Михаил немного погодя, плетясь вслед за Варей на некотором расстоянии.
У дверей своей комнаты Варя оглянулась.
– Вы что все… на кино нынче помешались?
– А сегодня, знаешь ли, в Порубежке иностранный фильм крутят: «Одни неприятности». Сходим? – уже совсем молящим голосом протянул Михаил.
– Спасибо. У меня своих неприятностей хоть отбавляй! – отрезала Варя и перед самым Мишкиным носом хлопнула дверью.







