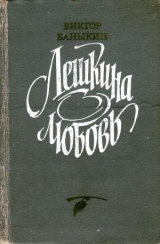
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Лешка не находил себе покоя. Ему все стало немило, все опостылело. Даже спал Лешка тревожно, разметавшись, как в бреду, по постели… Он ложился и вставал с мыслями о Варе. Она была во всех его снах – веселая, отчаянная, сводя с ума своей беспокойной красотой. Просыпаясь среди ночи, Лешка с ужасом думал: неужели все кончено, неужели она никогда больше не захочет его увидеть?
Возвращаясь теперь с работы, Лешка старался придумать себе какое-нибудь дело, чтобы хоть на время заглушить тоску по Варе. Он колол дрова, мыл полы, готовил к приходу дяди Славы уму не постижимые кушанья, которые днем с огнем не сыщешь ни в одной книге по кулинарии. Лешка потом сам удивлялся, откуда бралась у дяди Славы терпеливая покорность, когда он ел Лешкины обеды: постный картофельный суп с пожелтевшими свежими огурцами или манную кашу с мелко нарезанной колбасой, поджаренную на сковороде с луком и перцем.
Но как ни лез Лешка из кожи, придумывая себе разную работу, все его ухищрения плохо ему помогали. Особенно трудно было вечерами, когда он обычно отправлялся встречать Варю после ее школьных занятии…
Лешке думалось, что никогда, пожалуй, не будет конца этой тоскливой для него неделе. Но он все же наступил.
В субботу была получка, и Лешка, выйдя из ворот завода, отправился в гастроном за покупками.
Он подолгу стоял то у одного, то у другого прилавка, прикидывая в уме, что выгоднее купить: топленого или сливочного масла, банку рыбных консервов или пакетик рагу в целлофане, конфет «фруктовая смесь» или сахарного песку? Не зная даже, зачем он это делает, Лешка вместе с другими покупками опустил в авоську и четвертушку водки.
А вернувшись домой, он занялся дровами.
«Давай-ка наколем на несколько дней, и порядок будет», – решил Лешка, выбрасывая из сарайчика, пристроенного к избе, звонкие сосновые плахи и чурбаки.
Войдя в раж, Лешка сбросил с себя телогрейку и, потный, жаркий, снова взялся за топор, высоко вскидывая его над головой.
Лешка не видел переходивших дорогу Михаила и высокой девушки в черной котиковой шубе. Они направлялись прямо к нему.
Остановившись чуть поодаль крыльца, Михаил и девушка невольно засмотрелись на Лешку: с виду худущий, поджарый, он был на деле сильным, сноровистым. Небрежно и размашисто, как бы играя, он с одного удара разваливал толстый, литой чурбак надвое, а потом, так же небрежно и размашисто, без передышки, крошил его на ровные, совсем ровные полешки.
Но вот наконец Михаил окликнул Лешку:
– Привет дровосеку!
Опустив к ногам тяжелый топор, Лешка оглянулся, проводя рукой по мокрому, все еще черноватому от летнего загара лицу.
– Пришли в гости, а он и замечать не хочет! – с наигранной веселостью говорил Михаил, не вынимая рук из глубоких карманов серого ворсистого пальто. – Ну иди, иди сюда, знакомить буду.
Девушка протянула Лешке руку, обтянутую тонкой надушенной перчаткой.
– Ольга, – сказала она, глядя на Лешку немигающими, чего-то ждущими глазами.
Лешка покосился на свою красную, натруженную руку и торопливо вытер ее о брюки.
Осторожно пожимая руку Ольги, Лешка забыл назвать свое имя, и девушка, стараясь прийти ему на помощь, спросила с доброй, поощряющей улыбкой:
– Мы вам помешали… кажется, Алеша?
– Да, Алексей.
Ольга опять улыбнулась и сказала:
– Это Михаил во всем виноват. Я сидела дома и читала… читала роман про девушку-студентку, которая полюбила… кажется, тоже студента. Ну, а потом она стала матерью, а он уже успел полюбить другую. Так ведь бывает, правда? Но тут за мать-одиночку вступился коллектив, и легкомысленного молодого человека проработали на комсомольском собрании. Он не спал всю ночь, а наутро – бац! – перевоспитался и опять сошелся со своей Ксюшей… Ой, что это я?.. Весь роман вам пересказала… Возможно, вы уже читали эту книгу?
– Нет, не читал.
– И не читайте, Алеша. Умереть можно со скуки. – Ольга засмеялась, показывая белые как снег зубы. – Когда явился этот… обольстительный Михаил и пригласил прогуляться в лес, мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Не умирать же от скуки! А по дороге ему пришла в голову фантазия познакомить меня с вами.
– Не слушай ее, она сочиняет, – сказал Михаил, щуря свои красивые, нагловатые глаза. – Будущая артистка… репетирует очередной монолог.
Притопнув меховым ботиком, Ольга погрозила Михаилу пальцем:
– Как не стыдно! Не верьте, Алеша. И артистки из меня никакой не будет. Собиралась, да вот… обнаружилось, не хватает одного пустяка… таланта.
Лешка исподлобья посмотрел на Ольгу, все еще никак не понимая: шутит ли эта остроумная, чем-то располагающая к себе взбалмошная девушка или говорит правду?
Ольга наклонилась, взяла с крыльца Лешкину телогрейку и как-то просто, точно уже давно знала Лешку, набросила ему на плечи.
– Наденьте, а то простудитесь.
Весь зардевшись, Лешка пробормотал «спасибо», а Ольга, как бы не замечая его смущения, сказала:
– Мы сейчас уходим – не будем вам мешать, а вот если вечером вам взгрустнется, заглядывайте ко мне на огонек. Наша дача на улице Тимирязева… на углу, напротив аптеки. Знаете, где аптека? Приходите! Из Москвы приедут несколько знакомых. Между прочим, будет поэт Альберт Карсавин, приятель Мишеля.
– Олечка, а Саша Пушкин тоже будет? – наклоняясь к Ольге, спросил Михаил.
– Приходите, я буду вам очень рада, – еще раз повторила Ольга, не обращая на Михаила никакого внимания.
И она пошла по тропинке к сосновому бору, белому от инея, перешагивая через поленья, разбросанные по затвердевшему тонкой корочкой лежалому снегу.
Следя взглядом за Ольгой, Михаил приблизился к Лешке и негромко спросил:
– Как птаха, первый сорт?
– Н-не знаю. – Лешка вздохнул, посмотрел Михаилу в лицо и тут только заметил, что он сбрил свои усы.
– Брось притворяться, по глазам вижу – влип! – обдавая Лешку горячим дыханием, торопливо говорил Михаил. – Хочешь, будет твоя, могу уступить…
– Что ты мелешь! – оборвал его Лешка. – Ну разве можно такое про девушку?
Михаил дернул Лешку за козырек кепки и побежал, насвистывая, вслед за Ольгой.
– Заявляйся часикам к восьми, я там тоже буду! – прокричал он, не оборачиваясь, и скрылся за деревьями.
Лешка еще долго стоял, глядя на безмолвные сосны, огрузневшие под тяжестью серебристых риз, и ему уже не хотелось ни колоть дрова, ни варить наскучивший картофельный суп. В потемневших глазах его отражалась безысходная тоска.
Было уже около десяти часов вечера, когда Лешка, исколесив вдоль и поперек Бруски, остановился на углу улицы Тимирязева, напротив аптеки. Он не сразу открыл калитку, не сразу вошел в маленький садик, в глубине которого виднелась дача.
Из широких незашторенных окон на черные стволы деревьев падал холодный багряный свет, чем-то напоминая летние тревожные закаты на Волге, почти всегда предвещающие неспокойную, ветреную погоду.
Не доходя до веранды, Лешка замедлил шаг, невольно засматривая в окно. А там, в просторной пестрой комнате с огромным шелковым абажуром, свисавшим с потолка, будто огненный шар, кривлялись в незнакомом Лешке танце какие-то пары. Мелькали широкие спины молодых людей и обнаженные до плеч руки девиц.
«Зачем я сюда притащился?» – как во сне спросил себя Лешка. И все, что он видел сейчас, ему тоже казалось сном – кошмарным сном нездорового человека.
Вдруг где-то что-то упало, потом распахнулась дверь, и на темную веранду, топоча ногами, вышли двое.
– Оля… Оля, – донесся до Лешки нетерпеливый пьяный голос.
Но его тотчас перебил другой, уже знакомый Лешке:
– Пусти меня, Альберт!
Лешка поспешно поднял воротник и зашагал к выходу, уже нисколько не заботясь о том, что его могут заметить.
Он еще не успел дойти до калитки, как позади послышались шаги. Кто-то бежал, пыхтя и отдуваясь.
Лешка обернулся. Прямо на него, не разбирая дороги, без оглядки несся рослый парень, волоча за собой пальто.
– Ты-ы? – ахнул он, останавливаясь напротив Лешки.
Это был Михаил.
– Пойдем отсюда, пойдем скорее! – надевая пальто, говорил он, куда-то торопясь, словно опаздывал на поезд.
Они свернули за угол налево, потом направо и так бродили молча по Брускам, пока не устали.
У какого-то домика в глухом переулке Михаил опустился на лавку и кивком пригласил Лешку присесть рядом с ним.
– Кто она такая… твоя Ольга? – спросил Лешка, и спросил просто потому, что уже невыносимо было молчать.
– Так, никто… неудачница, вроде меня. Мать – киноартистка. Она тоже думала сделаться звездой экрана, да ничего из этого не вышло.
Вдруг Михаил повернулся к Лешке и положил ему на колено руку.
– Не думаешь ли ты… будто я убежал от ревности? От ревности к этому шалопаю Альберту?.. Нет! Мне… мне так все это надоело, так надоело!
Лешка неопределенно хмыкнул, ничего не сказав.
Вновь воцарилось молчание.
«Не затащить ли его к себе и… угостить? Купил же я зачем-то четвертинку?» – подумал Лешка, косясь на Михаила, уронившего на руки свою большую голову. Но тотчас выругал себя и стиснул кулаки.
– Смотри, в башку себе не возьми, будто я хочу тебя утешать или… читать какие-то наставления… Терпеть не могу! – сказал немного погодя Лешка, и вырвалось это как-то неожиданно даже для него самого. – Если хочешь, я… ну, расскажу тебе про себя. Не легко душу наизнанку выворачивать, я понимаю это, другому бы не стал… ни за что не стал бы.
Лешка посмотрел на свою ладонь с запутанными бороздками, еле заметными при бледном свете лампочки над их головами.
– У каждого из нас в эти годы… когда мы из желторотых птенцов вырастали, были свои… боги, – помолчав, снова заговорил Лешка, все еще что-то пересиливая в себе. – У одного – отец, у другого – учитель, у третьего – брат или старший товарищ. А у меня мать моим богом была. Справедливая, добрая… Мог бы, наверное, все самые лучшие слова, какие ни есть на свете, отдать матери. И было бы еще мало. Отец, партийный работник, вечно пропадал – то засиживался у себя в райкоме, то мыкался по колхозам, то уезжал в Саратов. И я видел его редко. Со мной всегда быть мать. Она работала в библиотеке. Книги были ее радостью, ночи напролет за ними просиживала. А когда успевала все по дому делать и мне, несмышленышу, сказки рассказывать – не знаю… Эге, я что-то глубоко в историю залез. – У Лешки покривились уголки губ. – Буду короче для ясности… Теперь я часто думаю, что отец уже давно не любил ни мать, ни меня. Но узнал я об этом невзначай, на свою беду, год назад, за несколько дней до того, как не стало матери. Вернулся раз домой часов в десять вечера из школы с комсомольского собрания, раздеваюсь в прихожей, а в столовой крупный разговор. Прислушался – отец говорит. И он даже не говорил, а кричал: «Если на то пошло, то вот, на тебе правду, – да, не люблю я тебя! Слышишь, не люблю!»
Помню… да, все помню – словно вчера было – привалился я спиной к стене, к пиджаку, который только что повесил на вешалку, и стою… Стою и не знаю, что мне делать. Слышу, мать заговорила, спокойно и сдержанно: «Почему же, Степа, ты об этом долго молчал? В трудное для себя время узнаю страшную эту новость, хотя сердце и давно чуяло что-то недоброе. Трудно мне будет носить в себе новую жизнь от человека, который так надругался надо мной. Ты ведь и Олешу не любишь, ты никого не любишь, кроме себя. Кто-кто, а я-то тебя уж раскусила… бездушный ты человек, не зря у тебя и фамилия такая – Деревянников». – Мать, помню, замолчала, а я все стоял и стоял, не двигаясь с места, как столб. Потом она снова заговорила – все так же спокойно, но чуть тише: «Сцен я тебе устраивать не стану, давай только разойдемся. Олешу я возьму с собой… Мы как-нибудь и одни, без тебя проживем». Но тут отец закричал, закричал о том, что развода он не даст, потому что не хочет портить себе карьеру… на этом слове он поперхнулся, и что было дальше, не знаю… Я не мог больше слушать. Схватил пиджак, кепку, и на улицу. А через три дня мать привезли из соседнего села… Мне сказали: она туда по библиотечным делам ездила. Отвезли ее прямо в больницу… там она и скончалась.
Лешка опустил свои длинные ресницы, сжал губы. Михаил не двигался, не задавал вопросов и, казалось, по-прежнему оставался ко всему безучастным.
– Через два месяца отец привез из Саратова новую жену. Ее звали Матильдой Александровной, – продолжал Лешка, каким-то внутренним чутьем угадывая, что Михаил не пропускает мимо ушей ни одного его слова. – Настоящее имя ее было Агриппина. Об этом я узнал случайно через полгода. Но не в имени, конечно, дело. Дело было в другом – все, чему учила меня мать с детства, все это для Матильды Александровны не имело никакого значения. Она любила красиво говорить о пользе физического труда, облагораживающего советского человека, а сама ничего не делала, нигде не работала. И так на каждом шагу обман и притворство. Вскоре отца избрали первым секретарем райкома. И тут уж Матильда Александровна показала себя в полном блеске. Ей вдруг стала тесной наша трехкомнатная квартира, и мы переехали в большой дом с садом. Выгнали из него детские ясли и переехали без зазрения совести. В кино, на рынок, к портнихе Матильда Александровна разъезжала на райкомовской «Победе»… Стыдно, так стыдно было за нее, если бы ты знал! – Лешка вздохнул. – Этим летом собирался я в деревню на уборочную с ребятами из школы, а Матильда Александровна на дыбы: «Ты там весь оборвешься, а потом все будут говорить: «Посмотрите-ка на сынка первого секретаря райкома – босяк босяком! А все потому, что не родная мать…» На целый час завела шарманку, слушать было тошно. Да я и не послушался, потихоньку улизнул, – Лешка опять вздохнул. – Эх, знал бы ты, как мать мне жалко и как за нее обидно: на кого он, отец-то, ее сменял?.. Умерла мать, и мне около отца делать стало нечего. Придет домой, меня не замечает – живу я на свете или нет, ему и горя мало… Надоела мне эта жизнь, ну хоть на стену лезь! А тут осень подошла, и я говорю себе: «Удирать, брат, надо из этого Хвалынска!» Еще раньше, при матери, загорелся я… Желание одно меня захватило… Скажу тебе наперед: пока я ничегошеньки еще не сделал из задуманного, но твердо знаю: добьюсь своего!
Нагнувшись, Лешка поднял из-под ног кем-то растоптанную детскую игрушку – маленького гуттаперчевого человечка. Он повертел в руках изуродованную игрушку и осторожно положил ее на самый краешек лавки.
– Приехал вот сюда, к дяде, научиться какой-то настоящей работе. Не столица меня влекла и не легкая жизнь, нет. Тут у меня временная остановка. На днях мастер пообещал в том месяце перевести меня в плотничью бригаду. Стандартные дома мастерят в этой бригаде для дальних строек. Наконец-то настоящим делом запахло! А весной, как полетят журавли, снимусь и я… Если уж поеду, заберусь куда-нибудь далеко-далеко… в самую дальнюю сторонушку! Поминай тогда, как звали Лешку Хлебушкина! У меня, знаешь ли, фамилия матери, а не отца, замечу тебе в скобках.
И Лешка, смеясь, шлепнул Михаила ладонью по одеревеневшей сгорбленной спине. От этой звонкой затрещины Михаил как будто очнулся, поднял голову и полез в карман за папиросами.
– Скажи, – заговорил он минутой-другой позже, – скажи… отец не просил тебя домой вернуться?
– Он не просил, а требовал, он даже грозился с помощью милиции водворить меня… в лоно семьи. Только я его не послушался, а обо всем написал в райком комсомола. Про все рассказал, что на душе было. – Лешка провел ладонью по шероховатой, холодной лавке. – Вчера письмо из Хвалынска пришло от приятеля. А в письме вырезка из газеты: оказывается, на партийной конференции прокатили на вороных моего… родителя – так ведь ты все говоришь? Значит, разобрались люди, что он за человек. – Лешка о чем-то подумал. – А мне, признаюсь, как-то жалко его стало… Ведь он, наверно, когда-то хорошим был человеком… Не могла же мать плохого полюбить!
Лешка замолчал. Михаил закурил папиросу и протянул Лешке пачку. Но тот отказался. Вдруг Михаил спросил – прямо, без обиняков:
– А что у вас с Варей? Почему ты нынче не с ней?
– Разговор у нас один вышел… и она сказала… – Лешка перевел дух, кашлянул: – Она сказала: «Чтобы я тебя больше не видела!»
– И ты… поверил?
– Она, знаешь, как сказала?
– Дурак! – брякнул Михаил. – Да она же тебя любит, ты понимаешь, любит!
– Сам дурак… выдумщик, – сказал Лешка и встал. – Пойдем-ка по домам, а то мне завтра на воскресник.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯЖирные караси лежали в плетушке, устланной ежевичником – широкими сочными листьями с колючими ворсинками.
Лешка смотрел на живых, все еще бьющихся карасей, смотрел и не мог нарадоваться удачливому улову.
«Увидит Славка, весь побледнеет от зависти», – думал он, беря на ладонь скользкого, тяжелого, словно слиток потемневшего золота, карася. А карась трепыхнулся, подпрыгнул и встал на хвост.
– Хлебушкин, – вдруг басом заговорил карась, – ты зачем свалил щебень у парадного?
– Как у парадного? – от ужаса холодея всем телом, сказал Лешка. – Я в кузов грузовика свалил. Это кто нибудь другой…
Внезапно куда-то исчезли и плетушка и говорящий карась – а сам Лешка уже летел, как метеор, по вселенной, мимо загадочных небесных светил. У него захватывало дух от скорости полета среди мрака и хаоса… Вот Лешка приблизился к солнцу, испепеляющему вокруг себя все живое. Лешке хотелось пролететь мимо солнца стороной, но какая-то неподвластная ему сила толкала и притягивала его к мировому светилу.
– Ой-ой, я весь горю! – истошно закричал Лешка, прикрывая руками лицо от палящих лучей.
Но вдруг и солнце пропало. Лешка на секунду открыл глаза и увидел склонившегося над собой бледного, испуганного дядю Славу.
– Пить, – еле пошевелил опаленными зноем губами Лешка и опять полетел, полетел вниз головой теперь уже в бездонную морскую пучину…
Вновь Лешка пришел в себя утром следующего дня. Над ним парила сизая голубка в белых пятнышках, точно забрызганная сметаной. Махая крыльями, голубка навевала на Лешку прохладу, и ему от этого было легче дышать.
– Какая ты добрая, – сказал он и открыл глаза.
Рядом сидела Варя и махала над его лицом газетой.
– Который час? – спросил Лешка, нисколько не удивляясь присутствию Вари.
– Половина десятого, – сказала она и улыбнулась. – Алеша, ты поесть хочешь?
Лешка не на шутку встревожился.
– Проспал! – застонал он. – Мне же к восьми на завод… Это я после воскресника устал и проспал.
Лешка и не подозревал, что в постели он лежал уже третьи сутки.
– А ты не волнуйся, нынче праздник, – сказала находчивая Варя. – Или забыл?
Но Лешка уже спал, почмокивая пересохшими губами. Варя взяла со стола апельсиновую дольку, поднесла ее к Лешкиным губам и чуть надавила на сочную мякоть. Глубоко вздохнув, Лешка облизал губы, теперь влажные, сладко-кислые.
А к вечеру Лешка проснулся от голода, звериного голода, какого он еще никогда в жизни не испытывал. Он покосился влево и увидел дядю Славу, сидевшего на корточках у подтопка. Дядя Слава смотрел своими грустными карими глазами на огонь и о чем-то думал.
И Лешке вдруг стало жалко дядю Славу, жалко больше, чем себя, и он чуть не заплакал, на минуту позабыв о своем голоде.
Дядя Слава, будто почувствовав на себе пристальный взгляд племянника, повернул голову, и глаза их встретились.
– Как? – радуясь чему-то, спросил дядя Слава и потер руки.
– Есть хочу… прямо-таки помираю с голоду!
Дядя Слава еще больше обрадовался. Теперь все лицо его улыбалось, и улыбка эта делала лицо дяди Славы совсем юным, мальчишеским.
– Насчет еды… мигом все организую, Олеша! Тут Варя такой куриный суп сварила… язык проглотишь, – говорил он, суетясь и бегая по избе. – Ей-ей, язык проглотишь!
– А разве… она была у нас? – осторожно спросил Лешка, уже стараясь не глядеть на дядю Славу: ему казалось, что утром он видел Варю не наяву, а во сне.
– Она и нынче и вчера была… Если бы не Варя, я один тут… пропал бы! – дядя Слава поставил перед Лешкой на табурет дымившуюся тарелку с куриным бульоном – прозрачным, янтарным. – А вот сухарики. Ешь, Олеша, на здоровье, а потом подам компоту… тоже Вариного приготовления. – Он вздохнул. – Свалился ты сразу: как пришел с воскресника весь мокрущий, так и свалился. Я и водкой ноги тебе натирал и грелку… А к ночи сорок температура…
– А почему мокрый? – недоумевал Лешка.
– Разве забыл, дождь весь день хлестал? А ты отправился в худых ботинках… Сейчас на улице такая каша – прямо весна, да и на тебе!
А под вечер опять пришла Варя. Дядя Слава только что ушел в аптеку за лекарством, а Лешка от нечего делать смотрел в потемневший от копоти сучковатый потолок.
Варя тихонько закрыла за собой дверь и стала снимать пальто. Лешка притворился спящим, следя за Варей сквозь полусмеженные ресницы. А когда Варя, все так же тихонько, приблизилась к его постели, Лешка и совсем смежил ресницы и даже затаил дыхание.
– Спит? – шепотом проговорила Варя и опустила на Лешкин лоб ладонь – приятно прохладную, ласковую. Варя вся благоухала будоражащими кровь весенними запахами: шальным, прохватывающим до костей ветерком, талым мартовским снегом и горьковато-терпкими тополиными почками.
Вдруг она нагнулась (Лешка ничего не видел, но чувствовал, как Варя наклонялась, обдавая его горячим, прерывистым дыханием) и на миг, всего лишь на миг прижалась своими губами к его губам.
Лешка чуть не вскрикнул, чуть не поднял руки и не обвил ими Варю за шею.
Немного погодя, кое-как успокоившись, он пошевелил головой и открыл глаза.
Варя сидела, сложив на коленях свои белые руки, и ждала… Она ждала Лешкиного взгляда. А он все никак не отваживался взглянуть на нее. Он боялся, как бы глаза не выдали его.
– Алеша… ты на меня… сердишься, да? – нарушая невыносимую тишину, спросила боязливо Варя.
Помотав головой, Лешка закрыл глаза от подступающих слов – обильных, радостных.
– Совсем не сердишься? – не унималась Варя, – Вот ни на столечко?
– Нет, – сказал он и взял Варю за руку.
Варя помолчала, сама не зная, что бы ей такое теперь сделать, и вдруг предложила:
– Хочешь, я стихи почитаю?
– Читай, – согласился Лешка. Ему хотелось полежать просто вот так, пожимая в своей руке Варину руку, но он боялся ее обидеть и еще раз повторил: – Читай, читай, я слушаю.
Она выпрямилась, как школьница, собирающаяся отвечать урок, и, глядя в мутное, забрызганное дождинками окно, сказала:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
Чуть помолчав, Варя продолжала, продолжала так же просто, без всякой декламации, немного даже глуховато:
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
– Еще, – попросил Лешка, когда Варя кончила, и попросил уже не из вежливости, совсем нет.
И Варя прочла еще одно стихотворение, за ним еще, и еще… Она читала до тех пор, пока не устала.
– Варя, – сказал Лешка, впотьмах находя и другую ее руку, – кого ты читала?
– Это мой земляк, – сказала Варя, – Сергей Есенин. Неужели ты его не знаешь?
– Нет, – признался Лешка, – я не люблю стихов… не любил до сих пор, – тотчас поправился он.
Дядя Слава все еще не возвращался, и Лешка и Варя совсем о нем забыли.
Через день врач разрешил Лешке вставать с постели. Оставшись в избе один, он надел старые дядины валенки, закутался в одеяло и подошел к окну.
В разрывах между рыхлыми дымчатыми тучами, подгоняемыми ветром, нет-нет да и проглядывала чистая бирюза неба, прямо-таки весеннего. А на рыжую, раскиселившуюся дорогу изредка падал косой бегущий луч солнца, и тогда лужи на какой-то миг жарко вспыхивали и по окнам стоявших напротив домов проносились резвые, слепящие глаза зайчики.
От недавнего снега уж ничего не осталось и в помине. Всюду бурела земля, глинистые кочки разбухли, кое-где виднелись островки молодой игольчатой травки. По траве прыгали пушистыми шариками проказливые воробьи, гомоня на всю улицу.
А старый клен, стоявший под окном, тряс из стороны в сторону своими голыми влажными ветками, словно отхватывал трепака, радуясь нежданно нагрянувшей оттепели. Уж не грезилось ли ему, что с зимой все покончено, и ей, жестокой, нет возврата, и вот вновь зашумела весна, веселая, хмельная, будоража все живое?
Лешка глядел в окно, и на душе у него тоже была весна… «Как подшутила природа, – думал он, – за какие-то полмесяца сменилось три времени года!»
Он стоял у окна долго, пока не устали ноги, томимый какими-то смутными предчувствиями и желаниями, и грудь его поднималась прерывисто, а в висках бурно стучала неспокойная, горячая кровь.
В тот же день Лешку навестили две девушки с лесопильного завода, смешливые, занозистые подружки Катя и Поля. Они работали рядом с Лешкой, за соседним станком, целыми днями распевая песни и подтрунивая над молодыми париями.
Но сейчас подружек точно подменяли. Остановившись у порога, Катя и Поля стесненно кашлянули, а потом обе враз негромко сказали:
– Здравствуй, Алеша.
– Проходите, – кивнул Лешка, у которого почему-то запершило в горле.
Девушки принесли с собой прозрачный кулек с румяными яблоками и букет белых хризантем. Они держали их в руках – Катя кулечек, а Поля газетный сверток, из которого выглядывали кудрявые головки цветов, – и обе краснели, не зная, что с ними дальше делать.
– Садитесь, – пригласил Лешка. – Как у нас там… В цехе все в порядке?
– Все, – сказала Поля, присаживаясь на край табурета, и глянула на Катю.
– Как есть все нормально, – подтвердила Катя и тоже присела.
Поля вдруг прыснула и уткнулась носом в хризантемы.
– Как тебе не совестно, – зашикала на нее Катя, но не сдержалась и сама прыснула.
– Над чем это вы? – повел бровью Лешка.
– Это я… вспомнила случай, – начала Поля и опять уткнулась в цветы.
– Мы вчера после работы… тоже вроде воскресника… в новый дом ходили, – пояснила Катя. – Теперь уж весь мусор убрали. Завтра переезжаем в общежитие. Такая красота: комнаты блестят, полы блестят…
– Ну и чего же тут смешного? – удивился Лешка.
– Василек, твой сменщик, зацепился, – поднимая от хризантем лицо, вставила Поля. – Залез на козлы… маляры на которых мажут, залез, чтобы речь сказать, и свалился.
Она не договорила: ее снова душил смех.
– Зацепился штанами за гвоздь и повис, – досказала за подружку Катя. – Висит, как куль с отрубями… Мы его целой бригадой снимали!
Лешка представил, как висел, размахивая ногами, толстый коротыш Василек, и тоже рассмеялся.
Через полчаса девушки ушли, пожелав Лешке скорого выздоровления. Кулек с яблоками и букет цветов они незаметно положили на лавку, за подтопком, где стояло ведро с водой.
Придя после девушек, Варя сразу заметила пакеты.
– Алеша, – сказала она, – откуда тут взялись эти цветы и яблоки?
– Где? – спросил Лешка.
– А вот… посмотри.
Лешке стало не по себе. Делать было нечего, и он сказал:
– Тут до тебя с завода были… навестить приходили. Наверно, они и принесли.
– А кто это – они? – допытывалась Варя.
– Ну, из нашего цеха… девушки…
– Ага, все понятно, – ледяным голосом отрезала Варя.
Она молча вымыла яблоки и положила их на тарелку. А цветы поставила в стеклянную банку из-под зеленого горошка, куда налила воды. Потом она так же молча подошла к окну и стала водить пальцем по стеклу.
Вдруг Лешка заметил, как мелко дрожат Варины плечи.
– Варя, что с тобой? – тревожно вскрикнул он, приподнимаясь на локте.
Но Варя не отвечала, а плечи ее вздрагивали все сильнее и сильнее.
Лешка отбросил к ногам одеяло, вскочил и в одних трусах, босиком бросился к Варе.
Он повернул ее за плечи и, прижимая к себе, принялся целовать в солоноватое от слез лицо, целовать горячо, исступленно, забыв про все на свете.
– Пусти, ну пусти, что ли, – слабо отбивалась Варя. – Иди к своим заводским и… с ними целуйся!







