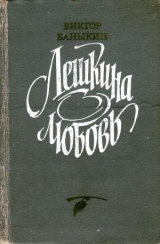
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Во время странно продолжительных вспышек, когда все вокруг захлебывалось резким, до ломоты в глазах, светом, я ни разу не видела Люсю. Мне не терпелось обежать веранду, но я боялась потерять в толпе все еще дувшуюся на меня Римку.
А дождь хлестал и хлестал. Бесновались молнии, неистовствовал гром. От иных, особенно устрашающих ударов, казалось, все мы вот-вот провалимся в преисподнюю – вместе с курзалом и стоявшими вблизи тополями.
– Ни дать ни взять – гибель Помпеи! – сказал вдруг кто-то непринужденно весело.
Я повела в сторону головой и не поверила глазам. К широким ступеням деревянного крыльца пробирался Люся. Бархатная куртка его была небрежно распахнута. Ни одна из старых дев, вертевшихся вокруг молодого человека во время длинных антрактов, не решилась пойти с ним рука об руку в кромешную ночь.
А мой Люся как ни в чем не бывало – от него все шарахались, будто от прокаженного, – спокойненько вышел на открытую площадку под обрушившиеся на него тяжелые, холодные потоки и так же спокойненько, не спеша спустился на ядовито-зеленую от молний курчавую лужайку.
«Люся! Ой, Люся, что ты делаешь?» – завопила я про себя, леденея сердцем.
А в следующее мгновенье, точно лишившись рассудка, бросилась по скользким ступеням вслед за ним, уже поглощенным ревущей, как в штормующем океане, темнотой.
Пока неслась сломя голову по лужам вслед за своим Люсей, вся, вся до последней ниточки промокла. Но мне уж на все было наплевать. В жуткие эти минуты меня преследовала одна мысль: «Догнать! Во что бы то ни стало догнать Люсю!»
Наверное, я, полоумная, сшибла бы с ног моего Люсю, с разбегу налетев на него (глаза все еще не освоились с непроглядной тьмой, плескавшей в лицо пригоршни дождя), но тут, на мое счастье, парк внезапно весь вспыхнул дымно-голубым сиянием. А прямо пред моими глазами, в двух-трех шагах, выросло зловеще черное видение – не то человека, не то обуглившегося дерева.
Испуганно айкнув, я закрыла руками лицо, с ужасом думая, что вот-вот подкосятся поги и я упаду, упаду замертво.
В этот миг над моей головой раздался ободряюще-веселый голос:
– Кто… кто так занятно пищит?
И Люся осторожно взял меня за плечи. Я же доверчиво уткнулась лицом ему в грудь.
– Ты плачешь? Тебя обидели?
Превозмогая душившие меня рыдания, я сбивчиво прошептала:
– Нет… никто не обижал. Просто я… я с подружкой повздорила.
Люся засмеялся.
– Э, не велика беда! Помиритесь. А сейчас перестань лить слезы… и без них сплошная кругом мокрядь.
Он провел ладонью по моей голове. И взял под руку.
– Пойдем, козочка. Ты на какой улице живешь?
Как-то сразу обретя душевное равновесие, я всхлипывала все реже и реже. Теперь мне не страшны были ни бесновавшаяся гроза, ни ливень, не смолкающий ни на минуту. С ним, моим Люсей, я не устрашилась бы и всемирного потопа!
Он снова спросил мой адрес. Я назвала улицу, и мы, выйдя из сквера, не спеша зашагали дальше. И прошли через весь город. Прошли как-то незаметно, потому что Люся всю дорогу весело болтал, стараясь меня рассмешить. Мне же было не до смеху. «Вот попадет тебе дома, беглянка, ох уж и попадет!» – думала я. Когда же в вышине рвалось на куски чугунно-гулкое небо и я вздрагивала, Люся теснее прижимал к себе мой локоть, как бы ободряя: «Не трусь! Со мной и море по колено!» И снова принимался рассказывать всякие забавные истории из жизни студентов – будущих живописцев.
Перед тем как свернуть на Садовую, нам надо было перейти неглубокую канаву, сейчас превратившуюся в бурную горную речушку. Недолго думая, Люся подхватил меня на руки и, чуть разбежавшись, с азартным гиканьем перемахнул через грязный булькающий поток.
– Тут мой дом, – нерадостно обронила я, когда поравнялись с палисадником, смутно белевшим новыми, не крашенными еще планками.
Остановились. Люся поднял мой подбородок, заглянул в глаза.
– Ну как, дереза?
Мне показалось, что вот сейчас, сию минуту, произойдет между нами… произойдет необыкновенное… такое, ради чего не жалко будет и умереть.
Да, я ошиблась. Люся поспешно убрал руку, словно чего-то испугавшись, и так же поспешно зашагал прочь.
И все-таки мне было хорошо. И я не сразу пришла в себя. А когда перевела остановившееся дыхание, Люся совсем растворился в сырой немотной темноте. Лишь тут я удивилась окружавшей меня гробовой тишине. Ливень, оказывается, уже перестал, а черная туча скатилась за Жигулевские горы. И отступала все дальше и дальше. Смутные, глохнувшие сполохи лишь изредка пробегали беззвучно по зубчатым вершинам гор.
В этой блаженной тишине визгливо охнувшая половица в сенях нашего дома напугала меня больше, чем ярившийся недавно гром. А потом гневно распахнулась дверь, и на крыльце кто-то появился – большой, серый.
– Зойка?.. Ты, негодница? – свистящим от негодования голосом прошипела мама. – Марш домой!
Будто на помост для казни, поднималась я по крутым ступеням на высокое крыльцо.
– Ах ты бесстыжая! – причитала плаксиво родительница. – Ах ты сопленосая! Да я тебя… да я с тобой…
Но я уже теперь ничего не боялась.
Неделю мать не выпускала со двора провинившуюся дочь. А меня и не тянуло на улицу, мне и видеть-то никого не хотелось. Все было противно, все было немило. И сама себе казалась я ничтожной пустышкой, ни на что большое в жизни не способной. Зачем я, такая провинциальная глупышка, нужна моему Люсе, быть может, в недалеком будущем знаменитому на весь мир художнику?
В конце огорода у нас стояла старая-престарая амбарушка с разной рухлядью: с рассохшимися бочатами, колченогим стулом, ржавой чугунной печуркой. А под полом находился погреб. Наверно, от погреба в амбарушке даже в самый знойный полдень всегда было отрадно, прохладно. Прохладно и полутемно. В крохотное продолговатое оконце у потолка, белесое от пыли, свет сочился так слабо, что затянутые паутиной углы амбарушки тонули в дегтярной вязкой мгле.
Тут-то вот я и валялась целыми днями на толстой войлочной кошме, расстеленной по некрашеному полу. Иногда здесь отдыхал отец, возвратясь с ночной рыбалки.
Постепенно глаза свыкались с царившим в амбарушке мягким зеленоватым полумраком (под оконцем росла бузина, да такая густолистая, что солнечные лучи застревали в ней, не пробивались в амбарушку.) И тогда я видела не только сучковатый потолок, но и не нужный никому теперь дедушкин хомут, пылившийся в дальнем углу.
Я больше лежала на боку, лицом к стене, от нечего делать разглядывая причудливые иероглифы, оставленные на бревне жучком-точильщиком. И чем дольше вглядывалась в разные там закорючки, извилинки, крючочки, как бы оттиснутые на потемневшей от времени гладкой поверхности бревешек, они и в самом деле начинали казаться мне таинственными письменами, дошедшими до наших дней из тьмы веков.
Но вот у меня начинали слипаться веки, и я забывалась тревожным сном. И тогда мне виделся мой Люся. Он бережно нес меня на руках через горный рокочущий поток. У меня от страха сжималось сердце: Люся в любую минуту мог сорваться в пропасть. И боялась я не за себя – за него боялась. Вода же в речке все прибывала и прибывала. Вначале она доходила Люсе до щиколоток, потом – до колен, наконец – до пояса. Берег был уже рядом, когда Люся, не выпуская меня из рук, вдруг начинал неистово, по-петушиному кукарекать, взмахивая пугающе-огромными алыми крыльями. Тут я просыпалась – вся в поту, дыша тяжело и прерывисто, будто поднималась по крутой тропке на вершину Молодецкого кургана в Жигулях.
За стеной и в самом деле кукарекал победно соседский петух. Он каждодневно появлялся у нас на огороде, копошась в огуречных грядках. Заметив красногрудого разбойника, мама бежала через весь двор, размахивая рьяно кухонной утиркой.
«Давай, давай, Петя! – подбадривала я мысленно петуха. – Клюй напропалую сочные пуплятки! Клюй, не теряйся, пока тебя хозяйка не погнала взашей!»
На четвертый или даже на пятый день этого монашеского затворничества мне как-то внезапно пришла в голову совершенно дикая мысль: а что, если мой Люся простудился в ту страшную грозовую ночь, когда мы с ним возвращались из курзала? Простудился и… и умер?
Кое-как натянув на себя измятый сарафанчик, я задами, через близлежащие дворы, прокралась на соседнюю улицу.
Брела по скрипучим деревянным тротуарам, затравленно озираясь по сторонам, ровно блуждала октябрьской ночью по незнакомому городу. Ведь я и знать-то не знала, на какой улице живет Люся, не знала и его имени и фамилии.
И тут – как бы из-под земли выросла – передо мной завиднелась Римка. Беззаботно размахивая клетчатой продуктовой сумкой, она шла не спеша, как бы прогуливаясь по волжской набережной.
Мне не хотелось встречаться в данный момент с подружкой, и я метнулась к узорчатой калиточке домика-терема известного на весь Старый Посад дяди Фрола – умельца на все руки, да уже было поздно.
– Зо-оенька! Здравствуй, Зо-оенька! – запела приторно-ласково Римка и понеслась вприпрыжку ко мне. – А я-то думала! Думала…
Хитрущие Римкины глазки – крохотные бусины – так и замаслились от ехидного умиления.
Я молча смотрела на подружку, ожидая от нее какого-нибудь каверзного подвоха. Риммочка на такие штучки была искусная мастерица!
– Сердце мое предчувствовало – убивается моя Зоенька! – трубкой вытягивая тонкие губы, залепетала сладенько подружка. Девчонки в классе звали Римку за глаза кислогубой. – И как тут не переживать? Уехал вчерась бородатый красавчик к себе в Ленинград. Телеграммой его вызвали: папаша под машину попал.
Взяв себя в руки, я с видимым хладнокровием спросила:
– Какой красавчик? Какой папаша?.. Ты, Римма, что-то завираться начинаешь!
– Да полно тебе, Зо-оенька, скрытничать! Ты что думаешь: я слепая была, когда ты бросилась за ним сломя голову с курзального крыльца?.. Ни убийственной грозы не испугалась, ни жуткого ливня!
Мне захотелось размахнуться и ударить Римку по ее лисьей острой мордочке. Но я сдержалась. Не стала я и реветь. Обойдя Римку, стоявшую на дороге, я поплелась, спотыкаясь, домой.
Римка что-то кричала вслед, да я не оглянулась. Ни разу не оглянулась. Прокравшись на свой двор, юркнула снова в амбарушку, накинув на тяжелую дверь тяжелый крючок. А потом упала вниз лицом на кошму и долго-долго по-щенячьи всхлипывала, закусив зубами уголок подушки.
Говорят, что слезы облегчают душу. Верно ли это? Не знаю. Наплакавшись досыта, я заснула. Крепко-крепко заснула.
Очнулась под вечер. Над дверью была щель, и в нее струился веселый, озорной лучик, точно щедрой струей лился из медогонки молодой медок.
Не знаю, сколько времени пролежала бы я так бездумно, от всего отрешившись, если б в дверь не постучал пятилетний братишка.
– Жойка, а Жойка! – картаво шепелявил Сергунька, пытаясь отворить дверь. – Айда обедать. Мама жовет!
– Иди, Серенький. Сейчас приду, – как можно сердечнее сказала я брату. И, не сдержавшись, вздохнула. Тяжело, всей грудью.
Потом села, поправила растрепанные космы. Тут-то мне и попался на глаза большой – угольником – осколок зеркала. Он с незапамятных времен торчал в пазу стены.
Приподнявшись порывисто, я схватила толстое стекло с водянисто-черной кляксой в нижнем углу. Поднесла к лицу. И в ту же минуту с испугом отшатнулась.
Я и до этого знала, что дурнушка. Жуткая дурнушка. Но вот сейчас… Неужели за эти три-четыре дня я так… так изменилась? Обезьяны, наверно, и то симпатичнее выглядят!
Зажмурилась. И стиснула зубы, чтобы не разреветься.
«Люся, мой ненаглядный Люся! – взмолилась я, немного придя в себя. Я все еще сидела на корточках, прижимая к груди холодное зеркальце. – Как хорошо, что ты уехал. Я теперь буду меньше терзаться. Тебя же я никогда, никогда не забуду. Но и видеть тебя не желаю больше. Ведь я тебе не пара. Тебя будут любить писаные красавицы, а я…»
И, отшвырнув в угол осколок зеркала, я сбросила с двери крючок. На дворовом крыльце стоял отец.
– Ну, ты чего? Особого приглашения ждешь? – проворчал он, как мне показалось, добродушно. – Мой руки – и за стол. А то рыба переварится… Мать нынче уху варила.
«Боже мой, ну зачем ты придумала себе эту пытку?» – возмутилась вдруг я, стремясь выкарабкаться из далеких воспоминаний, точно утопающая из суводи на быстряке. Во рту пересохло, мучила жажда. С трудом встала с кровати, подошла к столику. И залпом выпила стакан воды.
За окном стылое лунное безмолвие. Минуту, другую, третью стояла у окна, а там, на улице, в опаляющей жгучим морозом глухой светлой ночи – ни звука, ни скрипа. Сквозь мохнатые, заиндевелые ветки окоченевших деревьев в окошко заглядывала робко одна-разъединственная звездочка, как бы умоляя впустить ее погреться.
«Кругом тишина, покой, а у тебя в душе ревет буря, – сказала я себе, прислонясь лбом к оконному стеклу – обжигающе-ознобному. Закрыла глаза. И стало жалко себя – нестерпимо жалко. – Выпей, детка, таблетку снотворного и ложись в постель. Тебе надо просто-напросто выспаться. Хотя, кажись, и повода-то не было… бередить себе душу».
Но тут на меня вдруг сызнова нахлынули воспоминания, закружили, завертели.
После поспешного отъезда Люси я целый год не могла его позабыть. Часто видела в своих тревожных, запутанных снах, а когда, случалось, на меня наваливалась бессонница, я сочиняла в уме письма своему возлюбленному. Ну, что тут поделаешь: ведь это была моя первая любовь, первая и такая глупая, до смешного несерьезная. В своего Люсю влюбилась я с разбега, как в омут головой кинулась.
Я, дурешка, и знать тогда не знала и ведать не ведала, что настоящая моя любовь рядом ходит и частенько я с ней спорю, даже ругаюсь, потом мирюсь, а иной раз и подсмеиваюсь над ней.
Другими глазами я впервые посмотрела на него, на моего одноклассника Андрюшку Снежкова, длиннущего, несуразного мальчишку, осенью следующего года, когда мы пошли в девятый класс.
В сентябре… да, в конце сентября это случилось. Помню, как сейчас: день выдался ветреный, с поразительно странным небом – мутно-желтым, цвета серы.
У меня с утра побаливала голова, уроки еле высидела. А приплелась домой, мать хмурым взглядом будто рублем одарила:
– Переодевайся-ка в домашнее. На Воложку пойдем.
– Зачем? – рассеянно спросила я.
– Разуй гляделки: белья эвон сколько настирала!.. Полоскать надо.
На кухне, у порога, и правда стояли две корзинищи с бельем. И кажется, ничего обидного не было в маминых словах, просто она валилась с ног от усталости, но они меня в этот миг больно укололи.
Бросив на табурет портфель с учебниками, я схватила одну из корзин, самую большую, и вон из дома. Мама что-то прокричала мне вдогонку, но я даже не оглянулась.
Корзинища была страшно тяжела, точно в нее камней наложили. Я с ней просто замаялась, пока тащила до Воложки, то и дело переставляя с одного плеча на другое.
На крутояре, прежде чем спускаться к речке, постояла, отдыхая, у молодого веселого тополька, совсем будто не ждущего близких холодов. Тут когда-то маяком возвышался над рекой могучий древний тополь. Но как-то в большое половодье разразился ураган, и взбесившиеся волны обрушились на песчаный, сыпучий крутояр, смыли в Воложку, ровно корова языком слизнула, не только старое дерево, но и две хибары, стоявшие у него под боком. От корней-то старика и пошел в рост молодой веселый тополек.
Здесь ветер задувал напористее, холодя приятно разгоряченное, в крапинах пота лицо.
По речке то и дело пробегала свинцовая рябь, словно кто-то наотмашь бросал в воду пригоршни крупной гальки, песчаные отмели льстиво лизали белые крутолобые барашки. Низко, совсем низко над неприветливой Воложкой носились бестолково быстрые, верткие «рыбачки».
«Кэ-эрр! Кэ-эрр!» – пронзительно кричали маленькие беспокойные чайки.
У сырой, буро-коричневой кромки песка стоял долговязый мальчишка и, подбирая из-под ног плоские кругляши, пускал по закипающей воде «блинчики».
Неожиданно резким порывом ветра у меня чуть не сдуло с головы косынку. И в тот же миг я увидела над обрывом белый носовой платок. Как-то странно кувыркаясь, он стремительно летел под откос. Заглянула вниз и тут лишь поняла – падала чайка, оглушенная ветром. А к ней бежал, увязая в песке, мальчишка, бросавший в воду камешки.
Я затаилась, присела возле тополька. Хотелось посмотреть: поймает мальчишка чайку? И не станет ли ее мучить?
Чайка упала под самым обрывом. Она попыталась взлететь, но не смогла. Тут ее и накрыл своими огромными ручищами долговязый мальчишка.
– Ну, егоза, ну, не шали, – сказал мальчишка странно добрым, чуть ворчливым голосом. (Никогда до этого не встречала я добрых мальчишек!) – Кому говорю, – продолжал долговязый, сидя на корточках. – Не воображай, пожалуйста… никто-то тебя не испугался. И есть тебя не собираются. А крыло вот у тебя того… повреждено. Придется домой тебя тащить. Поживешь на готовых харчах, поправишься…
К моему новому изумлению, чайка вдруг совсем присмирела. Ручная стала, да и только!
В это время мальчишка поднялся на ноги, и я обомлела. Предо мной стоял… Андрейка Снежков – ходячая каланча, мой одноклассник.
Андрей не заметил меня, чему я, ошарашенная, была рада. Поправив сбившуюся на глаза фуражку, он зашагал к тропинке, сбегавшей с кручи, бережно прижимая к груди «рыбачка».
Обойдя поспешно тополек, я встала спиной к тропе. Мне не хотелось сейчас встречаться со Снежковым. Андрей, же, поднявшись на гору, свернул в противоположную сторону.
С этого дня я и стала присматриваться к Андрею – тихому, застенчивому парню. А потом….
Но… хватит! Хватит на сегодня! Я отошла от окна, разыскала в железной банке из-под вафель какие-то снотворные таблетки. Проглотила сразу две и – в постель…
В редакцию заявляюсь раньше всех. Это у меня вошло в привычку. Вначале я здорово «зашивалась», подолгу кумекая над каждым читательским письмом, над каждой заметкой. И мне волей-неволей надо было или вечерами задерживаться на работе, или приходить в редакцию чем свет. А уж потом я просто полюбила эти тихие ранние часы, когда не трещит над ухом допотопная машинка, не шлепает из комнаты в комнату крикливый Гога-Магога, переваливаясь с боку на бок, как разжиревший пингвин, не являются с просьбами и жалобами разные посетители, иногда нудно-надоедливые.
Нынче я тоже притопала ни свет ни заря. В коридоре и комнатах свежо пахло недавно вымытыми полами – цвета воска, с чуть подпущенным в охру суриком. В распахнутую форточку врывался сухой морозный воздух (ночью было минус тридцать пять!), а от голландки несло знойным жаром африканской пустыни.
Включив настольную лампу, я быстро разобрала почту – центральные газеты и журналы, лично Пал Палычу адресованные письма. А уж потом придвинула к себе всю остальную корреспонденцию. Вначале, как всегда, принялась готовить редактору папку с читательскими письмами.
Вот длинное путаное послание продавщицы из деревни Добывалово. Женщина сетовала на свою горькую жизнь: муж давно бросил, а сынок, родная кровиночка, к пятнадцати годам совсем отбился от рук. Просит помочь устроить Роберта в колонию для несовершеннолетних. Это кровинку-то родную! Баловала, баловала парня, а теперь пусть другие воспитывают!
На уголке письма написала: «В районо». (По заведенному Пал Палычем обычаю я должна была на каждом письме делать пометку, куда следует его направлять. Он же, редактор, или утверждал мою «резолюцию», или надписывал свою).
Заведующий клубом Ржавского лесопоселка рассказывал о прошедшем «шибко здорово» шефском концерте учащихся средней школы № 1 Богородска. Эту информацию я рекомендовала в номер.
Потертый, замусоленный пакет. Можно было предположить, что некоторое время его носили в кармане, прежде чем опустили в почтовый ящик. На обратной стороне конверта, наискосок, шла волнистая надпись:
«Как по закону – привет почтальону».
Свинарка второго отделения Трошинского совхоза Пелагея Сидоровна Некрасова жаловалась на падеж молодняка.
«Криком душа кричит, – писала она, – но что мы, бабы, можем поделать, когда в помещении гуляют сквозняки, в разбитые окна ветер заносит снег, корма худые, да и те завозят, когда как придется? Случается, целыми сутками поросятки наши остаются голодными».
Письмо было обстоятельное. Видимо, Пелагея Сидоровна долго думала, прежде чем села за стол, взяла в негнущиеся пальцы химический карандаш. Волнуясь, она пропускала в иных словах буквы, что-то зачеркивала…
Глядя на неровные крупные строчки этого неспокойного письма свинарки Некрасовой, родившегося в душевных муках, я вдруг припомнила один недавний визит в редакцию. Припомнила, как несколько дней назад к нам пожаловал не старый еще, но уже огрузневший мужчина в модном новехоньком пальто с бобровым воротником и скрипучих, тоже новых бурках. Не снимая шапки и не здороваясь, он властно спросил, щуря узкие монгольские глаза:
– Редактор у себя?
И проследовал в кабинет Пал Палыча. Примерно через полчаса представительный этот мужчина не спеша, с достоинством удалился. А вскоре из кабинета выглянул редактор и протянул Маргариткину, секретарю редакции, сколотую скрепкой стопку небрежно сложенных листов из большого блокнота.
– Поправьте статью Мокшина. Будем давать в очередной номер.
Гога-Магога подергал себя за красное оттопыренное ухо. (Корректорша Нюся говорит, нашего секретаря каждое утро дерет за уши жена, потому-то они у него вечно пунцовые). Морщась, он проворчал:
– Мы… полмесяца назад мы целую полосу отвели трошкинцам. Не один же этот совхоз у нас в районе!
Топчась в дверях кабинета, Пал Палыч промямлил, не глядя на секретаря:
– Совхоз новое обязательство взял…
– Да они там старое не выполнили! – резанул Гога-Магога, перебивая редактора.
Пал Палыч болезненно поморщился. Вздохнул:
– Ничего не поделаешь: райком рекомендовал напечатать…
Рывком стащив с плоского носа очки, Маргариткин принялся яростно тереть белоснежным платком и без того чистые стекла. Расплывчатые, студенистые губы его кривились в презрительной усмешке.
Само собой разумеется, пространная статейка Мокшина была напечатана в «Прожекторе лесоруба». Кроме обязательства по повышению сбора зерна, расширению посевных площадей, увеличению поголовья скота, в статье говорилось и о намерении совхоза построить на центральной усадьбе новый клуб, детские ясли и несколько жилых домов со всеми удобствами.
Еще раз внимательно перечитала письмо свинарки. Что с ним делать? Я бы опубликовала его в газете. Но согласится ли на это наш робкий Пал Палыч? Оставлю письмо до Жени Комарова. Сегодня заместитель редактора должен выйти на работу. Посоветуюсь с ним.
Взялась было за новый конверт, да тут приоткрылась слегка дверь, и в неярко освещенную настольной лампой комнату просунулась большая голова в шапке-растопырке.
– Заходите, – кивнула я.
– А нам по личному вопросу… Тоже можно? – простуженным голосом спросила голова.
Не сдержавшись, я улыбнулась.
– Можно и по личному.
Тогда дверь растворилась пошире, и в этот прогал боком пролез плотный кургузый человек в синем ватнике, таких же стеганых брюках и растоптанных валенках – серых, с рыжими подпалинами на голенищах. За лямку, волоком, он втащил в комнату чем-то набитый рюкзак.
– Проходите, – снова кивнула я. – Вот стул – садитесь.
Озираясь недоверчиво, пришедший повертел головой туда-сюда, точно опасаясь, не бросится ли на него затаившаяся на книжном шкафу рысь или, на худой конец, злая собака, и лишь после этого приблизился к моему столу, оставив рюкзак у порога.
Большие настороженные глаза. Настороженные и скорбные. И как будто чуть-чуть заплаканные. Глянула я в эти пугающие девичьи колодцы – синь бездонная, грустная. Даже у самой душу охватила беспричинная тоска.
– Вас как звать?
– Ве… Верой, – ответила девушка и присела на стул. Из-за пазухи достала измятый листок, небрежно сложенный вдвое.
– Я тут написала, – смущенно морща переносицу, начала Вера, не выпуская из рук бумажку. Руки у нее крупные, мужские. – Да уж лучше я поначалу опишу словами… из-за чего все проистекло. Можно?
– Ну конечно.
Я приготовилась слушать, стараясь не глядеть на совестливую девушку.
– На Шутихе… три года оттяпала на Шутихе учетчицей, – сказала Вера, и сказала тяжело как-то, будто задыхаясь от жгучего ветра, наотмашь резанувшего в лицо. – Да только ли учетчицей? Наравне с этими верзилами парнями… рука об руку с ними нянчила частенько неприподъемные бревешки! И никогда не хныкала. – Помолчала, неспокойно глядя на занимавшийся за окном невесело жухло-сизый, с подтеками рассвет. – Разве я думала-гадала раньше… в свои незрелые семнадцать лет, что подамся в несусветную студеную глушь? С воронежских-то вольных просторов? – Опять помолчала. – Девчонкой я красива была. И горда. Парни табуном бегали. Помню, трепались: «Ох и локаторы у этой Верки! Глянет на тебя раз, а сердце испепелит на всю жизнь!» Я на них всё поверх голов смотрела. Будто и не замечала. Пока один искуситель сам меня не приворожил. Так втюрилась… жизнь за него готова была отдать. А он… он добился своего – и был таков. Пришлось аборт делать. И бежать от позора куда глаза глядят.
Вера поискала в карманах ватника носовой платок. Не нашла. И вытерла глаза варежкой.
– Все твердят: «девичья гордость». Даже в газетах про то пишут. Вот я была гордой, а он наплевал мне в душу. Чего же мне оставалось делать? С чем ее, гордость, жевать?.. Занесла меня нелегкая сюда. Первое время держалась. Тоже отбоя не было от коблов. Один целых полгода увивался. «Оженимся, – пел, – семью заведем. Я хочу пацанят. Чтобы не меньше двух было. Душа в душу будем жить». Цыпонькой звал. Поверила, дура. А этот «семьянин» походил ко мне месяца два – и улизнул. Даже не простился. Тут уж я с горя… и пить стала, и… и доступной чуть ли не каждому столбу стала. Ко дну бы наверняка пошла, да случай один… заставил спохватиться. Не надоела я вам?
Я боялась раскрыть рот, чтобы не разреветься.
– Был у меня в последнее время хахаль. Ну, видно, поднадоела ему. И решил он вместо себя заместителя мне подсунуть – сосунка одного мокрогубого. Достали они спиртяги, напоили меня. А дело на вырубке случилось. В теплушке пили. Полез этот мокрогубый телок меня лапать… Разгневалась тут я и так двинула его по сопатке! Так двинула, что у него из носа потекло. «Отстаньте, говорю, от меня, кобели! Ненавижу вас! Чуму бы на вас азиатскую напустить». Только они оба озверели вконец, выволокли меня из теплушки, дотащили до бульдозера… на просеке бульдозер стоял, связали руки-ноги, в рот – портянку и в кабину бросили. А сами вернулись в теплушку спирт допивать. К утру бы я льдышкой бесчувственной стала, потому как ночью под сорок было. Да не пришлось подохнуть. На мое разнесчастное счастье, подвернулся с соседнего участка вздымщик. Он меня и спас от верной погибели. Тоже молодой парень. Только физиономия лица у него попорченная… ровно бы обгорелая. Это уж я поутру, когда в себя пришла, разглядела, какое у него лицо. Сказывал, народного артиста сын. Из Москвы. Да несчастье произошло в семье. Умерла мать, а отец вскорости на другой женился. С приплодом взял жену – тоже артистку. А дочка у мачехи уж большая. Вот она возьми да и втюрься в этого белобрысого парня – сводного братца. Он же – никакого ей внимания. Тогда дочь артисточки и плеснула ему в лицо кислотой… После больницы парень вначале где-то на Волге робил, а потом сюда забросила его судьбина. Три дня жил он у нас в поселке – зубы лечил. Скромняга с чувствительными внутренностями. Захотелось мне этому парню – Дмитрием его зовут – какую-то приятность… душу согревающее что-то сделать. Купила я билеты в кино на вечерний сеанс и позвала его. Сначала и слушать не хотел. Краснеет себе, бирюком смотрит. «Пойду, говорит, когда сам захочу». Уговорила все же – я ведь тоже упрямая! Сидит во время сеанса рядом, рукой боится дотронуться. А я и принарядилась: у одной девахи шубку нейлоновую выклянчила на вечер, у другой – шляпу. Сидит себе истукан истуканом, в мою сторону даже не покосится. После сеанса все же проводил до женского общежития. «Зайдем? – говорю. – Чаю попьем. А ежели накатит – найдется что-нибудь и покрепче чаю». А он… а он… а он… никогда ни один парень так не обижал. Лучше бы этот чистоплюй блажной меня не спасал!
Вера порывисто встала. Опять вытерла варежкой слезы. Бледное лицо ее в этот миг было растерянное и жалкое.
– Извините. Зря я на него… Это у меня в нутре все еще кипит, а душой… душой я понимаю. Потому-то и уезжаю отсюда. – Усмехнулась криво. – Когда-то была горячей, да вот застудилась в ваших пуржистых землях. Подамся куда-нибудь ближе к солнцу. Прощевайте!
И она чуть ли не бегом бросилась к двери, легко подхватив свой рюкзак.
А когда захлопнулась за девушкой дверь, я какое-то время не могла ни на чем сосредоточиться. На столе лежали нераспечатанные письма, московские газеты, а мне ии до чего не хотелось дотрагиваться.
«Сейчас она доберется со своим тяжелым рюкзаком до автовокзала, – думала я, как бы шагая следом за этой Верой по сумрачным еще улицам городка. – Куда она решится податься? В Рюмкино, чтобы сесть на поезд и умчаться далеко-далеко… Скажем, в родные воронежские степи или еще дальше – на Украину? И какая жизнь ее ждет? Не оступится ли сызнова?»
Вздохнув, я пододвинула к себе первую попавшуюся под руки газету. Рассеянно полистала ее. А на четвертой полосе взгляд вдруг зацепился за крохотную заметку:
«ВСПОМНИЛ
Капитан торгового флота американец Кембл позвонил в часовую мастерскую фирмы «Саут-уэст инструмент» в Сан-Педро, штат Калифорния. Он интересовался своими часами, которые оставил там для ремонта. На вопрос о том, когда он оставлял часы, последовал ответ: «В 1927 году». После поисков часы нашлись в сейфе компании. Часы ходят».
Внезапно я встала и прошлась по комнате – от стола до двери и обратно. И тут заметила под стулом, на котором сидела девушка, скрученный в тугую трубочку листик бумаги.
Размашисто, химическим карандашом на листке было написано:
«В редакцию газеты «Прожектор лесоруба». Прошу редакцию пропечатать мое обращение:
Девчонки! Те, которые хотят любить. Будьте всегда неприступными, если даже иные из вас некрасивы! Пусть эти парни не задирают свои носы, пусть не думают, что мы без них пропадем!
Вера Осипкова».
И хотя нынче не было газеты, а наша троица засиделась в редакции чуть ли не до полуночи. Я имею в виду Нюсю Стекольникову, Комарова и себя.
Нюся – как всегда – организовала чай с хрустящими бараночками, осыпанными маком, а Комаров, только-только вернувшийся из отпуска, угостил московскими шоколадными конфетами.
Для меня же самым интересным в этот вечер был его, Жени, рассказ о родном Ярославле – древнем русском городе с многовековой историей. Каждый свой отпуск – на какой бы месяц он ни приходился – Комаров проводил на родине. Краше Ярославля для него нет города на свете. О Ярославском кремле, о монастырях, соборах, многочисленных церквушечках, дошедших до наших дней из седой старины, он мог увлеченно говорить часами.







