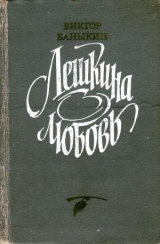
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
И не удивительна эта любовь Комарова к искусству древней Руси – сколько-то лет, не помню сколько, он учился в Москве в Суриковском художественном институте, но потом бросил учебу, уехал в провинцию и стал журналистом. Как-то дотошная Нюся спросила Комарова, когда он однажды мельком упомянул о Суриковском: «Что вас заставило, Евгений Михайлович, оставить институт?» Игриво хихикнув, она добавила: «Уж не роковая ли любовь?»
Смутившись до крайности, Женя взъерошил обеими руками и без того лохматые жесткие волосы, черными сосульками нависавшие на тугой крахмальный ворот белой сорочки, и проговорил негромко, терпеливо-вежливо:
– Случается, Нюся, такое с человеком… не всегда, возможно, но порой случается… когда наступает прозрение. Так и со мной… Вдруг я понял: нет у меня таланта. – Помолчав, он еще тише – с горечью – добавил: – Правда, иные «счастливцы» умеют и без таланта обходиться: заканчивают университеты, консерватории, иные даже становятся учеными. И всю жизнь малюют холсты, поют козлетоном, заведуют кафедрами. Сказал же как-то Леонид Леонов об «ученых» такого сорта: тихо высидят диплом, потом сытно кормятся, накапливают денежки на дачу, автомобиль. У меня был друг… друг детства. Химик. После института женился на сокурснице. Уехали на Север – там платят отлично и один год за два засчитывают. Через десять лет, став кандидатами наук, вернулись в Москву – жена москвичка была, – купили кооперативную квартиру, роскошную дачу, «Волгу». Книг ни у того, ни у другого нет. Да и зачем книги? И без этих кандидатов тоннами издают наукоподобный хлам другие. Живут же они, мои бывшие друзья, припеваючи. И угрызения совести не испытывают. – Комаров вновь помолчал, морщась брезгливо. – Мог бы, конечно, и я закончить Суриковский. Возможно, считали бы способным живописцем, не лишенным даже… дарования. Да я не захотел играть со своей совестью в кошки-мышки. Ну и…
– Вы же на себя наговариваете! – с наигранным жаром воскликнула Нюся, явно желая польстить заместителю редактора. – Вы так… так толково разбираетесь в искусстве. А рисунки ваши? Я же видела, когда приходила вас навестить по осени. Помните, вы болели тогда?
Евгений Михайлович отмахнулся:
– А, бросьте. Не надо!
Вот и сегодня, расправляясь активно с шоколадом, Нюся надумала пошутить над Комаровым. Заглянула пытливо в глаза Жене, дувшему на стакан с горячим чаем, который он переставлял с одной ладони на другую, и вкрадчиво молвила:
– Ты, Зоенька, заметила?.. Наш Евгений Михайлович что-то за время отпуска катастрофически похудел. Уж не зазноба ли его иссушила… эдакая стандартно-модная Ярославна двадцатого века? А?
Наш Комаров покраснел жарко, покраснел чуть ли не до слез. Собрался было что-то сказать, да поперхнулся чаем и чуть не пролил себе на брюки весь стакан.
Нюся озорновато погрозила заместителю редактора пальчиком:
– В точку… в точку попала!
– Не совсем в точку, а… – Женя метнул глазами в сторону Стекольниковой, потом поставил стакан. И мгновенье-другое как бы мешкая, прикидывая: стоит ли раскрывать душу? И с какой-то лихорадочной поспешностью полез в грудной карман пиджака.
– Посмотрите… занятно, верно?
И глаза его обожгли меня своей кипящей чернотой. На узкой же ладони с длинными нервными пальцами коробилось несколько хрустких фотографий.
На первом снимке изображен барельеф страшно хищного и в то же время празднично нарядного льва. Такого фантастического льва с невиданной гривой, когтями в поллапы не сыщешь днем с огнем ни в одном учебнике анатомии! На втором снимке красовалась женственно-пышногрудая жар-птица в обрамлении тяжелых гроздей рябины и легких заморских лиан. А вот человек-конь с натянутым луком в руках. Между прочим, у этого русского кентавра задорно заломлена набекрень войлочная шляпа посадского человека далекого прошлого.
Нюся не дала мне досмотреть все фотографии – вырвала из рук.
– Эти снимки с многоцветных керамических плиток, – пояснил Комаров, потупясь. – Они сделаны по мотивам керамистов семнадцатого века. Эдакими нарядными изразцами были украшены во многих ярославских храмах панели галерей, порталы, парапеты… Такая, скажу вам, праздничная красочность, такое узорочье.
Женя опять остановил на мне свой взгляд.
– В реставрационной мастерской города работает один смышленый керамист. Парень по уши влюблен в свое дело. У него-то в мастерской и проторчал я недели своего отпуска. А мастерская у Гохи – холодный кирпичный сарай за городом. Когда же он разожжет горн для обжига плиток – ревмя наревешься от дыма. Но я доволен. Расчудесные образцы изготовили мы с ним за это время! Ну, правда, разве не загляденье?
– И что вас заставило торчать в этой коптилке? – Нюся вернула мне фотографии.
– Как – что? – удивился Комаров. – Да пустите в массовое производство эти плиточки – их с руками оторвут туристы! Они так здорово смотрятся, когда повесишь на стену. Ведь это же захватывающая книга… удивительная глиняная книга о наших далеких предках! О нашем Отечестве! Фу-ты… понесло же меня… в риторику.
– Ну и отлично… этот ваш Гоха будет иметь славу, доход от своих плиточек, а вы? – попивая спокойно чай, продолжала наставительно Нюся. – А вы что от этого будете иметь, Евгений свет Михайлович?
– А я… – Отрочески белозубая улыбка сверкнула на смуглом лице Жени. – А я… радоваться буду! И вам с Зоей первым подарю ярославские шедевры!
– Тогда все ясно. – Нюся звонко рассмеялась. – Только когда нам ждать от вас подарки? Лет через сто?
– Не-ет, чуточку пораньше. – Теперь засмеялся и Комаров.
– Вас проводить? – спросил Комаров, пока мы поджидали у крыльца Нюсю, запиравшую редакционную дверь. Эта дверь, обитая черным дерматином, тяжелая, пухлая, напоминала спинку старомодного дивана.
– Спасибо, – ответила я, чуть помешкав. – Люблю ходить одна. – И, еще помолчав, добавила: – Вы лучше Нюсю проводите… она у нас страшная трусиха.
Насмешливо хмыкнув (или мне только показалось?), Евгений Михайлович покачал головой:
– Не думаю. Стекольникова не из робкого десятка. К тому же ее рыцарь уже тут как тут.
Я оглянулась. И правда: от райкома неспешно вышагивал плечистый коротыш в медвежьей дохе. Казалось, муж Нюси, Владислав Юрьевич, с пеленок такой: солидный, представительный, малоречивый. И улыбается не чаще одного раза в год.
Он и сейчас, подойдя к нам, не произнес ни слова, лишь слегка дотронулся рукой до мохнатой шапки.
– Ба-а, мой! – Нюся, справившись с замком, легко, вприскочку, сбежала с массивного крыльца на снег. – А я-то собиралась предложить Зое погадать… кому достанется в провожатые Евгений Михайлович. – Она засмеялась. – Хвать, тебя нелегкая принесла… ох уж эти сверхзаботливые муженьки!
Владислав Юрьевич удивленно вскинул на жену глаза. С серьезной значительностью изрек:
– Значит, лотерея отменяется?
Я поспешно попрощалась:
– Спокойной ночи. Евгению Михайловичу с вами по пути.
И, боясь, как бы меня не окликнули, заспешила на противоположную сторону улицы.
Вот я всегда, глупая, такая: колючая, нелюдимая, мнительная. Мнительная до умопомрачения! Если люди ко мне внимательны, предупредительны, то я бог знает что начинаю думать: и внимательность-то их не искренняя, сострадательная… Дурнушек ведь всегда жалеют. И т. д. и т. п.
К чему мне было сейчас обижать Комарова? Не из предосудительных же побуждений собирался он провожать меня? Не помышлял он, конечно, и о так называемой благотворительности, что ли. Я-то знала Евгения Михайловича: никогда этот человек не был притворщиком и лгуном.
Горело лицо, всю меня бросало то в жар, то в озноб. Нагнувшись, я зачерпнула с гребня сугроба пригоршню тяжелого снега, чтобы приложить его к щекам, и тут только заметила: посерел, отволг снег. И под ногами он уже не скрипел певуче, как утром.
Небо тоже было серое, жухлое. Жухлое и угрюмое, без единой звездочки. Глянула на крутую крышу дома, мимо которого шла, а она вся стеклянными штыками ощетинилась.
«Ой, а ведь нынче первое февраля! – ахнула про себя. – Помню, еще дедушка Игнатий говаривал: «Он, батюшко-то февраль, бокогрей. То водичку подпустит, то морозцем сопельки подберет. Балуется перед веснушкой!»
Поднесла к лицу снег, а он как-то по-особенному пахнет… вроде бы подснежниками.
И тут я вздрогнула. Подснежники! Первые весенние цветы, первые и самые желанные. Никогда мне – ни раньше, ни позже – никто не подносил таких радостно-лиловых, хрупких до звонкости колокольцев, как в тот далекий год, в год окончания десятилетки. Что верно, то верно: все тут истинная правда.
Это произошло в конце марта: я возвращалась поздно из школы после комсомольского собрания. Брела, печально опустив голову, не замечая ни прохожих, ни сиреневых луж… В большую переменку, язвительно ухмыляясь, Борька Липкович объявил всему классу (имея в виду, конечно, главным образом меня): «Па-азвольте, други, об Андрее Каланче новостишку сообщить. Отбыли Снежковы из Старого Посада… извиняюсь, отбыли при таинственных обстоятельствах в направлении туманно-неизвестном!» Закончив свой неудачный, как всегда, витиеватый каламбур, Борька покосился в мою сторону.
После девятого Андрей Снежков поступил в школу электросварщиков при конторе Гидростроя, и я его видела редко, видела мельком. В то лето он как-то сразу до неузнаваемости повзрослел. И от неуклюжего сутулого подростка и в помине ничего не осталось. Появились у Андрея и новые черты в характере: чрезмерная замкнутость и задумчивость.
По весне трагически погиб электросварщик Гидростроя Глеб Петрович Терехов – расчудеснейший человек, квартирант Снежковых. И они оба – и Андрей и его мать – долго не могли прийти в себя от горя: любили Глеба Петровича, как родного.
И вдруг через год после смерти Терехова новость: уехали из Старого Посада Снежковы. Уехал Андрей, уехал мальчишка, которому я первая назначила свидание, уехал, даже не попрощавшись. И какой мальчишка! Прошло с тех пор более семи лет, а я вот не могу, не могу, да и все тут, забыть своего Андрея…
Вечером того самого дня, когда препротивный Борька Липкович с злорадством объявил об отъезде Снежковых из Старого Посада, меня и подкараулил неподалеку от дома Максим Брусянцев. Он, Максимка, еще раньше Андрея, своего друга, оставил школу – мой родитель помог ему устроиться и на работу, и на курсы электромонтеров. Максим тогда остался единственным кормильцем больной матери – в конце зимы от них ушел отец.
Вот Максимка-то и напугал меня, внезапно заступив дорогу, представ эдаким галантным кавалером. А в руках у него трепетно дрожал, распространяя вокруг запах талого снега и смолкой хвои, букетище подснежников.
– Зойк, тебе! – выдохнул горячо и смущенно Максим.
– Ты слышал: Снежковы уехали, – придя в себя от испуга, накинулась я на Максима. – Это верно? Или очередной треп Борьки Липковича?
Клоня книзу голову, Максим почему-то шепотом обронил:
– Да… уехали. К сестре матери… куда-то под Ульяновск. Там тоже начинается большая стройка.
И Максим, невесело и рассеянно глянув на подснежники, замялся, не зная, что ему теперь с ними делать.
Все еще потрясенная отъездом Андрея, я почти бессознательно взяла из рук Брусянцева цветы, даже не посмотрев на них. Хотела еще о чем-то спросить замирающего от робости Максима, да не успела – он неожиданно сорвался с места и опрометью убежал.
Те-то подснежники Максима я и вспомнила сейчас, поднося к лицу пригоршню отволглого снега, пахнувшего на меня далекой весной.
Застенчивый, тихий Максимка, может, даже и любил тогда меня, а вот Андрей, к которому я так тянулась, тянулась, как слабая былинка к солнцу, ни капельки не имел ко мне никаких чувств. Не потому ли со временем и очерствела я душой? Или я наговариваю на себя лишнего?
Я стряхнула с варежки липкий снег и прибавила шаг.
У ворот дома Ксении Филипповны меня поджидала дочь соседки – востроглазая Лизурка.
С этой востроглазой, шустрой Лизуркой – так ее звали и мать, и все соседи вокруг – у меня было шапочное знакомство.
К моей хозяйке Лизурка почему-то никогда не заходила. Лишь изредка на улице встречала я молодую женщину, так похожую на резвую восьмиклассницу. Лизурка постоянно куда-то спешила.
– С добреньким вечером вас! – пропоет на ходу, сияя глазищами, и уж нет ее.
В воскресные дни, случалось, подойду к окошку, а Лизурка носится прытко по дороге, запрягшись в легкие саночки. А в саночках королевичем восседает, закутанный по самую курносую пуговку, ее сынище.
Видела как-то: на повороте санки опрокинулись и малыш плюхнулся в сугроб. Другая бы мамаша до смерти перепугалась и с причитаниями бросилась бы поднимать дитятку. Лизурка же, глядя на барахтавшегося в снегу сына, беспечно расхохоталась, махая руками.
Вот эта самая неунывающая Лизурка и метнулась ко мне навстречу, едва я поравнялась с калиткой:
– Беда-то какая! На вашу хозяйку беда-то какая свалилась… говорить даже страшно!
У меня клещами сдавило сердце.
– Беда… у Ксении Филипповны? Какая же?
– Ой, и не говорите! – Хлюпая носом, Лизурка схватилась руками за голову. – Сына у нее… младшего… убили.
Я не поверила своим ушам:
– Лиза, ну что это вы…
– В последний будто раз перед концом службы в дозор пошел Антон… И нате вам – диверсанты сунулись через границу. – Лизурка опять всхлипнула. – Письмо от командира заставы пришло. Героем Антошу называет.
Я кинулась было к калитке, но Лизурка схватила меня за руку.
– Ни-ни! К ней теперь никак нельзя. Вроде полоумной сделалась тетка Оксинья. Мама моя с ней. А вы пойдемте к нам. А то у меня Афоня один.
Плелась за Лизуркой, то и дело спотыкаясь. Не слышала я, что она и тараторила скороговоркой, нет-нет да всхлипывая, эта шустрая, обычно такая веселая маленькая мама, похожая на школьницу.
Я начала писать эти свои заметки о Лизурке, поджидавшей меня у калитки дома Ксении Филипповны, лишь спустя дня четыре после случившегося. Нацарапала страничку и бросила… Снова берусь за свою объемистую тетрадь через две недели.
За это время Комаров, Гога-Магога и я подготовили и тиснули в «Прожекторе лесоруба» целую полосу, полосу о нашем земляке Антоне Шустове, погибшем в неравной схватке. На странице были опубликованы и письмо командира заставы, на которой служил сержант Шустов, и заметка мастера ремонтной мастерской, куда пришел после восьмилетки будущий воин, и фотография Ксении Филипповны. Молодые ребята, собиравшиеся весной в армию, обещались быть верными сынами Родины, такими же отважными и мужественными, как их земляк Антон Шустов.
Между прочим, в редакцию до сих пор поступает много писем-откликов на эту нашу подборку о земляке-герое. Похвалила нашу полосу и областная газета.
Но вот сейчас мне снова хочется вернуться к той глухой тревожной полночи, когда соседская Лизурка пригласила меня к себе в дом.
Не слушая мои заверения: «Сыта, ничего не хочу», молодая хозяйка разогрела самовар, достала из печки не остывший еще лапшевник, нарезала сала.
– Кушайте на здоровьечко, сало-то свое, не покупное: Борьку по осени закололи… восемь пудиков, шельмец, вытянул!
За поздним ужином, чуть успокоившись, Лизурка и рассказала о себе, о своей трудной любви.
После техникума она была направлена в Пермь на машиностроительный завод. На заводе ее сразу же зачислили на должность инженера по технике безопасности. Как потом узнала Лизурка, на эту безответственную, по мнению начальства, должность назначали всегда новичков.
В конце первого месяца работы Лизурка и познакомилась с будущим своим мужем, познакомилась при неприятных обстоятельствах – после одного несчастного случая в инструментальном цехе.
Она, Лизурка, до смерти перепугалась, когда ее срочно вызвали на участок.
– Беги, девка, там, кажись, хлопца пришибло! – сказала рассыльная, сказала странно-равнодушно, торопясь куда-то еще.
И лишь в цехе чуть отлегло от сердца: не убит токарь, жив. Ранен в голову. В медпункте перевязали и домой отправили.
Вгорячах Лизурка собралась было остановить участок до тех пор, пока не поставят ограждение. Но на нее с угрозами обрушился начальник цеха: «Вы с ума спятили? У меня и так горит план!» И Лизурка перепугалась пуще прежнего. А когда составляли акт, прибежал профорг, и тоже с нареканиями: «Без премий хотите оставить рабочий класс? Спасибо за это вам никто не скажет!»
«Что же мне делать?» – взмолилась заплаканная девчонка. Профорг, тертый калач, почесал за ухом и с ленцой в голосе, как бы оказывал превеликое одолжение, посоветовал: «Сходили бы к этому Всеволоду. Парень он покладистый, может, и откажется от больничного. А нам больше ничего и не надо».
Покумекала, покумекала разнесчастная Лизурка и отправилась в поселок разыскивать какого-то Всеволода, совсем незнакомого ей человека.
Когда же увидела пострадавшего с забинтованной головой, смирно лежавшего на койке, снова разревелась.
Смущенный и растерянный, не зная, как ее утешить, бровастый этот парень выпростал из-под одеяла большую свою пятерню и потянул Лизурку за рукав, приглашая присесть.
– Ну, ну… экая же вы чувствительная. – Глуховатый, срывающийся на полушепот голос выдавал его сильное волнение. – Ну, успокойтесь. Сами видите: ничего со мной погибельного не произошло. Так, чуть по башке задело.
Не сразу Лизурка заметила, что ее рука лежит в шероховатой Всеволодовой – такой умиротворенно-надежной. Робко, но в то же время и настойчиво Лизурка попробовала освободить руку из ласковой руки токаря.
– Говорю вам по совести: ни беса мне не больно! Ну, разве что вначале, когда болванкой звездануло… А сейчас нормально, – горячо заверил парень Лизурку, с неохотой выпуская ее руку. – Я же и от бюллетеня отказался. Так что ни акта, ничего не надо: морока одна!
А сам все не спускал с пришедшей своих цепких, вприщур, завораживающих глаз.
Была Лизурка у Всеволода дома и на другой день, и на третий. Др этого девушка никого не любила, как огня боялась ухажеров. И вдруг нате вам! Скоро и Всеволод, и Лизурка души друг в друге не чаяли.
– Не помыслите, пожалуйста, будто я, растаяв от любви, и про работу свою тогда забыла, – сказала внезапно Лизурка, перебивая сама себя. – Нет, не тут-то было. Я тогда же, по горячим следам, разработала план первоочередных мероприятий по технике безопасности. Кое-что Всеволод подсказал, потом со старыми производственниками советовалась… Месяца через четыре после знакомства отправились мы с Всеволодом в загс, так в это время в инструментальном уже были поставлены надежные ограждения. Ну, а потом и ряд других работ удалось провернуть по заводу. Так в счастье и согласии прожили мы с мужем три с лишним года. Любил он меня, любил и Афоню. Да только я простить не могла мужу одного попрека. Ушел Всеволод в ночную смену, я наскоро собрала чемодан, подхватила сына и – на поезд. Теперь вот второй год у мамы живу, кладовщицей на складе работаю.
– Чем же вас обидел муж, что вы решились на такую крутую с ним расправу? – спросила я, пораженная смелостью и решительностью этой хрупкой, слабой с виду женщины.
А она, Лизурка, смутно и жалостливо улыбаясь, водила по узору клеенки пальчиком и молчала. Долго молчала.
– Возможно, я тогда и лишку хватила… погорячилась сверх меры, – проговорила она наконец-то в задумчивости. – Вышло так, что одному новичку палец оторвало. Ну и Всеволод прилетел домой и давай орать: «К Сурковикову не бежишь, как ко мне тогда?.. Все ведь знают, каким манером ты со мной конфликт уладила!» Вот… вот чего он мне ляпнул. Потому и уехала: не могла незаслуженную обиду простить мужу. А парень же тот, Сурковиков, ни по моей, ни по чьей другой… только по своей вине без пальца остался… А вы, Зоя Витальевна, так лапшевничек-то наш и не попробовали?
– Спасибо, – отмахнулась я. – Но как же вы дальше, Лиза, собираетесь жить?.. Ведь сыну отец нужен!
Лизурка подняла от стола глаза, и бледное до того лицо ее все так и озарилось.
– Не зря говорят: кому горе, а кому радость. Тетке Оксинье… вон какую жуткую весть письмо доставило, а мне мое – неожиданное воспарение духа. Разыскал-таки нас с Афоней Всеволод! Пишет: прости, прости, прости! И приехать разрешение вымаливает.
– Письмо нынче получили?
– Да. От соседки почтальонша сразу же к нам заскочила. Не хотите ли взглянуть, как почивает мой Афоня?.. Да и нам с вами пора укладываться.
На цыпочках мы прошли в жарко натопленную комнатку, слабо освещенную ночником с оранжевым абажурцем.
На деревянной, огороженной сеткой кроватке сладко спал, сбросив к ногам одеяло и простынку, большеголовый бутуз.
– Весь, как картинка, в отца: и ушки, и бровки, и нос горбылем, – шептала ласково Лизурка, заботливо укрывая сына. – Вот уж обомлеет от радости мой Афоня, когда прискачет отец, вот уж обомлеет!
В простенке между окном и диваном, украшенным ручной вышивкой, я вдруг увидела икону. На меня смотрел испытующе внимательно и в то же время как бы с улыбкой, простодушно-доброй, всепрощающей, необыкновенно лобастый дед с курчавой апостольской бородой. И еще… и еще столько было в этом взгляде народной, чистосердечной мудрости, что я как бы растерялась и не сразу отвела глаза от иконы – охристо-темной, с сияющим тускло, точно из дали веков, золотым нимбом.
– Вы… верующая? – спросила я, запинаясь, Лизурку. Она вся так и вспыхнула.
– Ну, что вы… я комсомолка! В этой комнатухе до прошлого года бабушка жила… после нее образ остался. Помню, говорила старая, будто чудотворная она, эта икона. Из какого-то раскольничьего скита Никола-чудотворец.
– Ваш Никола на моего дедушку похож, – вдруг проговорила я, проговорила даже для себя неожиданно. И это была правда: вот таким или почти таким, как этот мудрый Никола старинного письма, запомнился мне, девятилетней, дед Игнатий, мамин отец – удивительной доброты человек, заядлый сказочник и побасенщик.
Лизурка постелила мне в горенке на кровати, сама же легла в комнате под боком у сына.
Уснула я сразу, едва коснулась головой пуховой подушки. И хотя легли мы невероятно поздно, но в семь утра – по привычке – я уже была на ногах. Одевшись, вышла на кухню.
У Лизурки топилась печь, а сама она раскатывала тесто. На сундуке сидел, перебирая игрушки, Афоня – серьезный и сосредоточенный не по годам малыш.
– И рано встали? – спросила я молодую хозяйку.
– Рано! – кивнула она и зубами подтянула к локтю опустившийся рукав бумазейковой кофты. – Я и к соседке успела слетать.
– Ну и как там Ксения Филипповна?
– Мама сказала: под утро уснула. А до того всю ночь вопила… Все порывалась туда… к Антоше своему. Садитесь, я вам чайку свежего заварила.
Когда же я собралась уходить в редакцию, Лизурка, к тому времени отмывшая от муки приятно полноватые свои руки, сунула мне под мышку какой-то плоский сверток.
– Это вам, – шепнула она мне на ухо. – Пусть этот Никола… дедушку вашего вам напоминает.
– Да что вы такое выдумываете? – заупрямилась я. – Узнает ваша матушка… да и вообще…
– Мама у меня не шибко верующая. К тому же у нее свои иконы есть. Берите, берите! Вместо портрета дедушки он у вас будет – Никола Чудотворный.
Я не смогла отвертеться от Лизуркиного подарка – такого неожиданного для меня. А по дороге в редакцию даже и обрадовалась ему в каком-то роде. У нас дома не было ни одной фотографии дедушки Игнатия, даже самой маленькой. А сейчас вот гляну на этот образ и представлю себе деда. Я его так любила!
Я теперь не без робости и замешательства возвращаюсь домой. Я стала побаиваться своей квартирной хозяйки. Моментами на нее как бы находит. (Лизуркина мать, кроткое, безобидное создание, сказала про Ксению Филипповну с трогательной снисходительностью: «На нее и сетовать-то нельзя: разумом, старая, от горя тронулась».)
Забежала этими днями в обеденный перерыв за деньжатами, – Алла, наборщица типографии, уступила мне шерстяную кофточку, присланную ей из Перми, – а Ксения Филипповна суетятся у печки. Не в меру веселая, разнаряженная как на праздник. Увидела меня, руками всплеснула молодо:
– Зоя Витальевна! Бог-то тебя принес! А у меня радость светозарная: Антошу с часу на час жду!
Я так и оторопела. И не знала, что делать – уносить ли ноги вон из дому или сделать вид, будто ничего странного не заметила за своей хозяйкой.
Сказала, отводя в сторону взгляд:
– Я на минутку, Ксения Филипповна… рабочий день еще не кончился.
– Все небось пишешь? Ох уж вы мне писучий народец! – Старуха отерла краем передника руки. – Ну, ну, торопыга! Уж после работы не мешкай. Милости прошу на угощение.
Не помню, как я слетала к себе в светелку, как опрометью выбежала на улицу.
А вечером, прежде чем идти домой, зашла за Лизуркой.
– Проводите меня, пожалуйста. Боязливо что-то идти одной, – призналась я.
Сговорчивая Лизурка будто только и ждала моего приглашения.
– Это мы мигом. Мам, пригляди за Афоней.
Она замотала голову черным, с пунцовыми розами полушалком и так налегке – в домашнем платьице – отправилась «сопровождать» меня.
Большой кухонный стол у Ксении Филипповны был заставлен тарелками с кусками пышных, подрумяненных пирогов, домашними кренделями и ватрушками, вазочками с вареньем.
– А вот и мы, тетечка Окся! – от порога запела смелая Лизурка. – С добреньким вечером вас!
Ксения Филипповна не удивилась незваной гостье. Поклонилась – низко, церемонно. Изрекла:
– Почто без матери! Беги-ка за ней. И своего стригунка прихвати. Ноне двадцатый денек… помянем по христианскому обычаю новопреставленного раба Антона.
И весь вечер была со всеми ласкова, предупредительна. Лишь однажды немного всплакнула, показывая Лизурке фотографию сына.
Как-то в другой раз я застала хозяйку у раскрытого сундука, обитого железом. Она раскладывала вокруг себя на стульях какие-то вещи, белье и сама с собой разговаривала:
– Эту рубашечку Антоша, сокол мой ненаглядный, и надевал-то всего раз… перед самым отъездом на службу. В клуб на танцы ходил.
Заслышав скрип двери, оглянулась, кивнула мне:
– А-а, это ты, касатка. Разбираю Антошино добро. Кое-что Валетке пошлю – может, когда и вспомнит меньшего брата, а другую которую одежку людям раздам.
Показала мне белую матроску с блекло-синим выгоревшим воротником и короткие штаники с аккуратной заплаткой.
– Когда Антоше седьмой пошел… тогда я ему справила костюмчик. Цельными днями, бывало, в моряки играл.
Вздохнув, прибавила слезливо, прижимая к груди детские эти вещички, трогательные своей теперешней ненужностью:
– Себе оставлю. Как живой перед глазами стоит: шустрый, проказливый вьюн. В матросском костюмчике он, отрок, мне ноне днем пригрезился. Прилегла на сундук – голова чтой-то закруговертилась… прилегла на сундук… Ну, толечко-толечко прилегла, а он, Антоша, из кухни и вбегает в горницу. «Маманя, – кричит, – вот и я!» Глянула, и верно: как есть мой Антоша… в отроческом своем безвинном возрасте. Резвый, щеки розанами горят и весь-то здоровьем сияющий. Возрадовалась я, протянула руку, чтобы по головке стриженой сыночка погладить, а уж от слез ничего не вижу. А он, Антоша, сызнова возглашает: «Ну, почто, маманя, ты плачешь? Ты лучше на меня в последний раз погляди. Думаешь, хотелось мне, такому молодому, жизни борения и услады еще не изведывавшему, голову свою сложить?» Приподнялась тут я, вытерла глаза кулаком, а предо мной уж не отрок, а вьюноша… тот Антоша, что на карточке солдатской: в полной военной амуниции, словно бы в сраженье идти собрался. Заголосила отчаянно: «Антоша, кровинка моя!» – и на шею сыну вознамериваюсь броситься, а он отстранился, вырвал с силой руку свою из моей. И так жутко-непреклонно изрек: «Тебе не положено меня касаться. Но не тужи, не печалься, маменька, скоро мы свидимся». И… и пропал.
Протягивая в мою сторону руку, Ксения Филипповна добавила:
– Вот как вырывался, касатка, даже синяк на руке у меня образовался.
Морщинистое запястье старухи с набухшими венами обхватывала браслетом пунцово-кубовая полоса.
Вздрогнув, я прислонилась к косяку двери. Хотела в волнении спросить Ксению Филипповну: не обожгла ли она кипятком руку, да вовремя сообразила – сейчас ни о чем не надо с ней говорить… Чуть успокоившись, я робко пролепетала:
– Не буду мешать вам… Пойду к себе наверх.
Хозяйка не ответила. Она, видимо, уже забыла про меня, бережно, с любовью разглаживая на коленях форсистый сыновний шарф – алый шелк с черными витушками.
Спустя еще несколько дней, за чаем Ксения Филипповна вдруг встревоженно проговорила, вперив в меня провалившиеся глубоко, совиные глаза:
– А тебе, Зоя Витальевна, тоже ведь письмецо было. Да не помню, куда я его дела.
– Письмо? – переспросила я. Мне редко писали, обычно лишь из дома от мамы я получала скудные весточки (родители все еще дулись на меня за эту опрометчивую, по их мнению, поездку в несусветную глушь, когда была возможность остаться в Самарске). – Сегодня было письмо?
Хозяйка покачала головой.
– Не-ет, что ты. В то еще утро было… да я в горе-то своем несказанном совсем запамятовала, куда его задевала.
И Ксения Филипповна приумолкла, тугим узелком стянув губы.
За последние эти недели хозяйку как бы подменили. Словно бы и та, прежняя, предо мной была Ксения Филипповна, и в то же время не та – другая, осунувшаяся, совсем «хизнувшая» (по ее же собственному определению). На низком, бугристом лбу четче обозначались морщины – кровавые запекшиеся ссадины, вокруг глаз круги, словно черные печати, испепелились и тонкие рыбьи губы.
– Мозга за мозгу зашла… Не припомню, да и на тебе! – снова засокрушалась хозяйка, очнувшись от своих невеселых дум. Помолчав, добавила: – Уж шибко не гневайся. Авось вдругорядь и просветление наступит… Не должно бесследно сгинуть письмо. Наутро все углы и закоулки обыщу.
Пропавшее письмо она вручила мне через день.
– Еле отыскала. И ума не приложу: к чему я его в подпечек сунула… в корчагу с яичками?
Быстро глянув на помятый конверт, я закусила нижнюю губу. Письмо было от Максима Брусянцева. Он, только он, Максим, так аккуратно выводил буковку за буковкой, точно нанизывал на нитку наливные горошинки. А я-то думала!..
Поблагодарив хозяйку, я проворно поднялась в светелку. Мне не терпелось поскорее прочесть Максимово послание. Авось… авось в нем есть хоть одна строчечка и об Андрее? Моем Андрее?
Наш Пал Палыч лишь вчера вернулся из Перми с областного совещания редакторов районных газет, а уж нынче с утра учинил сотрудникам разнос.
Первого на «исповедь» вызвал Маргариткина. Из своей комнаты я видела приготовления секретаря к встрече с редактором. Вначале Гога-Магога тщательно взбил расческой жиденький хохолок на макушке, затем сунул на слегка вдавленную вишневую переносицу съехавшие к тупому кончику носа очки. На все три пуговицы был застегнут пиджак. А подхватив со стола пухлую папку с длинными черными тесемками, похожими на шнурки от ботинок, Маргариткин осторожно приоткрыл дверь редакторского кабинета и спросил бодрым, петушиным голоском:







