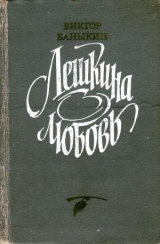
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
– Счастье-то, дочка… и сам не кумекаешь, когда оно бухнется тебе в руки! Ей-ей, не хвастаю: «Москвич» выпал на билетик-то! Повезло этому паршивцу Емельке! Ох-хо-хо-хо!
Я не успела ничего сказать – подошел бригадир, мужчина необыкновенной высоты, вечно хмурый, малоречивый.
– Я тебе, старая калоша! – погрозил он деду, даже не улыбнувшись. – Она, бабка-то, бороденку тебе останную выдерет! Будешь знать тогда, как к молодкам прицеливаться!
Старик заливисто рассмеялся, мотая туда-сюда головой.
– Это вестимо… было время, брат, и драла! Перья летели!
Обращаясь ко мне, бригадир процедил сквозь зубы:
– Могу порадовать: вечером, не раньше, пойдет в Богородск машина.
– Ой, что вы? – вырвалось у меня.
Мрачный этот человек лишь пожал острыми плечами, намереваясь идти по своим делам. Вдруг меня осенила одна мысль.
– Постойте, – сказала я. – Вы не знаете, где тут находятся вздымщики? Мне бы хотелось повидать Салмина.
Бригадир уставился на меня глубоко провалившимися глазами так, будто впервые увидел.
– Иллариона Касьяныча?.. Как не знать, знаю! Во-он в том массиве его монашеская обитель.
Приставив к губам рупором сложенные руки, он зычно прокричал:
– Э-эй, Маклай! Вернись-ка сюда! Сюда, Маклай!
Я встала и посмотрела на просеку, начинавшуюся чуть в стороне от временного этого табора – десятка вагончиков на колесах. Из-за березки вывернулся человек. Остановился, поглядел в нашу сторону.
– Сюда стартуй! – снова прокричал требовательно бригадир. – Да живее, нече прохлаждаться!
Немного погодя к ветле приблизился вразвалочку тонкий, легкий малый, странно похожий на индейца: горбоносый, узкоглазый. Черные, с отливом, прямые волосы челкой падали на лоб цвета спелого ореха.
– Здрасте! – нехотя обронил он и бесцеремонно так оглядел меня с головы до ног.
– Ты, Маклай, на вырубку? – Бригадир достал из кисета щепоть крупной махорки. – Али еще…
– Знаешь, а спрашиваешь! – гонористо перебил бригадира парень и отставил правую ногу в резиновом сапожке с подвернутым голенищем. На плечах у него была наброшена небрежно нейлоновая куртка пурпурно-алого цвета. – Кроме вырубки куда тут сунешься?
Скрутив не спеша цигарку и так же не спеша послюнявив конец газетного обрывка, бригадир прикурил от зажигалки. Казалось, он забыл и про меня, и про этого экзотического парня, прислушиваясь лишь к доносившемуся из-под берега протяжному бабьему голосу:
– Ми-итри-ий! Брига-адир… пес тебя за хвост!
Уже повернувшись к нам спиной, уже на ходу, ходячая эта жердь вдруг бросила жестко через плечо:
– В целости и сохранности доставь к Салмину… данную корреспондентшу!
– Да я, – начал было парень, но бригадир прицыкнул:
– Тебе по пути! И больше не вякай, мухомор!
И зашагал озабоченно крупно к пристани. А подойдя к изволоку, обернулся, махнул мне широко рукой:
– Часам к шести… К шести вертайтесь! А то на машину опоздаете!
– Фигура! – сплюнул парень, зверовато сверкая белками. – Наполеон местного значения!
Я сказала, примирительно улыбаясь:
– Если вам так уж трудно… покажите дорогу, я сама найду.
Ершистый этот парень презрительно фыркнул:
– Да я скорее доведу, чем буду разъяснения давать! Пошли, ежели готовы.
Старик приподнял над головой шляпу:
– До шести, дочка! Не задерживайся. Вместе-то веселее будет трястись.
– Веселее! – кивнула я деду. Взяв легкую свою сумку, припустилась догонять провожатого.
– Вы, товарищ Маклай, – начала я, поравнявшись с парнем, шагавшим легко и споро, – вы на валке леса работаете?
– Маклай? Ха-ха-ха-ха! – расхохотался он, запрокинув назад гривастую свою голову. – Товарищ Маклай?
И снова заржал по-дикарски.
Я недоуменно проговорила, чувствуя, как горячая кровь прихлынула к щекам:
– Чего же тут смешного?
– Маклай – не фамилия моя, а кличка, – разъяснил парень, вытирая кулаком глаза. – В честь Миклухи-Маклая! Великого путешественника! Не верите? Точно! А зовут меня Ювалом – тут все Ванькой. А фамилия – ежели доподлинно все хотите знать – Шепкалов. Ненец я.
– А… а откуда этот… Маклай взялся? – не удержавшись, снова спросила я.
– Ввиду моих странствий. С пятнадцати лет… куда только круговращенье космоса меня не забрасывало. По всей стране блудил.
– Вы хотите сказать: блуждали?
– Нет – блудил! – упрямо, как бы с вызовом, повторил парень. – Вкалывал в Братске, на целине работал, бороздил Белое море. Даже на Дальний Восток шайтан как-то занес. И где видел несправедливость, жадность… мой дух на дыбы вставал. Там всегда разные истории проделывал! В Тбилиси, к примеру, отправляюсь вечером на рынок и всему частному сектору в бочках с вином коловоротом дыры наверчу. К утру – будьте спокойненьки! – пустыми окажутся бочки! В Гурьеве… в Гурьеве с браконьерами-хапугами боролся: лодки ко дну пускал! Раз еле ноги унес. – Ювал беспечно усмехнулся. – Про все мои похождения скоро не расскажешь!.. Вот они, здешние бродяги, и приклеили мне эту прозвищу – Маклай. Правда, после того, как я им книжку читал про Миклуху-Маклая.
Помолчав, спросил:
– А вы из какой газеты?
– Из районной.
– Салмина будете расписывать?
– Не собираюсь.
– И не надо. У них в бригаде свой сочинитель объявился.
– Вы его знаете?
– Димку-то? Еще бы! – Нагибая голову, Ювал поднырнул под сосновую лапу, нависшую над тропой. Несколько минут назад мы свернули с разбитой, ухабистой дороги на юркую тропу, змеившуюся по окрайке соснового бора. – Осторожнее, фасад личности можете попортить! – предупредил он. – И под ноги смотрите. Тут корни и кочки… на каждом шаге.
– Расскажите мне что-нибудь про вашего Дмитрия, – попросила я.
– А чего про него сказывать? Человек… и есть человек!
Вдруг Ювал замер на месте, предостерегающе подняв руку. Я тоже остановилась. И задрала голову к нависшей над нами первозданно зеленой путанице.
Тишина. Девственная тишина. Лишь где-то далеко-далеко куковала кукушка.
– Посмотрите на вершину вон той сосны, – одними губами сказал Ювал. – Видите маленько?
– Нет, – тоже шепотом ответила я. – Одни ветки.
Ювал сказал:
– А там, на вершине, белка. Хвост колечком и умывается. Чистюля!
– У вас и зрение! – подивилась я.
– Ночью тоже как днем все вижу, – похвастался он. – У меня никталопия.
– Что, что?
– Особое свойство глаз… видеть в темноте.
Обернувшись ко мне, Ювал спросил:
– А кто такие были расстеадорес?
– И понятия не имею.
– А гекатомба? Сезострис? Обсидиан?
– Что с вами? – засмеялась я смущенно. – Откуда вы…
Но парень не стал меня слушать. Снисходительно поморщившись, он снова зашагал по тропе, сбегавшей в низину к небольшому озерку.
В прозрачно чистой – лесной – воде озера отражалось высокое зачарованное небо и вершины невозмутимо спокойных сосен, как бы осененных неведомой нам неземной мудростью.
Мы уже миновали это одичалое озерко, в загадочную глубь которого хотелось смотреть, смотреть и смотреть, ни о чем не думая, когда Ювал брюзжаще протянул:
– Вы разные институты кончали. В газете людей уму-разуму учите. А у нашего Дмитрия восемь классов за плечами. Но спросите-ка его, чего он не знает? Эти разные Сезострисы и Спинозы… от его зубов как семечная шелуха отлетают! Не вру!
Я молчала. Умолк и странный этот парень. Но ненадолго. Чуть погодя он запел фальшиво:
Называют меня некрасивою,
Так зачем же он ходит за мной…
Вся вздрогнув, я вскричала взволнованно:
– Ювал! Миклуха-Маклай! Откуда вы знаете эту песенку?
Сорвав длинную тонкую травинку, парень пожевал ее и уж потом ответил сумрачно:
– Димка… его любимая.
Прошли еще с километр. Ювал остановился и сказал:
– Вам вправо, мне влево.
– По этой тропе? – спросила я.
– Да. Тут совсем-совсем близко.
Парень собрался было идти дальше, но уж по своей стежке, еле приметной в высокой траве, но я схватила его за рукав.
– Минутку. Скажите, а здесь… на лесоучастке… вы еще не блудили?
Ювал выпятил нижнюю губу.
– Много будете знать, скоро… на луну попадете… товарищ корреспондентша!
И, резко повернувшись ко мне спиной, так, что с правого его плеча соскользнула куртка, ходко зашагал прочь.
…Вздымщики ютились в небольшом зимовье – срубовой избе с низкими сенцами.
Илларион Касьянович Салмин сидел в тени сеней на широкой устойчивой скамье и острым ножичком вырезал замысловатый узор на ясеневой палке.
– Здравствуйте, – сказала я, приближаясь к зимовью.
Салмин глянул на меня вопросительно чуть сощуренными глазами. Одет он был по-домашнему: просторная сатиновая косоворотка без пояса, синие диагоналевые галифе. На босых ногах разношенные чувяки.
Замедляя шаг, спросила:
– Не узнаете?
– Кажись, признаю, – не совсем уверенно промолвил Салмин. Отряхнул с колен завитки стружек, встал. Вдруг скуластое, медно-бурое его лицо посветлело. – Здравствуйте, здравствуйте! Присаживайтесь, барышня из редакции. А то с дороги поустали. Очень даже удачно вы… в самый как раз наш выходной пожаловали, а то и не застали бы ни души. Дворец-то наш цельными днями пустует.
Я присела на скамью, поставив к ногам сумку.
– Чем прикажете вас потчевать? Чайком с сушеной земляничкой али грибной похлебкой?
– Ни тем, ни другим. Я недавно завтракала. Вы вот садитесь, Илларион Касьяныч. И расскажите, как ваша семья… довольна ли квартирой?
– И не говорите! – Салмин взмахнул большой про-черневшей рукой, снова присаживаясь на скамью. – Жинка балакает: «Мы, Касьянушко, только теперь свет увидели! Не жизнь, а настоящий ро́ман!» Я уж писал товарищу Комарову – благодарил за подмогу.
Взглянув на растворенную дверь в сени, завешенную марлевым пологом, полюбопытствовала:
– Вы один?
– Молодцы мои в поселок закатились. Еще с вечера. А Дмитрий… этот по рани на тракт улепетнул. Гостью провожать отправился. Татьяной ее зовут. Такая, скажу вам, скромница. И работящая. Все полы нам перемыла, всю посуду. Приезжала навестить нашего отшельника. Школьные товарищи Димы – они в армии сейчас – просили Танюшу прокатиться. Издалека деваха-то. Чуть ли не из-под самой Москвы. Вместе они учились. Забыл, как деревня прозывается, откуда Дмитрий.
– Как из деревни? – переспросила я и прихлопнула на руке раздувшегося от крови комара. – А мне кто-то говорил: из Москвы ваш Дмитрий, сын народного артиста…
– Пустое! Это он понарошке… любопытствующим всякую напраслину возводит на себя.
Не удержавшись, я разочарованно протянула:
– А я ведь только из-за него шла. Хотела познакомиться.
Салмин задумчиво посмотрел на стрекочущую надоедливо сороку, восседавшую на трухлявом пеньке через полянку. Вздохнул. Потом закурил.
– Душа у него – песня. Но человек он для общения трудный. Не сразу ладит с людьми. Может из-за пустячка раскипятиться. Или, случается, насупится, сбычится, и слова не добьешься. Прямо Печорин! Он и Татьянку спервоначала чуть взашей не прогнал. Ка-ак взовьется: «Ты зачем? Тебя кто звал?» Не будь меня в этот час дома, она, голубка, может, и сбежала бы. Это уж он потом отмяк.
Снова вздохнув, Илларион Касьянович вдруг встал, развел руками:
– Не гневайтесь шибко. Побегу самоварчик налажу. Редкостных гостей и встречать надо по-ладному!
Чай мы пили в прохладной, продуваемой сквознячком избе с нарами до потолка. В переднем углу бросалась в глаза одна постель: байковое одеяльце заправлено без единой морщинки, подушка взбита, в изголовье – репродукция с картины Джованни Беллини «Мадонна с младенцем». Над постелью же висела затейливая самодельная полочка, тесно заставленная книгами.
Я уставилась вопросительно на Салмина, пившего с блюдца душистый, обжигающий губы чай, и он кивнул утвердительно:
– Его угол!.. А вы медком, медком сотовым побалуйтесь. Он у нас свой, не купленный. Пять ульев в бригаде. Угощайтесь на здоровье!
Уже после чая подошла я к подвесной полочке. И была поражена разнообразным названием книг. Вот запись из моего дорожного блокнота: «Анатомия», «Минералогия», «Вторая древнейшая профессия» Роберта Сильвестра, однотомники Пушкина и Лескова, «Календарь природы», «Высшая математика», «Архитектурные памятники русского Севера»… Пожалуй, хватит и этих перечислений.
Повернувшись к Салмину, все еще попивавшему чаек, я спросила, не теряя еще надежды:
– А фотографии Дмитрия… нет у вас под рукой?
Илларион Касьянович покачал головой.
– Ни одной не видел. Прежние он не держит, а в теперешнем своем виде… не снимается.
Вдруг спохватившись, Салмин добавил:
– Эта Татьянка… она по секрету показала мне карточку Димы, когда он в восьмой ходил. Приятственный такой парнишечка. Завлекательной внешности для девушек!
Крякнув, Илларион Касьянович взял со спинки самодельного стула полотенце и старательно вытер лицо, шею.
В четыре часа хозяин зимовья проводил меня до тишайшего лесного озерка. А уж от него рукой было подать до табора лесосплавщиков.
Говорливый дед в войлочной шляпе все еще терпеливо, будто петух на нашесте, восседавший на лавочке под ветлой, встретил меня, как родную.
В шесть мы выехали в Богородск на пятитонке, направлявшейся за продуктами.
И везет же мне в последнее время!
Вскоре после возвращения из командировки на лесосплав я получила отпуск. И решила, недолго думая, провести его в путешествии по Каме и Волге. Последние дни мая стояли холодные и дождливые, и на пристани в Перми я свободно купила билет на теплоход, идущий до Астрахани и обратно. У меня одноместная каюта первого класса. Можно ли пожелать себе чего-либо лучшего?
Чуть ли не целыми днями бродила по палубе, любуясь Камой, ее лесистыми берегами, горными кряжами. Камские горы напоминали мне родные Жигули.
Изредка моросило. Откуда-то сверху разъяренным коршуном падал на палубу сырой, прямо-таки октябрьский ветер. Но я не боялась непогоды. Кама была по-своему красива и в эти сумрачные дни.
Лишь в сильный дождь, когда даже на палубе негде было укрыться от студеного косохлеста, я шла в каюту и, устроившись у окна, читала.
Тихо. Тепло. Оторвешься на миг-другой от книги, посмотришь на пегую, вскосмаченную Каму, на еле проступающие за дымкой дождя смутно-синие, точно суровое видение, нелюдимые взгорья, бесконечно чуждые всему живому, и так отрадно станет на душе, что даже… даже всплакнуть захочется. Честное комсомольское!
После Тетюш стало больше солнечных дней.
Вчера записала в свой дорожный блокнот:
«В полнеба полыхает тревожно закат. Барашки, бегущие навстречу пароходу, в косых лучах солнца кажутся золотыми слитками».
В тот же вечер, но позднее, еще нацарапала:
«Черная Волга, и белые ленты пенных волн».
А нынче прочла эти свои каракули и перечеркнула их крест-накрест. Наверно, мне надо бы не в редакции работать, а в школе преподавать русский и литературу. Хотя, откровенно говоря, не испытываю и к школе ни малейшего влечения. Неужели так всю жизнь и не найду себя?
Не хотелось брать в руки ни Голсуорси, ни любоваться пейзажами…
На одной убогой пристаньке горланили до самозабвения подвыпившие лохматые недоросли:
Ах, семечки каленые,
Огурцы соленые! Ах…
По палубе который уж день томно вышагивают две насурьмленные девицы, разочарованно и зло косясь на огрузневших пенсионеров, резавшихся в карты.
Как-то, проходя мимо меня, одна из этих расфуфыренных особ жеманно заметила:
– Я, знаете ли, обычно нравлюсь мужчинам с тонким художественным вкусом!
Оглянулась и чуть не прыснула. Девица, так высоко о себе мнившая, была выдра выдрой.
В Старый Посад мы приходили ночью, и я не стала беспокоить маму телеграммой, чтобы она приехала на пристань повидаться. Постараюсь встретиться с ней на обратном пути. Возможно, к тому времени я чуть-чуть загорю, чуть-чуть посвежею от целительного волжского воздуха, и мама не будет смотреть на свое неудачливое чадо чересчур грустными глазами. Ограничилась лишь тем, что опустила в пристанской почтовый ящик открыточку.
А потом чуть ли не до рассвета стояла на палубе и не спускала глаз с проплывавших мимо Жигулей. Они были по-своему пленительны даже ночью.
Под утро были в Самарске. Здесь теплоход стоял несколько часов, но я так и не поднялась с постели, не глянула даже в окно на город, в котором проучилась целых шесть лет.
Помню Горький с его древним кремлем и памятником Чкалову над головокружительным обрывом. В Казани была всего раз, студенткой, но до сих пор не без сердечного трепета вспоминаю университет – старейший в России, с такими строгими, внушительными колоннами. А трогательно экзотическая башня Саюмбеки на кремлевском холме, разве ее забудешь? Башню замечаешь еще с Волги, когда пароход, плавно разворачиваясь, направляется к дебаркадеру. Нравится мне и зеленый Саратов, и полуазиатская Астрахань, когда-то славившаяся обилием всякой рыбы. Лишь вот к Самарску, ничем не хуже других волжских городов, я совершенно равнодушна. Почему? И сама не знаю.
Поднялась рано. Стояла на самом носу теплохода и, щурясь, глядела на огненно-рубиновый диск солнца, выкатившийся из-за черных холмов. Пылало небо. Пылала спокойная гладь реки с ползущим над водой малиновым туманней.
Древней Русью повеяло на меня от этой величаво-суровой картины. Мнилось: выплывет сейчас лениво из-за сыпучих нехоженых песков купеческая расшива, а наперерез ей от горного берега устремятся легкие струги удалых молодцов.
Минутой-другой позже из-за белесой косы и на самом деле показалась… только не медлительная купеческая расшива, а быстроходная самоходка – большое сухогрузное судно, птицей летящее нам навстречу.
На нижней палубе теплохода какая-то старушка в белом платке, низко опущенном на лоб, умиленно пропела:
– И матушки мои, скороходка-то какая прыткая!
Узкоглазая девчушка-марийка с толстой косой вдоль спины, приткнувшаяся локоть в локоть к сухонькой этой старушке, весело сказала:
– Не скороходка, баба, а самоходка! Кольча наш… точь-в-точь на такой мотористом служит!
В Саратове случилось непредвиденное.
Расскажу обо всем по порядку. Теперь, спустя дня три, я немного успокоилась. И могу снова взяться за перо.
Итак, перед нами Саратов. Многие пассажиры собирались в город: одни знакомиться с достопримечательностями, другие что-то купить, третьи просто погулять бесцельно по центральным улицам. Для всего времени будет достаточно – по расписанию стоянка теплохода в Саратове пять часов!
Я тоже решила отправиться в город. Вначале хотела побывать в художественном музее, а потом навестить бывшую однокурсницу Нину Левину, работающую здесь в одной из средних школ.
Но перед самым подходом к дебаркадеру по судовому радио вдруг было объявлено, что из-за опоздания в пути стоянка сокращается до двух часов.
«Что же теперь делать? – спрашивала я себя, глядя на медленно приближающийся город, утопающий в молодой яркой зелени. – Есть ли смысл куда-то идти? Не лучше ли посидеть на палубе эти два часа с книгой?»
У дебаркадера стоял трехпалубный красавец «Космонавт Гагарин». К нему-то мы и причалили. Счастливчики с «Гагарина» гуляли, должно быть, по солнечному Саратову: палубы теплохода были безлюдны. Лишь резвушка лет четырех в белом платьице бегала вприскочку по второй палубе, оказавшейся как раз на уровне с нашей. Девочка держала за нитку воздушный шар, стремившийся во что бы то ни стало вырваться из ее рук.
С беспокойством подумала: «Где же родители? Так не долго и до беды… сорвется за борт – она вон какая шустрая!» И почему-то тотчас подумала о другом: «А ведь мне надо бы сойти на берег и починить босоножки».
И, встав с шезлонга, направилась к борту, чтобы спросить курносого матросика, протиравшего тряпицей перила, есть ли поблизости от пристани мастерская по ремонту обуви.
В этот-то миг пробегавшая по палубе «Гагарина» девочка в белом платьице упустила свой оранжевый, с переливами шар. Стремительно и косо шар полетел в сторону нашего теплохода.
Резвушка даже не успела ахнуть или закричать: «Мой шарик, мой шарик!», как он уже был у меня в руках. Это произошло совершенно случайно: я еще не дошла до сетчатого барьера, когда шарик налетел упруго на меня, и я схватила его за нитку.
Придя в себя, девочка заревела – голосисто, с прихлипываниями.
– Сейчас, крошка, принесу я тебе шарик, – сказала я. – Ну, не плачь, я сию минуту… Только стой на том же месте.
И поспешно пошла вниз. Когда я поднялась на палубу «Гагарина», пропахшего соленой рыбой (все пролеты внизу были заставлены огромными бочками), зареванная девочка, увидев меня, побежала навстречу, размахивая пухлыми ручонками.
– Держи крепче свой шарик, – говорила я, приседая на корточки перед светловолосой резвушкой. – И не упускай его больше.
Хлопая длинными мокрыми ресницами, она взяла не без радости ниточку, потянула к себе беспечно подпрыгивающий шар. И все смотрела и смотрела мне в глаза – серьезно-пресерьезно, словно взрослая.
– Рита, что же ты не благодаришь тетю? – сказал кто-то позади меня.
Почему-то вздрогнув, я проворно встала и оглянулась. Напротив меня стоял, улыбаясь смущенно, высокий молодой мужчина с фотоаппаратом в руках.
Видимо, я побледнела или пошатнулась – откуда мне знать? – только он, быстро шагнув, взял меня под локоть. И участливо спросил:
– Вам плохо?.. Присядьте вот на лавку.
Я села, прислонилась спиной к стене. Закрыла глаза. Подумала: «Боже, какая встреча! Только, наверно, в романах… по произволу авторов… могут происходить такие ошеломляющие встречи».
Пересиливая себя, сказала, все еще не размыкая ресниц:
– Благодарю вас. У меня голова… закружилась.
И еще подумала, прежде чем посмотреть на окружающий мир: «Он меня не узнал. Неужели я так безобразно подурнела?» А сердце стучало, стучало и стучало, мнилось, на всю Волгу.
Андрей, по-прежнему растерянно смущенный, стоял рядом, держа за руку присмиревшую дочь.
– Спасибо, – снова повторила я, пытаясь улыбнуться. – Уж все как будто прошло.
– Не проводить ли вас к врачу? – все так же участливо спросил он.
Я покачала головой. Огляделась боязливо по сторонам. Палуба по-прежнему была безлюдна, свинцово блестя недавно вымытыми полами.
«А где же его жена? – спросила я себя. – Или он только с дочкой?»
И вдруг – сама не знаю, откуда у меня взялась эта отчаянная храбрость, – сказала:
– Извините, возможно, я обозналась. Но мне показалось, будто где-то и когда-то… мы с вами встречались?
Дико как-то, чуть ли не с испугом глянул Андрей мне в лицо, отвел взгляд и снова уставился мне в глаза.
Я заметила: у него задрожали слегка вывернутые губы, все такие же яркие, как и в те – мальчишеские – годы. Наконец он с трудом прошептал:
– Зоя?.. Ты?
И уж громко и радостно (или мне почудилось?):
– Зойка Иванова! Ну и ну, встреча! А я тебя… сразу и не узнал.
Присел передо мной, взял мои ледяные, как бы совсем неживые, руки в свои большие, большие и горячие… Казалось, Андрей весь пропах волжским зноем и скошенной травой.
Наш теплоход простоял у борта «Гагарина», идущего вверх до Москвы, не два, а три часа. И все три часа эти промелькнули для меня, как три секунды.
Мы сидели с Андреем на лавочке и говорили, и говорили. Вспомнили и Старый Посад, и школьные годы, и наших ребят и девчат. Андрей сказал, что месяц назад Максим Брусянцев телеграммой приглашал его в родной город на свадьбу. Женился Максим на Маше Гороховой – была у нас в классе такая неприметная тихоня. Я же в свою очередь рассказала о Липковиче-Тамарове, неожиданно объявившемся у нас в Богородске. Вот уж хохотал Андрей! У него даже нос покраснел. Нос у Андрюхи и раньше, бывало, краснел, когда он или смущался, или ржал до упаду.
Уснула Рита, положив доверчиво свою курчавую головку мне на колени. И вот тут-то Андрей, ссутулившись и помрачнев, вдруг открыл мне свою душу, поведав о горе, свалившемся на него нежданно-негаданно.
– Заявляюсь с работы домой, а на столе записка, – говорил он тяжело и глухо, теребя между пальцами скрипучий ремешок от фотоаппарата. – Я эту ее записку наизусть выучил: «Уезжаю с другим. Не ищи. Я тебя никогда не любила, не люблю и дочь. Не люблю потому, что она от тебя. Можешь отдать ее в детдом и быть свободным. Мне она не нужна. Алевтина».
Андрей умолк. Я тоже молчала, не зная, что говорить. Да и надо ли было что-то говорить?
– Взял отпуск. К матери под Ульяновск еду, – помолчав, сказал Андрей все тем же глухим, не своим голосом. – Она… она не хотела, чтобы мама жила с нами. И мама все эти годы у сестры в совхозе… Везу Ритку туда. Мне ведь… мужское ли это дело хозяйство одному вести, о дочери беспокоиться? За ней глаз да глаз нужен! А мама рада будет, она любит внучку. До осени пусть живет там, а потом…
И он снова замолчал.
По моим щекам текли слезы. И думала я лишь о том, чтобы Андрей не заметил глупые эти слезы старой девы. Но он заметил. Вдруг покосившись в мою сторону, Андрей растерянно пробормотал:
– Ты… Что это? А?
И, достав из кармана платок, принялся неумело как-то вытирать мне глаза. Я сказала через силу:
– Оставь, не надо. Я сама…
Когда над нашим теплоходом раздался басовито второй уже гудок, я отнесла Риту в каюту Андрея. Мне было приятно прижимать к себе это живое существо, такое сейчас беспомощное, такое послушное. Положив спящую девочку на диван, поцеловала ее с волнением в полуоткрытые губы. Мне казалось, я целую Андрея.
Он проводил меня до сходней, переброшенных с одного борта теплохода на другой. Бежали, перегоняя друг друга, опаздывающие пассажиры. А курносый матросик торопил:
– Пра-аворпее! Пра-аворнее! Мостки убираем!
– Будь здоров, Андрей! – торопясь на свое судно, сказала я скороговоркой и шагнула к мосткам.
Но он поймал меня за руку и в этой шумной толчее, на глазах у посторонних людей, привлек к себе.
– Дай я тебя поцелую, старушка, – сказал он. И поцеловал меня в губы. Поцеловал крепко-крепко.
Астрахань встретила нас азиатской жарищей. Даже плавился жирный, как черная икра, асфальт на тротуарах.
Посасывая брикетик мороженого, я поплелась на почтамт по душным улицам без признаков тени. Я надеялась получить письма.
На глухой стене одного старого обшарпанного дома, неподалеку от почтамта, висел огромный щит-объявление. Я даже остановилась, чтобы его прочитать:
«Астраханский рыбокомбинат выпускает разнообразную продукцию из рыб осетровых пород: икру зернистую, икру паюсную, икру пастеризованную, расфасованную в удобную мелкую тару, балыки осетровые, балыки белужьи, балыки севрюжьи.
Вкусно! Питательно! Покупайте!»
На почтамте, в окошечке «До востребования», меня и на самом деле ждали письма. Целых три.
Одно из писем было от брата Сережи, служившего на флоте, другое от мамы, а третье из Богородска от Комарова.
В письме Евгения Михайловича столько было новостей! Наш старик Пал Палыч собирается уходить на пенсию. Совершенно неожиданно уволилась Стекольникова. Она уехала в Казань к больной матери. С матерью случился удар, когда арестовали отца, замешанного в крупных махинациях с мехами. По предположению Евгения Михайловича последние дни сидит в райкоме и Владислав Юрьевич – муж Стекольниковой.
Из Ярославля от керамиста Гохи получена посылка с новыми образцами плиток.
«Не плитки – одно загляденье! – восторгался Женя. – Вам отложил парочку – самых колоритных».
В конце письма Комаров сообщал о том, что наш молодой литератор Дмитрий прислал в редакцию новый рассказ.
«Этот рассказ, полагаю, не отказались бы опубликовать даже столичные журналы, – писал Евгений Михайлович. – К вашему возвращению мы напечатаем новое произведение Димы. Уверен – у этого парня большое литературное будущее. «Честное комсомольское» – как вы говорите».
В Богородск я возвратилась в конце июня поездом, всего лишь за день до окончания отпуска. И сама себе удивилась: мне казалось, я возвращаюсь в близкие сердцу места, ставшие мне как бы второй родиной. Мне не терпелось подняться в свою тихую светелку, отправиться в редакцию, где так приятно пахнет типографской краской и сигаретами «Дымок», которые беспрерывно курит Маргариткин, увидеть улыбчивого Евгения Михайловича.
В моем столь позднем возвращении в Богородск виновата была мама. Это по ее настойчивой просьбе сошла я с теплохода в Старом Посаде. А свою каюту уступила молодой женщине с мальчиком, знакомой родителей, отправляющейся как раз в Пермь. (Все мама подстроила!)
Дома прожила неделю. Родители были на редкость заботливы и внимательны ко мне. И я не жалела, что мне пришлось добираться до Богородска поездом, да еще с пересадкой.
Ксения Филипповна долго меня обнимала, долго целовала. И даже всплакнула. А потом дала телеграмму.
– Ра-ано поутру принесли сегодня, – сказала хозяйка квартиры. – Читай скорее, касатка. Дай бог, чтобы без неприятностей была. Я ужасть как боюсь этих телеграмм!
Телеграмма была от Андрея. Вот она:
«Выезжаю Ритой Андрей».
Сначала я ничего не поняла. Перечитала телеграмму раз, потом еще раз… и лишь тогда до меня дошло: Андрей, мой Андрей едет в Богородск! Едет ко мне!
И, точно испугавшись чего-то, снова поднесла к увлажнившимся глазам этот будничный серый листок бумаги:
«Выезжаю Ритой Андрей».
Ксения Филипповна тормошила меня за плечо, о чем-то спрашивала, а я не могла вымолвить и слова.







