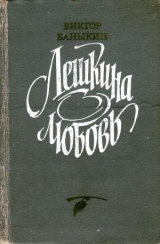
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Бабушка Фиса слегка поворчала. Поворчала больше по старческой привычке, подавая шатущему внуку кружку козьего молока и горбуху ржаного хлеба, когда он в сумерках, крадучись, заявился домой.
Благоразумно помалкивая, Женька в два счета расправился с едой и, чмокнув бабушку в дряблую обвисшую щеку, побежал во двор. В это лето отвоевал он себе право спать на сеновале. Сараишко стоял в конце двора, на грани приусадебного участка.
Заслышав Женькины шаги, заблеяла тоненько Милка, тычась рогами в дверь.
– Не балуй! – строго сказал Женька. Чуть приоткрыв дверь, сунул Милке хлебную корку.
Как бы благодаря хозяина за лакомое угощение, коза помотала белой, клинышком, бородой.
– Сластена! – теперь уж добродушнее пробурчал Женька, запирая дверь на засов.
По крутой лесенке поднявшись на сеновал, он ползком добрался до постели. И, недолго раздумывая, укрылся с головой дубленой шубой, попахивающей самую малость квасной кислиночкой.
Уснул Женька сразу же, едва коснулся головой жесткой подушки. Сновидения беспокоили его не часто, ночь пролетела точно один миг, и каждое утро бабушке Фисе стоило большого труда докричаться до Женьки.
Случалось, выйдя из себя, она поднимала с земли чурку или старую калошу – что попадется под руку – и бросала в дранковую крышу сарая.
– Христос милосердный! – призывала старая на помощь бога. – И за какие грехи наказал ты меня таким лежебоким внуком!
Но в это утро Женьку разбудила не бабушка Фиса, а молодой котишка Дымок, вернувшийся после ночного бродяжничества. Дымок подлез под шубу и, преданно мурлыча, принялся старательно лизать Женьке подбородок.
– А ну тебя, Саньк! – забормотал Женька. – Я не хочу с тобой целоваться! Отстань же, кому говорю!
Тут Женька очнулся. Сбросив с головы полу жаркой шубы, он увидел, к своему удивлению, пушистого шельмеца, щурящего умильно огненно-зеленые глазищи.
– У-у, бессовестный! – заворчал Женька, отталкивая от себя кота. – Нет, чтобы в ногах пристроиться, он лизаться лезет!
Смущенный Дымок попятился, юркнул под шубу. Немного погодя он и на самом деле покорно свернулся клубком в ногах у хозяина.
А Женька, подложив руки под белесую свою голову, принялся глядеть на струившийся сквозь дырявую крышу веселый солнечный лучик.
«И приснилось же такое: будто Санька Жадин с мировой ко мне лез, – подумал Женька. – Да только дудки – я с этим коварным пройдохой мириться не буду. Ни за какие монеты! Он теперь будет знать как задираться. – Крупные Женькины губы растянулись в улыбке до самых ушей. – И трусливые Санькины приятели хвосты подожмут. Ну, а если еще сунутся, за меня Серега заступится. Шофер вон какой здоровущий. Мускулы на руках горой из-под кожи выпирают. Увидел корягу у берега – илом и песком ее позанесло… увидел Серега коряжищу, поднатужился и как рванет ее из воды! А потом над головой поднял – в коряге, поди, пудиков десять было – и на берег выбросил. Вот он какой, Серега! Он как даст, как даст… целый полк Санек в Усе утопит! Ему это все равно что раз плюнуть. – Женька снова заулыбался. – После купания вчера Серега со мной за руку прощался. На той неделе уговорились смотаться рыбалить с ночевкой. На Гаврилову косу. Чай, дед Фома одолжит лодку, не пожадничает».
Женька почесал искусанную комарами шею (вот, вредные, неужто они под шубу ночью забрались?). Потом повернулся на бок, лягнув нечаянно ногой Дымка, недовольно мяукнувшего.
– Я тебя, нежное создание! – огрызнулся Женька на кота. Потянулся было, чтобы схватить Дымка за жирный загривок, да напала лень.
Неподалеку от подушки, по вздыбившейся торчком травинке, ползла вверх божья коровка. Взгромоздившись на самую макушку хрупкого стебля, божья коровка приподняла красные в черных точках лакированные надкрылья, собираясь куда-то лететь.
«Обожди! – попросил Женька букашку. – Куда торопишься, утро только начинается».
И крохотная эта букашка послушалась мальчишку – не улетела. Сложив яркие свои надкрылья, она замерла на макушке стебля, поводя туда-сюда еле приметными усиками-антеннами.
«Надо же! – подивился Женька. – Малая козявка, а на тебе – соображает! Мозгов нет, а соображает! А вот если б у человека вынули из головы мозги, как он? Обошелся бы без них? Когда бабушка серчает, она меня все так корит: «Эх ты, безмозглая твоя головушка! О чем ты думал?»
Тут Женька вспомнил, что вчера привезли из соседнего совхоза старые рваные мешки в починку и сегодня бабушка собиралась их стирать. Хотя совхозное начальство и скупилось, платя гривенник за выстиранный и залатанный мешок, а что оставалось делать? Сам он, Женька, и копейки еще не зарабатывал, а пенсию от колхоза бабушка получала мизерную – всего-навсего десятку. На десятку в месяц разве двоим прожить?
«Хватит валять дурака, пора вставать да воду из колодца чалить, – упрекнул себя Женька. – Эти проклятущие мешки до того всегда грязны, на них водищи не напасешься. Ведер пятьдесят, а то и больше уйдет!»
Он рывком отбросил в сторону шубу, перекувыркнулся через голову раза три на мягко пружинившем сене, распугав всех витютней, мирно ворковавших под застрехой.
На землю Женька спустился в один миг. Так же в миг он проскакал на одной ноге и расстояние от сарая до избы.
Бабушка Фиса возилась у печки, разжигая лучинку для самовара. Рядом с прозеленевшим от времени бокастым самоваром валялась плетушка, а вокруг сосновые шишки.
– Доброе утро, ба! – пробормотал скороговоркой Женька. Присел на корточки и принялся собирать рассыпанные по полу крупные ощерившиеся шишки.
– Ай, яй, яй! – протянула удивленно старая. – На чем же нам зарубку сделать? На матице, что ли?
– Какую зарубку? – ничего не понял Женька.
– Да как же! – продолжала напевно, с улыбкой, бабушка. – В кои-то веки золотой-перламутровый мой внучек сам встать соизволил. И звать-будить не пришлось!
– Ладно тебе, ба, причитать, как по покойнику, – поморщился Женька, не поднимая головы.
– А похороны-то, слышь-ко, не за горами были, – сказала старая, отходя к окну. Самовар теперь весело гудел от занявшихся дружно в его нутре светлым пламенем сухих смолких шишек. – Люди сказывают, еще бы один секунд промедления, и от твоего кормильца, Анфиса Андревна, ничего бы не осталось и в помине.
Пригорюнилась, печально завздыхала.
Страшась бабушкиных слез – у нее теперь глаза частенько на мокром месте были, – Женька с досадой проговорил:
– Ни свет ни заря, а уж набухвостил тебе кто-то! Слушай всех, набрешут всякое… целый воз и маленькую тележку!
Бабушка махнула сухонькой рукой, отвернулась.
А Женька, чтобы увильнуть от неприятного разговора, сунув в подпечек корзину с шишками, воровато выскользнул в дверь. Из сеней он прокричал:
– Ба, пока самовар, то да се, пойду воды в бочку потаскаю!
«Кто натрезвонил старой? Кто? – возмущенно гадал Женька, направляясь с бренчащими ведрами к колодцу в конце улицы. – Кроме Саньки и его шатии… кому же еще? Они, наверно, раззвонили по всей Ермаковке. Да еще приукрасили!»
Было бы удобнее и легче носить ведра с водой на коромысле. Об этом Женьке и бабушка Фиса не раз говорила. Но он и слушать не хотел.
– Не мужское дело с разными коромысликами вожжаться! – кривил он губы. – Пусть девчонки… им сподручнее!
До завтрака Женька вылил в бочку, стоявшую позади избы, у куста радостно-улыбчивой калины, ведер двенадцать. А когда заглянул в ее сумрачное нутро, дышащее в лицо старым замокшим дубом, то чуть не ахнул от огорчения.
– Ну и утроба! – присвистнул Женька, вытирая липкую испарину со лба. – До самого вечера таскать мне не перетаскать!
После завтрака на скорую руку он снова отправился к колодцу с огромным скрипуче-визгливым колесом. На лужайке перед своим домом играли в «ножички» братья Хопровы.
– А такое, Миня, видел? А? – азартно выкрикнул Гринька.
И с ловкостью циркача, картинно приставив перочинный нож острием к подбородку, бросил его так, что тот, перевернувшись в воздухе, воткнулся в землю чуть ли не до половины блестящего лезвия.
Если б года два назад, а может, и все три Гринька не съерашился с осокоря на Усе, отделавшись легкими ушибами и глубокой ссадиной на виске, протянувшейся бруснично-пунцовым ремешком наискосок от грязно-пегих жестких волос к надбровью, братьев Хопровых было бы нелегко отличить друг от друга не только посторонним, но даже и матери. Оба лобастые. Оба беловекие. Оба приземистые крепыши одного роста.
Поравнявшись с братьями, Женька отвернулся. Возвращаясь от колодца с полными ведрами воды – холодно-прозрачной, прямо-таки родниковой, – он старался идти по самой середине просторной улицы и тоже не смотрел на Хопровых. Куры, зарывшись в дорожную пыль, блаженно квохтали, нисколечко не боясь проходившего рядом Женьки.
Когда Женька опять направился к колодцу, Минька и Гринька уже затеяли борьбу. Наскакивая друг на друга, как драчливые перволетки-кочетки, они подзадоривали себя:
– Слабоват, брат!
– Нет, это ты, Гринь, мало каши ел!
– Вот положу на обе лопатки…
– А… а такое видел?
Хопровы прыгали на самой дороге, поднимая облака удушливо-теплой пыли. Куры, громко негодуя, разбегались в разные стороны.
«Хряки краснорожие!» – выругался про себя Женька, обходя братьев.
Вдруг Минька, увернувшись от Гриньки, отскочил в сторону и чуть не вышиб из рук Женьки ведро.
Не успел Женька огрызнуться, как Гринька, щерясь в улыбке, сказал так, будто они и не были вчера врагами:
– Женьк, глянь-ка на Миньку! Крепко ему Санька вдарил? Кулаком под самый глаз!
Женька намеревался пройти мимо, но мстительное любопытство взяло верх, и он поднял от земли взгляд.
Под левым глазом у Миньки и правда красовался багровым тавром здоровенный синяк.
– Это вчера его Санька, когда мы со стройки домой вертались, – продолжал словоохотливо Гринька. – Я, говорит, Минь, так пламенно в тебя втрескался…
– Хватит накручивать, вруша! – перебил брата Минька. – Он тебя собирался по морде съездить, да я заступился.
– Заступи-ился! Влепил тебе дулю, ты и сиганул взлягошки!
– Из-за чего не поладили с Санькой? – вырвалось у Женьки как-то помимо воли.
Гринька замялся, прикидывая, стоит ли говорить правду, а Минька, не умея скрытничать, выпалил без утайки:
– Санька обещал новый крючок с блесной, если мы пойдем с ним и Петькой…
– Меня бить, да? – подсказал Женька. Кивну», Минька продолжал:
– А когда ты съерашился в котлован, а мы бросились назад… Ну, идем, значит, в Ермаковку, я и говорю Саньке: «Давай обещанный крючок с блесной». А тот кукиш показывает: «А этого не хочешь? За какое геройство я вам крючок с блесной выложу?»
Женька усмехнулся:
– Не зря сказал я вечор на Усе, что вы продались Саньке!
Взмахнув пустыми ведрами, он собрался уходить, но тут его поймал за руку Гринька:
– Мы теперь с этим Жадиным не водимся.
– В жизни не будем водиться! – подтвердил и Минька. – А знаешь, Женьк, на заливном огороде у нас… Знаешь, что мы нашли?
Минька сделал большие глаза.
– Ну? – поторопил Женька.
Перебивая друг друга, братья заговорили оба сразу:
– Нору!
– Крысиную пору!
– Водяной крысы. Хочешь, вместе пойдем выливать?
– Ее, длиннохвостую, расшибись, а надо поймать. А то, тятя говорит, спасенья никакого не будет от потравы.
– Тоже мне невидаль – крыса! – как можно равнодушнее протянул плутоватый Женька, хотя предложение братьев Хопровых было куда заманчивее его скучной однообразной работы.
– Такой крысы – лопни мои глаза – ты не видел! – убежденно выпалил Гринька. – Отверстие норы во-о какое. Прямо вроде барсучьего.
– Махнем, Женька? Втроем мы с крысой в момент расправимся, – не отставал и Минька. – А потом в разбойников будем играть.
– Не-е, лучше в индейцев, – возразил брату Гринька. – У нас и луки со стрелами спрятаны в тайнике. И перья петушиные. Мы их в волосы натычем и сделаемся всамделишными индейцами.
Женька раздумчиво почесал затылок. И все с тем же притворным безразличием сказал:
– Ей-ей, что-то нет охоты.
Чуть помолчав, прибавил, кивая на ведра:
– Да и время не подходящее. Воды бочку – тресни, а натаскай. Бабушка стирку затеяла.
Братья переглянулись. И снова дружно выпалили:
– А у нас ведер нет? Чай, подмогнем!
– Мы мигом! Сбегаем за ведрами, и мигом натаскаем твою бочку!
Женька намеревался отказаться от помощи братьев Хопровых, но не успел и слова вымолвить.
Минька и Гринька, обгоняя друг друга, рысью помчались к себе во двор.
IVВ одной руке у Сереги бутерброд с колбасой, в другой – эмалированная кружка с чаем, а на коленях толстая растрепанная книга. Книгу эту без начала и конца он выпросил у бетонщика Кислова. И вот уже который вечер зачитывался описанием рискованных похождений отважных, никогда не унывающих мушкетеров.
Напротив Сереги за шатким столишком ужинал не спеша, основательно степенный Анисим. Прикончив миску вареной в мундире картошки, он аппетитно тянул теперь из такой же, как у Сереги, кружки крутой кипяток, изредка бросая в рот стеклянные карамельки-подушечки. Обжигался, фыркал, жмуря блаженно васильковые, не омраченные невзгодами глаза.
– Серега, – уже в третий раз окликнул Анисим товарища по комнате, – у тебя, чумной, закрайницы ледяные в кружке наросли!
Но Серега и ухом не повел.
– Почаевничал бы со смаком, а потом баловался бы книжкой, – ворчал осуждающе Анисим, отрезая от папошника внушительный ломоть. – Ни малейшего проку организму человеческой личности от этой рассеянной еды. Напрасный перевод пищи.
Бетонщик Кислов, отдыхавший на койке после ужина – он раньше других вылез из-за стола, – спросил Анисима, приставляя ладонь к уху: – Чего ты все долдонишь?
– Лежи себе, глухарь! – отмахнулся Анисим от Кислова. Отпив из кружки, продолжал все так же рассудительно: – А по мне эти книги… какая от них конкретная польза? Никакой! Газеты там – туда-сюда. В газетине про всякие новости мирового кругосветного масштаба можно прочесть. Или происшествия. Да только не часто происшествиями нас балуют.
Анисим вновь наполнил кипятком кружку, вытер полотенцем отрочески малиновое – колесом – лицо. И лишь собрался спросить Кислова, много ли у того в объемистом чемодане еще всяких романов, как дверь резко распахнулась и на пороге появился Урюпкин – черномазый дикоглазый красавец с нервными тонкими губами.
– Там грамотея нашего спрашивают, – сказал он зычно, презрительно ухмыляясь.
– Кого надо? – переспросил Кислов.
– Па-авторяю: ученого мужа… какой-то пащенок вызывает!
Анисим подошел к койке Сереги, потряс его за плечо. Серега поднял на Анисима глаза – всегда грустновато-тихие, затененные пушистыми ресницами.
– К тебе кто-то пришел, – сказал Анисим.
Положив на кровать книгу, а кружку сунув на стол, Серега, дожевывая бутерброд на ходу, направился к двери, не замечая кривляний Урюпкина, отдающего ему честь.
По узкому коридору, полутемному даже днем, шофер шагал по-солдатски размашисто.
На лавочке у входа сидел, болтая грязными босыми ногами, Женька. Завидев показавшегося в дверном проеме Серегу, он спрыгнул на землю и сказал, сказал не бойко, но и не боязливо:
– Здрасте!
Женька обещался забежать в общежитие к шоферу к концу недели, а вот нате вам – прискакал раньше.
– Привет, – кивнул Серега, хмуря слегка брови, – больше от смущения и радости: нашлась же на свете хоть одна живая душа, которой он стал нужен!
– Я… я не помешал? – тоже тушуясь вдруг, проговорил с запинкой Женька.
– Не-е, – протянул Серега. И спросил ни с того ни с сего: – Есть хочешь?
Пунцовея, Женька решительно затряс головой.
– Я показать что-то тебе хочу.
– Тогда пошли в нашу халупу.
Женька вновь мотнул головой.
– Лучше… пойдем куда-нибудь.
Помешкав чуть, Серега сказал:
– Обожди тогда минутку. Я сейчас.
И скрылся в дверях. Женьке слышно было, как тяжелый на ногу Серега шлепал по хлябающим половицам сумрачного коридора.
Когда немного погодя Серега вышел из барака с газетным свертком в руке, они, не сговариваясь, зашагали по пыльной, разбитой грузовиками дороге. Барак этот, на скорую руку сооруженный под общежитие для строителей, стоял при дороге – между Ермаковкой и возводимыми корпусами санатория.
Вначале и Серега, и Женька чувствовали себя как-то неловко. После происшествия в котловане это была всего-навсего вторая в их жизни встреча – взрослого и мальчишки, совсем еще недавно даже не подозревавших о существовании друг друга.
Первым нарушил смущающее молчание Женька. Легонько потянув Серегу за рукав клетчатой рубашки, он сказал:
– Пойдем лучше через Галкин колок. А то по дороге скучно как-то.
– А куда? – спросил шофер.
– Махнем давай… знаешь куда? К Ермакову ерику. Там Уса не такая, как тут.
Оживляясь, Женька сбежал с дороги на худосочный пропыленный мятлик.
– Я тебе сейчас дуб старый покажу. Его молния обожгла. А на вершинке гнездо коршуна. Да вот как санаторий тут заладили, коршун бросил гнездо. Наверно, в горы подался.
– А почему лесок Галкиным прозывается? – поинтересовался Серега.
У Женьки смешно наморщилась переносица. Сбросив со лба сивую прядку, обгоревшую на благодатно жарком волжском солнышке, он небрежно так зачастил:
– Девка одна в Ермаковке была… Галина. Заневестилась, и уж, кажись, даже просватали ее за усольского избача, да война тут грянула. Погиб на фронте Галкин жених, а она после того заговариваться стала. А потом совсем умственности лишилась. Все по этому колку ночами плутала, и его, своего Валерку, звала. Потому как они оба здесь раньше миловались… Так сердобольные бабы нашинские судачат.
И сразу же, без перехода, Женька весело выпалил:
– Ястребок! Гляди, гляди, как он за вороной истребителем мчится. Да вправо смотри, куда ты уставился?
К березовому колку летела всклокоченная обезумевшая ворона, отчаянно махая крыльями, а ей наперерез стремительно неслась большая светло-бурая птица.
Серега и Женька остановились, следя за исходом неравного поединка.
Казалось, миг, еще миг, и острые сильные когти ястреба вонзятся хищно в свою добычу.
И вдруг случилось непредвиденное. Ворона нырнула в стоявший на опушке ветхий шалашик с прочерневшей соломой. А ястребок, распустив упругие свои крылья, с той же стремительностью пропарил совсем низко над шалашом.
Тут Серега, придя в себя, схватил из-под ног гладкий увесистый голыш. И, разбежавшись, запустил его в ястреба.
– Я тебя, бандюга!
Хищник невозмутимо и царственно взмыл ввысь, нестерпимо поблескивая в лучах солнца кипенно-белыми подкрыльями.
– Ну и хитрущая! Даром что ворона! Оставила с носом ястреба! – засмеялся от души Женька, глядя из-под руки на величаво парившую в поднебесье одинокую птицу.
А потом, спохватившись, поддернул штаны и припустился бегом к унылому шалашику. Но пока Женька бежал к опушке, ворона, придя в себя, вылетела из шалаша и скрылась в березняке.
Поджидая шагавшего к нему Серегу, любопытный Женька не поленился заглянуть в заброшенный шалаш с нависшей над лазом ломкой серой соломой.
Не обнаружив в шалаше ничего мало-мальски примечательного, он подхватил валявшийся рядом тонкий гибкий прут. Вообразив себя гарцующим на горячем скакуне чапаевцем, Женька принялся размахивать направо и налево острой своей «сабелькой», поражая насмерть ненавистного «врага».
Не часто в последнее время у Женьки было такое приподнято-резвое настроение, когда даже сам не знаешь, чего тебе хочется! Парить ли вольной птицей в беспредельно голубом небесном океане? Или нестись на быстрой «Ракете» по Усе и Волге? А может, прижать к своей груди и кудрявый, звенящий от солнечных бликов березовый колок, и синеющие на той стороне Жигулевские горы, и родную Ермаковку, где ему, Женьке, неумолимая судьба взвалила на неокрепшие еще плечи непомерно тяжкие испытания?
– И от тебя улизнула пройдохистая ворона? – улыбнулся, подходя к Женьке, Серега.
– А ну, прямо! – Женька пренебрежительно мотнул головой, и как-то нечаянно, совсем незаметно для себя взял шофера за руку. Два-три года назад он до слез завидовал своим сверстникам, шагавшим по Ермаковке рука об руку с отцами. – Я тебе сейчас… верно-наверно… такое покажу! – добавил Женька, увлекая за собой шофера.
– Ну, покажи! – опять улыбнулся Серега, добрея сердцем. Брести с этим непоседливым, говорливым мальчишкой, сжимать в своей огрубелой пятерне его руку – такую до смешного малую – было на диво легко и весело.
И вот они в Галкином колке, насквозь просвеченном совсем уже низким и совсем уже кроваво-кумачовым солнцем. Шагали и шагали между призадумавшимися к ночи березками, минуя пригорки и буераки, тучные от цветов и трав, кое-где доходивших Сереге до пояса.
На другом конце колка, в сухом вечернем тепле, колдовала загадочно и печально вечная бездомница кукушка, а в сыролесье комариного овражка пробовал сладчайший свой голос соловей.
Пока брели до Ермакова ерика, Женька показал Сереге не только одряхлевший дуб, когда-то опаленный безжалостной молнией, с грустно чернеющим на его вершине никому-то не нужным теперь гнездом грозного коршуна, но и хомякову нору под корнем пошатнувшегося осокоря, и грибную полянку, где в середине лета можно насобирать целую плетушку крепеньких маслят. Не забыл Женька подвести Серегу и к зарослям дикой малины, обдавших их дурманяще-медовым духом.
– Этой ягоды тут каждый год… ешь не хочу! – говорил с жаром Женька, стараясь как можно с лучшей стороны показать приезжему свои родные места. – А на Гавриловой косе… на Гавриловой косе ежевики тьма родится. Сам увидишь, когда рыбалить отправимся.
В одном месте над тропкой дугой нависла тонюсенькая березка.
– Здорово согнулась? – сказал Женька. – А ежели туда вон в сторону податься… к такой же осинке выйдем.
– Отчего они гнутся? – спросил шофер. – От снега?
Чуть помешкав, Женька смущенно, с улыбкой, промолвил:
– Бабушка так все говорит: лешата потешаются ночью. Ухватятся за макушку молодого деревца и раскачиваются в свое удовольствие! Что тебе на качелях!
– Какие лешата? – ничего не понял Серега.
Конфузясь еще больше и уже краснея, Женька пояснил:
– Детки лешего… или черта. Все по-разному называют рогатого.
Серега засмеялся:
– Ну, уж это она загнула, бабушка твоя!
– Старая, – примирительно вздохнул Женька. – Она и в бога и в черта верит. Вертятся космонавты вокруг шарика, а баба Фиса перед сном Николу-чудотворца на коленях просит даровать им благополучное возвращение на Землю. А когда молодые годы станет вспоминать, ну, скажем, про то, как к ней муж ее первый после смерти в глухую полночь прилетал, жуть даже берет.
– Галлюцинации у нее тогда были, – пояснил Серега.
– Ага, галлюцинации, – охотно согласился Женька.







