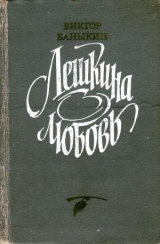
Текст книги "Лешкина любовь"
Автор книги: Виктор Баныкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Дрожащими пальцами Лешка развернул прозрачный, похрустывающий целлофан. Нет, вода не просочилась в этот надежный, бережно упакованный сверток. Ни одна капелька не просочилась, хотя сам Лешка вымок весь с головы до пят. И надо ж было такому случиться!
Оставалось полчаса до конца вахты, когда Лешка прошел на корму. Твердо шагал вдоль скользкого борта, облепленного шапками пены, по-хозяйски оглядываясь вокруг.
Сек сыпучий косой дождь, за бортом по-прежнему бесновались волны – маслянисто-черные вздыбленные валы. В кромешной сырой мгле не было видно ни берегов, ни покорно тянувшихся за судном барж. Лишь подслеповато мигали где-то далеко-далеко печальные огоньки на мачтах барж, ровно неприкаянные потерявшиеся звездочки.
На корме Лешка постоял, глядя на волочившуюся за бортом тяжелую, многовесельную лодку. Волны нещадно били ее, и она то виляла туда и сюда, то подпрыгивала на пенных гребнях, словно была резиновой. Звенела цепь, провисая и натягиваясь.
Не поленившись, Лешка нагнулся. Надежно ли привязана лодка? И в этот момент на Лешку ухнулся с первобытной мощью гривастый вал. Подмял под себя, сбил с ног, увлек в ревмя ревущую пропасть…
Из целлофановой обертки Лешка достал комсомольский билет и фотографию счастливого, сконфуженно лыбящегося дяди Славы в окружении своего семейства – жены Нины Сидоровны и двух препотешных пухлощеких карапузов. Посмотрел на фотографию, улыбнулся, сверкая голубоватыми белками. А потом как-то особенно осторожно раскрыл комсомольский билет. Вынул из него тонкий, вдвое сложенный конверт, уже изрядно поистершийся на сгибе.
Лешка помнил наизусть коротенькое письмецо, вложенное в этот дешевый серенький конверт.
Легкое как пушинка письмецо вручил Лешке в Брусках Михаил. Вручил в первый же день после возвращения Лешки из армии.
Они сидели в столь ненавистной когда-то Лешке закусочной «Верность» и тянули из тяжелых кружек холодное янтарное пиво. В этой халупе все было по-прежнему. И пахло все тем же: крепким табачищем, ржавой селедкой и кислым луком. Лишь за стойкой красовался уж не мордастый верзила Никишка, отбывавший где-то на Колыме тюремное заключение за темные воровские делишки, а пожилой бесцветный блондин с тонкими роговыми очками на таком же тонком хрящеватом носу.
– Поздравь, – осклабился Михаил, тыча себя в грудь пальцем, негнущимся, в мелких рубцеватых шрамах. – Студент первого курса строительного института… Хватит, брат, повалял дурачка. Пора и за ум браться!
Лешка посмотрел на приклеившиеся к толстым стенкам кружки прозрачные легкие пузырьки, потом перевел взгляд на поджарого, подтянутого Михаила. Смотрел и радовался от всего сердца за этого парня. Наконец-то непутевый Мишка нашел в жизни свою дорогу.
А когда вышли из халупы на свежий воздух, Михаил вручил Лешке блекло-серый шершавый конверт.
– Я нашел его на кровати под одеялом, – сказал Михаил, не глядя на Лешку. – Вечером в тот же день… в общем, после исчезновения из Солнечного Вари. Она уехала ото всех тайком, забрав с собой годовалую дочку. Уехала через неделю после тяжелого сердечного приступа. – Он помолчал. – Евгений, муж Вари… неплохой человек, скажу тебе. Любил Варю… понимаешь, любил по-своему преданно. Месяца три искал Евгений Варю… с ног сбился. – Вдруг Михаил сорвал с клена нежно алевший листик, смял его и бросил со злостью наотмашь. – Извини, не могу я об этом… Короче – ничего с тех пор не слышал про нашу Варяус.
И Михаил, не попрощавшись, свернул в какой-то глухой переулок с желтеющими степенными березами.
А Лешка побрел дальше, но не к дому дяди Славы, а по тропке, убегавшей к синеющему вдали сосняку.
На глухой травянистой поляне, окруженной задумавшимися перед дождем старыми елями, он устало опустился на свинцово-сизый, ободранный от коры пенек. Подставил лицо, горевшее испепеляющим жаром, под первые ленивые крапинки дождя. Этот дождь неохотно собирался весь день, и неизвестно еще было, разойдется ли он вовсю. Лешке хотелось, чтобы пролил ливень.
Долго, очень долго не решался Лешка распечатать Варино письмо, возможно, последнее в его жизни ее письмо. Но вот наконец вскрыт конверт, вот трепещущий листик лег на широкую ладонь.
«Леша! Милый мой Леша!
Когда с мучительной ясностью мне открылось, что люблю только тебя, одного тебя во всем мире… я стала принадлежать другому. От него родила и дочку. Прожила с ним год – крепясь и страдая. Я не хулю его, нет, Евгений меня любил. Возможно, не меньше, чем ты меня любил. Но изо дня в день я думала лишь о тебе, лишь тебя и желала. И вот уже иссякли все мои силы, я не могу больше переносить эту муку: лгать, притворяться, глядеть в глаза мужу, когда все мои помыслы устремлены к другому… Не сберегла я свою любовь, потому-то и наказана так жестоко.
Не ищи меня. Я не достойна твоей любви.
Варя».
На другое утро Лешка собрался в дорогу. Ни дядя Слава, ни сердобольная, отзывчивая Нина Сидоровна не могли уговорить Лешку пожить у них недельку-другую. Лешка покидал Бруски, сам не зная, надолго ли, покидал места, где вспыхнула его первая любовь, такая восхитительно радостная и такая невыносимо горькая, как полынь.
Он отправлялся в Солнечное, в тот расчудесный городок в Жигулевских горах, на берегу Волги, который они вместе с Варей начали строить на голом месте.
Лешка очнулся от задумчивости. Поглядел на конверт, все еще лежавший на затекшей ладони. Вздохнул.
«Зачем, ну зачем мне тогда так захотелось увидеть этого Евгения? Что бы еще прибавилось к моим страданиям? – спросил он себя. – Но я уже не застал в живых Евгения. Говорили: он тоже страдал, мучился… А за месяц до моего приезда погиб. Нелепой смертью. Взбесились пчелы на пасеке отца. Роями кидались на прохожих. И он, Евгений, оттолкнув от двери отца, преградившего ему путь на улицу, бросился на помощь исходившему криком соседскому малышу, своим телом прикрыл его от жалящих пчел. Мальчишку спас, а сам под утро, не приходя в сознание, скончался в больнице… Люди сказывали: на красивого, завидно красивого Евгения нельзя было смотреть без содрогания во время похорон. Так он был страшен: лицо, шея, руки – все распухло и посинело…»
Теперь, когда Лешка снова завертывал в шуршащий целлофан документы, пальцы его совсем не слушались. Положив сверток под пробковый пояс, он выключил свет, лег в постель. Знобило. Знобило всего с ног до головы. И поверх одеяла Лешка набросил на себя колючую, незаменимую солдатскую шинельку.
«Пройдет. Отосплюсь, и все пройдет, – успокоил себя Лешка. – Не зря же в душевой целый час пропарился. На этих буксирах баньки дай бог… прямо святилища!»
Плотно прикрыл глаза. Попытался ни о чем не думать, а воспоминания все наплывали и наплывали.
Два года мыкался по свету Лешка в поисках Вари. Целых два года. И все безуспешно.
Пять месяцев назад судьба забросила Лешку на Каспий. По дошедшим до него слухам Варя работала на строительстве консервного завода в одном из рыбачьих поселков. Белокаменный, чистенький поселок этот, пропахший малосольной селедкой, приткнулся к самому морю – блекло-сизому, с ленцой набегавшему на бесцветную песчаную косу. Но и здесь Лешка не встретил свою любимую. Зато столкнулся нос к носу как-то раз с Шомурадом, молодым казахом, строившим вместе с Лешкой и Варей городок нефтяников на Волге.
– Аман! Привет, друг Лешка! – обрадованно засмеялся Шомурад, раздувая широкие ноздри. – Совсем-совсем неожиданный встреча!
Казах и заронил в истерзанную Лешкину душеньку новую надежду. Шомурад клятвенно уверял, что он видел Варю, своими глазами видел на одной из улиц Красновишерска на Каме в начале зимы. Будто она шла вместе с Анфисой, той самой Анфисой, которая в Солнечном вышла замуж за молодого попика.
– Узнал сразу… тот и другой в спецовках были, – взахлеб говорил Шомурад, все еще не выпуская из своей оливково-смуглой руки руку Лешки. – Понимаешь, такие оба красивые. Закричал: «Здравствуйте, пожалуйста!» А они ка-ак сиганут в первый попавший ворота. Почему убежали? Думал-думал, с ума чуть не пропал, друг мой Лешка.
– Теперь-то уж непременно отыщу я мою Вареньку, – прошептал Лешка, поворачиваясь на бок, лицом к переборке.
А немного погодя, уже засыпая, со счастливой надеждой в душе, он вдруг ощутил ласковое касание чьей-то легкой прохладной руки. Рука эта ворошила его жесткие, спутанные волосы.
– Это ты? – спросил Лешка, чуть размыкая губы, думая, что ему начинает сниться сои. Варя часто навещала Лешку в его запутанных, тревожных снах.
– Ага, я, – веселым жарким полушепотом ответил кто-то в темноте. – Ну как, оклемался малость? Это крещение у тебя было почище дневного… Я чуть не обмерла от страха… вообразила: поминай теперь, кок парня звали. Кинула тебе спасательный круг, а сама молоньей на капитанский мостик. Несусь со всех ног и ору: «Остановите пароход! Остановите пароход! Человек за бортом!»
Лешка повернулся на спину. Широко открыл глаза. Со всех сторон обволакивала его густая, липкая темь.
– Пелагея… Это ты?
– Дурачок, ну я, ну кто же еще? – и рука, сейчас уже горячая и настойчивая, еще проворнее заскользила по дремучим Лешкиным вихрам. А вот и все Лешкино лицо обдало прерывистым, по-детски чистым дыханием… Пелагея поцеловала его нежно, в самые края губ.
И Лешкой внезапно овладела властная, исступленная сила, захлестнувшая рассудок. Не помня себя, он схватил за плечи Пелагею, примостившуюся на краешке койки, прижал ее к своей груди, ходившей ходуном.
– Пусти, пусти, лешак! – приглушенно застонала безвольная Пелагея. – Пусти, девушка я. Слышишь, девушка!
Ослабли Лешкины руки, словно они и не были только что железными.
– Уходи, – сказал с трудом, лязгая зубами.
– Куда же мне теперь? В омут головой? Я как увидела тебя… как увидела, так и умом лишилась. Это ведь я только с виду озорная.
– Женат я. – Лешка помолчал. – И ребенок есть. Еду вот к ним.
Не говоря больше ни худого, ни доброго слова, он придвинулся вплотную к переборке. Его снова начинал бить озноб.
И тут ни с того ни с сего перед глазами возникла, словно живая, хрупкая хохотунья Ася, бетонщица с Волжской ГЭС. Когда это было? Год… нет, полтора года назад. Всей душой привязалась к Лешке девчонка. Они частенько хаживали вместе в кино, в театр. А как-то раз в субботний поздний вечер Ася осталась у Лешки ночевать.
И все-таки не удержала возле себя солдата бесхитростная в своих наивных ласках, свежая и юная эта девушка. Едва прослышав что-то о Варе, взметнулся Лешка, снова кинулся на ее поиски.
Наспех переодевшись после смены, Ася примчалась на вокзал провожать Лешку. А он стоял у подножки пропыленного, пышущего зноем вагона, с хрустом ломал себе пальцы. И повторял про себя последнюю фразу из одного бунинского рассказа, почему-то вот сейчас пришедшую ему на память: «Беспощаден кто-то к человеку!»
Ася подбежала к Лешке, приподнялась на цыпочки и вся замерла, положив на широкое плечо парня беспомощную влажную руку.
Уже тронулся поезд, когда Лешка силой оторвал от себя рыдавшую Асю… Но что это? Рядом потихоньку, еле сдерживая себя, горестно всхлипывала Пелагея.
– Перестань, – уже мягче проговорил Лешка. – Иди спать, Пелагея. И спасибо тебе… за все… спасибо!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯСветало. Высокой стеной курился над Камой туман, такой сейчас устало притихшей и как будто бы до синяков исхлестанной ночным штормовым ветром.
Где-то на востоке уже поднималось неясное, блеклое еще пока солнце, а туман все тянулся к нему своими косматыми седыми лохмотьями.
Буксир шел медленно, ощупью, то и дело оглашая окрестности басовитым простуженным гудком.
Частенько невесомая, но плотная белесая стена придвигалась чуть ли не к самому бушприту, потом, клубясь и завихряясь, отступала, и тогда показывалась тяжелая прозеленевшая вода с колыхавшимися на ней большими разлапистыми кленовыми листьями, опаленными сентябрьским пожарищем.
Нет-нет да и начинали проглядывать берега. То явственно обрисуется горная шишка, вся ощетинившаяся молодым ершистым сосняком, как бы чудом повисшая в молочной воздушной мути, то покажется кусочек пологого берега со златым песочком и стоящей раздумчиво у самой воды, исходившей парком, белой коровой в кирпичных пятнах. И снова весь мир затянет туманной кисеей, и только слышно тогда, как где-то неподалеку, ну совсем близко, нудно тявкает глупая дворняжка.
«Ох, и медленно же мы тащимся, – сказал себе Лешка, отбивая в начищенный до немыслимого блеска колокол очередную склянку. – Зря поездом не махнул. А при таких темпах передвижения я и через неделю, пожалуй, до Перми не доберусь».
Самочувствие у него было преотличное. Перед самым заступлением на вахту Лешку затащил к себе в каюту «зараз на минутное дело» сухопарый большеголовый механик.
– Как на душе, казак? – спросил он Лешку, набрасывая на дверь остроносый крючок.
– А все в порядке, Иван Мефодьевич, – бодро отчеканил Лешка. – Отоспался.
– Присядь.
С таинственным видом механик достал из настенного шкафчика бутылку с какой-то травянистого цвета жидкостью.
«Подсолнечное масло», – прочел Лешка на бело-желтой этикетке.
– На-ка вот цибарку, причастись, – до краев наполнив граненый стаканчик, хмыкнул механик. – Ото всех болезней – и душевных и телесных – первое средство.
Одним махом опорожнил Лешка емкий этот стаканчик: на миг перехватило дыхание.
– Ох! – вздохнул он, жмуря большие карие свои глаза. А где-то там в груди уже разливался благодатный согревающий жар.
– Разные есть утоляющие средства, – сказал механик, снова пряча в шкафчик бутылку. Сам он не выпил и капли. – Но я отдаю предпочтение настоечке своего производства – водки с полынком.
– И верно: полынью в нос шибануло, когда пил, – проговорил Лешка, вытирая ребром руки влажные губы.
– От простуды незаменимое лекарство, казак, – механик похлопал Лешку по плечу тяжелой рукой. – Покойница матушка, прирожденная донская казачка, бывало, даже нас, малолеток, пользовала этим лекарством в умеренных дозах. Бывай здоров!
И, выйдя вместо с Лешкой из каюты, сухопарый этот человек, не угрюмый, но и не веселый, направился к себе в машинное отделение.
Настойка и в самом деле была, видно, лечебной: даже вот сейчас, стоя на носу буксира, Лешка все еще ощущал приятное, бодрящее тепло, разливающееся по телу – молодому, упружисто-мускулистому.
Поднялось над мачтой солнце, добросовестно, как и судовой колокол, надраенное кем-то до немыслимого блеска, и стало брать верх над туманом: седые ведьмины космы таяли, таяли прямо на глазах.
Уже окончательно спала пелена с правого, ближнего к буксиру берега. И перед Лешкиным взором открылась гряда горных кряжей – ни дать ни взять волжские Жигули. Разница была лишь в одном: осень на Волге щедрее одаривала Жигулевские горы яркими красками. Камские же кряжи выглядели сумрачнее, строже: сосны и пихты, пихты и сосны. Сизо-черные, взбираясь сплошным частоколом на неприступные скалы, они упирались острыми вершинами в самое небо. И только кое-где в низинах костерками полыхали кленовые и березовые перелески.
Над одним обрывистым утесом высилась огромная величавая пихта. Задиристые камские ветры зло пошутили с красавицей – исподволь выветрили из-под нее всю почву. И стояла теперь пихта как на ходулях: по-прежнему тянулась к обманчиво близкому небу, все еще крепко цепляясь обнаженными корнями за окаменевшую землю.
Наконец и весь левый берег стал доступен взору. А немного погодя открылись и самые далекие синеющие речные дали. И эта сквозная ликующая синь растрогала Лешку. Он смотрел вдаль и улыбался…
Полчаса спустя, как раз напротив пристани, белеющей жарким пятном, уютно прикорнувшей в тишайшей заводи, на виду у крохотного селеньица, поломалась на буксире машина. Судно еле дотащилось до заводи, волоча за собой три грузные пузатые баржи. Пришлось бросать якорь и вставать на ремонт.
Для машинной команды началась горячая страда, а для палубной – сплошной отдых.
– Братва, собирайся на берег! – кричал юркий косоглазый матросик. – Капитан разрешил!
Лешке, проходившему мимо, услужливый парень, всегда знавший самые последние судовые новости, доверительно шепнул:
– Нынче ни завтрака, ни обеда не жди: нашему коку муженек все печенки отбил. Лежит в каюте и стонет. Так что в деревне придется пошукать насчет харчишек.
– За что ж он ее? – спросил Лешка.
– Ночью с масленщиком Васюткой накрыл. – Прыткие глаза матросика разбежались в разные стороны. – Не женись, солдат, от этого бабья греха не оберешься! – И опять зычно загорланил: – Э-эй, братцы! Поплыли к девкам на блины!
Желающих прогуляться нашлось много. На берег отправились рулевые, матросы, второй штурман, жена капитана. Лешка последним прыгнул в переполненную лодку, готовую вот-вот отчалить от кормы судна.
Пристали к мосткам дебаркадера. Одни рысцой побежали, гремя бидонами, в поселок за молоком и яичками, другие – к маячившему на отшибе кирпичному зданьицу сельпо.
И только Лешка никуда не спешил. Привязал к перилам мостков лодку, спрыгнул на прибрежную мокрую гальку, будто груду чугунных слитков. Постоял, поглядел вправо, поглядел влево.
Неподалеку от пристани высился ветхий щелявый сарай. У сарая, под навесом, врос в землю верстак – не менее древний, чем сам сарай. А за верстаком работал сгорбленный дед, не спеша стругая рубанком новую тесину.
Когда шумливая ватага пароходских выгружалась из лодки, дед даже не оглянулся. Не глянул он и на Лешку, остановившегося возле него, хотя тот, поднимаясь в горку, намеренно тяжело ступал на гремящие под ногами голыши.
От добротной, слепяще-белой тесины попахивало сосновой смолкой, духовитой, приятно щекочущей ноздри. Две доски, уже гладко выструганные, стояли тут же, у сарая, возле закрытой на защелку двери.
Лешке, давненько не державшему в руках рубанка, захотелось встать на место деда, по всему видно, угрюмо-нелюдимого, так захотелось, что он, покашляв от волнения в кулак, отважился и сказал:
– Здрасте, дедуля!
Старик даже ухом не повел. Только еще ниже согнул пещерно костлявую спину, обтянутую пропотевшей, в заплатках, рубахой.
«Вот тип!» – подосадовал про себя Лешка.
А легкие шуршащие стружки, завиваясь в колечки, летели и летели к ногам деда, раззадоривая Лешку.
Помявшись, он обошел старика слева и встал почта вплотную к изъеденному древесным жучком верстаку.
И тут случилось неожиданное. Дед поднял косматую седую голову, отрешенно глянул на Лешку слезящимися глазами, кивком поздоровался с ним.
– Не притомились, отец? – сказал Лешка первое, что пришло на ум.
– Ась? – проскрипел дед. – Громче калякай, я на уши чтой-то туговат стал.
– Давайте я вас сменю, а вы отдохните! – прокричал Лешка в заросшее дремотной щетиной дедово ухо.
– А мастак ты по столярной части?.. Только не шибко ори, а то непременно глухим меся сделаешь.
Лешка заморгал длинными черными ресницами, весь расплываясь в сияющей улыбке.
– Ну-ну, попробуй в таком случае, а я перекур сделаю. – Дед выпустил из рук высветленный, отполированный рубанок и полез, кряхтя, в карман стеганых штанов за кисетом.
Когда Лешка старательно выстругал тесину и с этой и с другой стороны, охваченный безудержным желанием простоять за верстаком еще не один час, старик одобрительно мотнул бородой-метелкой:
– Тебя бы под мое начало… Бывало, я в твои-то лета…
Не договорил, отвернулся.
– А теперь за что примемся? – Лешка тронул деда за локоть.
– За гроб. Ночью с проходящего вниз парохода женщину умершую сняли. – Старик снова принялся развертывать пропахший забористым самосадом кисет. – А поутру начальство к нам всякое понаехало. Полное медицинское следствие над покойницей произвели. Сказывали: жизненная ниточка в сердце оборвалась… оттого и концы отдала, господь с ней.
Лешка озадаченно сдвинул на затылок кепку. Гробы делать ему еще никогда не доводилось. Опять водворил заношенную кепку на прежнее место. Все-таки надо помочь деду – уж очень он древний, как бы совсем не выдохся.
И вот они вдвоем принялись за работу. У подошедшего к сараю штурмана, нагруженного увесистыми кошелками, Лешка попросил разрешения остаться пока на берегу. И тот пообещал прислать за ним лодку – часа через два. Он предполагал, что часа через два-три ремонт дизеля будет закончен.
Приколачивали последнюю доску, когда пришла с пристани старуха в полушубке, держа на руках девчурку.
– Ох, Пахомыч, Пахомыч, замаялся ты у меня, болезный! – запричитала старая. – И надо ж такой беде сотвориться: ехала бабочка на курорт, болезнь свою залечить, да вот не доехала… А девчушечка-то, сиротинка разнесчастная, такая пригожая, такая ласковая.
Рукавом гимнастерки Лешка вытер с высокого замаслившегося лба испарину. Выпрямился. И вдруг увидел смуглолицую девочку, с невинной беспомощностью прижавшуюся к незнакомой, совсем чужой ей бабке.
А минуту спустя он влетел, едва не сорвав с петель дверь, в дырявый сараишко, охваченный предчувствием страшного, непоправимого горя.
Прямо на земле, прикрытая полосатой дерюгой, лежала покойница. Из-под мохристого края истасканной вконец дерюжки высовывалась голая ступня, какая-то до жути белая-белая, с просинью, будто гипсовая.
Мгновение-другое глядел Лешка остановившимися глазами на эту неживую, отталкивающую логу. Потом пересилил себя, шагнул вперед, опустился на колени. Решительно – рывком – сбросил с головы покойницы смертное покрывало. И с разрывающей сердце болью закричал не своим голосом:
– Варя! Что ты наделала, Варя!
Закричал и упал. Упал, прижимаясь лицом к холодной, бесчувственной Вариной груди.







