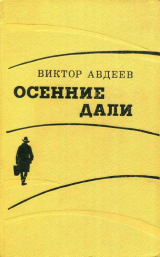
Текст книги "Осенние дали"
Автор книги: Виктор Авдеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
В это мгновение оба словно оценивали друг друга.
«Видный мужик у моей, – подумал Антон Петрович. – Может, он больше подходит Елизавете, чем я, и с ним она счастливее, чем со мной?»
На стене в футляре висела скрипка. Геннадий музицировал. Вероятно, отсюда и длинные волосы, блуза, бант.
«Говорят только: позер, – поторопился Антон Петрович вспомнить о нем недобрый слушок. – Кутнуть любит».
Как глупо устроен человек! Ему-то зачем нести околесицу о том, кто занял освобожденное им в этой избе место? Ан нет, странный клубок ворочается в груди. Конечно, тут не зависть, не ревность, но ведь что-то же мешает ему запросто, с приязнью глянуть в глаза Геннадию, протянуть руку? Неужели собственничество?
Вслед за дочкой Антон Петрович прошел на правую половину избы, освещенную одним окном. Вдоль стены нависли полки для кастрюль, посуды, задернутые веселой занавеской с розовыми цветочками. В углу приткнулся столик под клеенкой. На столике стояли два прибора, резная деревянная хлебница, прикрытая салфеткой. С другой стороны кухоньки – большая русская печь, чисто побеленная, блестевшая заслонкой. Порядок, аккуратность видны были во всем. Лоснились покрашенные масляной краской две табуретки, деревянный пол.
– Садись, папочка, – негромко сказала Катенька. – Я буду наливать.
Она с удовольствием разыгрывала маленькую хозяйку. Без шубки и ужасной шапки, в новой коричневой форме с белой пелеринкой, дочка выглядела более ладной и уже не казалась Антону Петровичу такой заброшенной. Ее белесые волосы были подвязаны синей лентой, лицо на воздухе разрумянилось. Чисто вымытыми ручками она отдернула полог печи, открыла заслонку, взяла в углу рогач. Подняв плечи, кряхтя, пододвинула чугун, налила в тарелку жирных, вкусно пахнущих щей.
Они сидели рядом за столом, как в прежние годы, ели и негромко разговаривали. За перегородкой было все слышно, поэтому оба снижали голоса.
«Славная у меня Катенька, – с умилением думал Антон Петрович. – Конечно, с матерью ей лучше. Ну, а все-таки… полусирота. И почему так жизнь устроена по-дурацки? Или сами ее усложняем, портим? Сами. Думаем только о себе, забываем о детях».
– Я что-то не хочу мяса, – сказал Антон Петрович и переложил из своей тарелки большой кусок говядины с мозговой косточкой в тарелку дочери.
– Ой, папочка, а я его совсем не люблю, – воскликнула Катенька почти совсем громко. – Хочешь, я тебе и свое отдам? Ешь, пожалуйста.
Так отец и дочка ухаживали друг за другом. Ела Катенька действительно мало, неохотно. Детей всегда надо уговаривать пообедать, выпить молока. Вон она какая худенькая. «А может, за ней не смотрят? – вновь подумал Антон Петрович. – Здо́рово она нужна отчиму? А у Елизаветы вторая дочка: маленьких больше любят. Да и школа, тетрадки, общественная работа».
За перегородкой было слышно, как встала Елизавета Власовна, как вышла из комнаты, хлопнув дверью. Затем хлопнула вторая, дальняя дверь в сенях, и уже рядом, из-за другой стены избы послышался приглушенный голос Елизаветы Власовны. Это она прошла во вторую, угловую комнату пятистенка, где жили ее старики родители.
Словно подтверждая предположение отца, Катенька полушепотом сказала:
– Мама пошла узнать Светку: не проснулась? Светкина кроватка у бабушки.
Обед закончили в молчании. Задав сразу по приезде все необходимые вопросы, Антон Петрович уже не знал, о чем расспрашивать. Да и стесняло присутствие за перегородкой Геннадия Протасовича, то, что разговаривать надо было полушепотом.
– Ты же не ленись мне писать, – с улыбкой сказал он дочке.
– Я всегда тебе пишу.
По старой памяти Катенька пристала к отцу, чтобы он что-нибудь нарисовал, подсунула иступившийся карандаш, косо разлинованную тетрадку. Антон Петрович рисовал ей и солдат, и автомобиль, и космическую ракету. Одна из фигурок была худощавая, в очках, с белесыми усами, в пальто с пристежным цигейковым воротником, в сапогах и с дорожным чемоданчиком.
– Это ты? – засмеялась Катенька. – Да-а. Похоже. Я маме покажу.
Близилось время расставания, и чем ближе оно становилось, тем больше жалел дочку Антон Петрович. Теперь она уже не казалась ему неуклюжей, угловатой, получужой. За полдня он успел вновь к ней привыкнуть. Освоилась с отцом и Катенька, весело болтала, рассказывая о школе, о подругах, о мелких происшествиях, которые представлялись ей значительными.
– Пора, пожалуй, собираться, – глянув на стенные ходики и сверив их со своими часами, сказал Антон Петрович.
– Уже? – весело сказала Катенька. – Я пойду тебя провожу.
Никакого сожаления Антон Петрович в ее голосе не услышал. Что значит детство! Он вынул из саквояжика последний подарок – отрез фланельки на платье. Катенька живо, радостно прикинула на себя материю, любуясь ею: какая хорошая выйдет обнова. Поцеловала отца, бережно завернула отрез в магазинную бумагу. Опять надела свою старую шубенку, из которой выросла, нелепый меховой капор-шапку и вновь превратилась в неуклюжую девочку. Но лицо ее за эти часы уже снова стало знакомым до каждой черточки. Это была милая, любимая дочка, с которой больно расставаться. Одевшись у двери, Антон Петрович попрощался с хозяевами. Елизавета Власовна ответила громко, приветливо. Геннадий Протасович что-то пробормотал: ясно было, что его смягчил отъезд ветеринара.
– Далеко не заходи, – спокойно, ласково сказала дочке Елизавета Власовна.
– Нет. Я до сосны.
Погода на дворе нахмурилась: и похолодало, и чувствовалась сырость. Вокруг колокольни бывшего монастыря кружила по-вечернему крикливая стая галок. Ветер переменился и теперь задувал сбоку от железной дороги. Дали потемнели, сдвинулись, вот-вот опустятся сумерки.
– Когда снова приедешь, папа? – спросила Катенька, держа отца за руку, искательно заглядывая в лицо.
– Не могу тебе точно сказать, доченька. Служба, дела. Постараюсь к весне. Как в прошлом году.
Антон Петрович почти наверняка знал, что весной приехать не удастся. Против его поездок к дочери Глика не возражала, но относилась к ним ревниво – это он хорошо знал. Огорчать молодую жену ему не хотелось. А навещать дочку надо – кровинка. Придется и тут, как с деньгами, становиться на путь обмана и говорить Глике, что едет в командировку. Совсем запутаешься.
– Я так скучаю без тебя, – тихо, доверчиво сказала Катенька и замолчала.
У Антона Петровича больно сжалось сердце. Теперь даже уродливая шапка, коротенькое пальтишко не портили облика дочки. Ее личико, одухотворенной любовью, печалью, просило участия, ласки. Антон Петрович вздохнул и не нашелся что ответить.
Поравнялись с одинокой сосной, стоявшей в открытом голом поле между проселком и железной дорогой. Мать не разрешала Катеньке идти дальше. Катенька остановилась, неловко сложила губы, точно извинялась, что не может еще проводить.
– Мне больше нельзя.
Он нагнулся, обнял и несколько раз поцеловал девочку в полуоткрытые губы, в щеки. Катенька невпопад отвечала на его поцелуи, вдруг засмеялась:
– Какой ты колючий.
Он тоже улыбнулся, потрогал ус.
– Брился вчера вечером. Щетина и отросла.
Постояли на бугорке. Ветер здесь был сильнее, чем в деревне, тощий, бурый придорожный бурьян шевелился как живой, и потемневшие стожки сена, еле видные в опускавшейся мгле, казались озябшими. Вдали грубо, будто намалеванный, чернел лес.
– Тебя, Катенька… новый папа не обижает? – все-таки решился спросить Антон Петрович. С его губ не сошла еще улыбка, а лицо было болезненно-озабоченное.
– Не обижает. Да он… почти не разговаривает. – Потупясь, она сказала: – Я его зову дядя Гена.
Еще постояли. Катенька словно с каким-то вопросом, жалостливо смотрела на отца снизу вверх.
– Ничего. Ты растешь, становишься умненькой. Все будет хорошо.
– Хорошо, – тотчас покорно согласилась Катенька. Казалось, отвечала она так же заученно, как при встрече у пруда, однако тон был доверчивее, искреннее. – Нас в школе учат вышивать крестиком. Дома уроки… Светку качаю.
Вполне естественным было то, что Катенька помогает матери, бабке ухаживать за сводной сестренкой. Антона Петровича почему-то ее ответ покоробил: «Нянькой приспособили».
Далеко за полем, за черневшей лесной полосой глухо и словно бы потерянно закричал паровоз, будто чувствовал себя одиноким в этой ранней холодной полутьме: наверно, из Москвы шел товарняк. Стука колес не было слышно.
– Ладно, доченька, беги, – бодрым, веселым голосом сказал Антон Петрович, засуетился, еще раз ткнулся губами в щеку девочки. – Беги, а то простудишься. Да и темнеет.
– Ладно. До свидания, папочка.
Она заморгала-заморгала, неуклюже повернулась и побежала домой, к словно истончившейся колокольне монастыря. Почти тут же остановилась и, обернувшись, помахала рукой в шерстяной варежке. Антон Петрович помахал ей; он стоял на бугорке и не двигался. «На каждые сто браков – сорок разводов» – почему-то всплыла строка из газеты. Катенька опять побежала к дому и вновь обернулась и помахала. Затем наклонила голову, пошла шагом и больше уже не оборачивалась.
И долго еще смотрел ей вслед Антон Петрович. Тоненькая фигурка Катеньки становилась все меньше, сумерки обуглили ее, съедая очертания. Затем девочка совсем растаяла, пропала, а худощавый взрослый мужчина в защитного цвета пальто с пристежным цигейковым воротником все смотрел и смотрел…
Повернулся и быстро пошел по дороге.
…Час спустя сквозь деревья придорожного лесочка мелькнули, задвигались огоньки – станционный поселок. В маленьком вокзальчике, на лавке, ожидали поезда двое крестьян с чемоданами, мешками. Антон Петрович взял билет в кассе, вышел на перрон. Кровавым, зловещим глазом глядел вдали семафор: путь еще не открывали. Прошел стрелочник с фонарем, но Антон Петрович не видел ни семафора, ни стрелочника. Перед его глазами все еще стояла белобрысенькая девочка, и глаза у нее были любящие, печальные. Она будто спрашивала: «Как же, папочка, ты меня бросил?» Антону Петровичу сделалось стыдно за ту скованность, похожую на отчуждение, которую он испытал днем при встрече с Катенькой. Откуда эта скованность? Сразу после развода ее не было. Неужели с каждым годом отчуждение будет расти? Катенька созревает, меняется, сформируется в зрелую девушку – не станет ли она тогда для него родной незнакомкой? И что она будет чувствовать к нему, когда повзрослеет и все поймет? Может вспыхнуть обида за мать? Вражда?
Эка жизнь до чего запутанная! Почему так часто счастье одного человека оборачивается несчастьем для другого? Бывает, и не желаешь ему зла, сам полюбишь, тебя полюбят, а все же страдают самые близкие, родные люди, и ты уже не в силах им помочь.
…Подошел поезд. Антон Петрович засуетился, отыскивая свой вагон, полез на подножку. Ударил второй звонок. Состав тронулся неслышно, проплыли освещенный вокзал, голые деревья в скверике, и знакомая, когда-то родная станция осталась позади, растаяв в сгустившихся осенних сумерках.
IV
В Смоленск поезд прибыл в потемках, задолго до рассвета. Снега здесь тоже не было. Окна привокзальных домов немо чернели.
Автобус, набитый пассажирами, потащил Антона Петровича по гористым улицам, мимо стоявшей под оврагом высокой церкви-музея, мимо небольшого памятника фельдмаршалу Кутузову, повернул в сторону от Днепра, разрезавшего древний город. Да, он приехал к себе домой. Такого ощущения в старой деревне уже не было, оно потерялось. Человек пускает корни там, где живет его семья, близкие, где его работа, надежды на будущее. Родное место ему дорого лишь по воспоминаниям, а забрось его судьба опять туда, оно не согреет сердца, покажется чужим.
Небольшой тихий дворик еще спал. Спал в темноте облупленный кирпичный трехэтажный дом с косым, вросшим в землю крылечком. Спали дровяные сарайчики, лепившиеся к забору и теперь, после газификации, никому не нужные. Спали столбы от волейбольных ворот: днем женщины натягивали на них веревки и, к возмущению дворовых ребят, сушили белье.
Квартира Миневриных была на нижнем этаже. Звонить Антон Петрович не стал, а подошел к окну и тихонько постучал в почерневший переплет рамы. Он всегда так стучал Глике, давая знать, что пришел именно он. Стук его, хотя и негромкий, будил ее сразу. Проснулась Глика и сейчас: край занавески дрогнул, выглянуло ее заспанное лицо с радостно-настороженными глазами. Антон Петрович улыбнулся жене. Занавеска опустилась, и он вернулся на заскрипевшее крыльцо.
Сквозь дверь Антон Петрович услышал легкие шаги Глики; щелкнул английский замок, и в следующую минуту он уже целовал ее чуть полуоткрытые толстые и добрые губы, голую теплую шею, глаза, в которых еще бродили сонные видения, с жадностью вдыхал знакомый, волнующий запах ее кожи.
– С ума сошел? – сердито сказала Глика. – В сенях. Люди могут увидеть.
– Пусть видят, – улыбаясь, говорил он, поймав и целуя ее теплую руку, обнажившуюся до локтя.
Осторожно ступая, чтобы не разбудить соседей, они прошли к двери своей квартиры. Антон Петрович замешкался в передней, снимая пальто. Вошел в комнату. Глика зажгла торшер, вновь нырнула в постель, полуприкрылась одеялом. Зеленоватый свет от абажура падал на ее черные растрепанные волосы, грудь, видную в глубоком вырезе ночной рубашки.
– А где Петушок? – спросил Антон Петрович, увидев, что кроватка сына пуста.
– Спит с бабушкой. Вчера купали, она ему сказки рассказывала. Я не захотела перекладывать. – Глика совсем проснулась, смотрела на мужа испытующе, с ожиданием. – Чего раздеваешься? Через час на работу.
– Отдохну немножко, – ответил Антон Петрович, расшнуровывая ботинок, и крепко, сладко потянулся.
– Нечего нежиться. Еще заснешь.
Он видел, что Глика ждет его в постели и говорит из чувства противоречия. Она всегда ревновала мужа после его поездок к дочке в деревню, оглядывала подозрительно, морщила нос, словно хотела обнюхать. Поэтому сердито отвечала и в сенях, хотя была очень рада.
Снимая через голову верхнюю рубашку, Антон Петрович подумал, что все женщины одинаковы и после первого, и после второго брака жизнь у супругов идет по тому же кругу: сперва ненасытные ласки, внезапные ссоры, знаки внимания, потом уравновешенность, привычка, развивающая успокоение, упорное отстаивание своего «я», авторитета. Образ Елизаветы стерся в душе Антона Петровича, его заслонила вот эта скуластая, пополневшая в груди и бедрах молодая женщина. Она ему люба, она ему родная, а та, первая, мила только в воспоминаниях.
– Лижешься, – шепотом и словно бы все еще сердито говорила Глика, отстраняя мужа, делая вид, что не хочет его ласк. – Спи лучше, спи. Лежи спокойно. Насвиданничался со своей Лизочкой?
– Оставь. Сама знаешь, что там все кончено. Должен же я видеть дочку?
– Гаси торшер.
Скоро надо было вставать. Антон Петрович знал это, но дремота смежала глаза. Глика уже спала, уткнувшись ему под мышку, сладко дыша полураскрытым ртом. По признакам, в верности которых она не сомневалась, Глика увидела, что Антон принадлежит ей и со стороны «старой любви» ничто не угрожает. А он тоже лежал счастливый, утихомиренный, наслаждаясь тем, что наконец дома, что все здесь здоровы и всё благополучно.
«Я только минутку, – подумал Антон Петрович. – Будильник заведен». И вдруг перед его глазами как живая встала Катенька в своем меховом уродливом капоре. Она улыбалась ему чуточку жалко и махала рукой в варежке. «Что это? Никак не могу заснуть», – подумал Антон Петрович, не зная, что уже спит. «Катенька! Как живешь, моя деточка?»
У ШЛАГБАУМА
I
Орехов в лесу было полно: стоило профессору Казанцеву потянуться за одним, как он замечал целое зеленое гнездо на соседней ветке. По ту сторону куста лещины, сквозь шершавую замшу ее листвы перед ним мелькали то смуглые девичьи руки, то белая блузка Иры Стрельниковой; иногда он ловил на себе взгляд ее карих глаз и всякий раз испытывал такое чувство, словно должен сделать что-то решительное и не знал что. В лесу аукала, со смехом перекликалась разбредшаяся компания из их дома отдыха, всюду слышалось щелканье орехов. От меченых желтизной берез протянулись длинные тени; пеньки выглядывали из травы словно гигантские грибы, в остывающем воздухе мягко тенькала, вызванивала синица.
– Я, собственно, нагрузился, – сказал профессор Ире, показав на свои карманы. – Надо полагать, скоро будет гонг к вечернему чаю.
Она вышла из-за куста.
– Пойдемте обратно?
– А как же Алексей? Нельзя оставлять такого верного рыцаря.
Ира сделала пренебрежительное движение смуглым, по-женски созревшим плечом; она была в сарафане. С другого конца орешника послышался голос Манечки Езовой, ее соседки по комнате:
– Ау, Ирок, отзовись. Ау!
– Видите, – сказал Казанцев. – Я был прав, ваше отсутствие заметили.
Девушка засмеялась с видом школьницы, которой хочется поозорничать. Вдвоем они пошли по лесной дороге. Между деревьями заголубел простор, показались два красных кирпичных столба и полосатый полусгнивший шлагбаум; когда-то, еще при царе, по этой опушке проходила граница двух губерний, а теперь орешник стал границей прогулок из дома отдыха: дойдя до шлагбаума, все неизменно возвращались обратно.
Рядом с девушкой Казанцев почему-то никак не мог забыть свои сорок семь лет и ученое звание. И в то же время, чувствуя на себе ее наивно-расширенные, ожидающие глаза, он говорил с тем подъемом, который испытывает человек, когда на него обращено очень дорогое ему внимание.
– Вы спрашиваете, много ли я работаю? – говорил Казанцев. – А как же? Есть ли что на свете интересней и благородней труда? Прошедшие века похоронили множество эпох, стран, народов. И что от них оставила нам история? Руины, монеты с изображением тиранов, черепки домашней утвари, то есть памятники труда. Все бренно на этом свете – и власть меча и власть злата, а вечен только труд: он один движет культуру. Не тщеславным венценосцам обязаны мы познанием древности, а рукам рабов.
– Да, конечно, – кивнула Ира. – Я вот тоже как приготовлю задание, спокойнее чувствую себя в техникуме.
Она вообще спешила во всем согласиться с профессором, и стоило ему заговорить, как она кивала головой, точно подхватывая его мысль с полуслова. «Влюбленные студенты таких девушек принимают за родственные натуры», – подумал Казанцев. Ира так благоговела перед его «трудами», о которых никогда не слышала, перед самим званием «профессор», что ему иногда становилось неловко.
– Освоение профессии – это самое прочное наше приобретение в жизни, – продолжал Казанцев. – Близкие люди могут изменить: жена найти более привлекательного мужчину и уйти к нему; друг, раздосадованный вашей удачей, – отвернуться; родная дочь – бросить вас ради любимого, а труд всегда останется с вами, и в нем вы найдете поддержку и отраду.
Опустив голову, Ира старалась идти в ногу с профессором. Ее черные, слегка выгоревшие спереди волосы, заплетенные в две толстые короткие косы, открывали смуглый низкий лоб. Нос с горбинкой от веснушек выглядел темнее, полные красные губы были сложены надменно. Казалось, Ире хочется шумно порезвиться, побегать, похохотать и она всячески сдерживает себя.
– Ох, – весело вздохнула она, – как вы интересно говорите! Сколько для этого, наверно, разных научных книг проштудировали… целую библиотеку. А я вот перед зачетом долго не могла взяться за историю средних веков, все казалось трудно.
– Всякому овощу свое время. Пока молоды, больше бегайте да ешьте яблок, чтобы запастись на будущее силами. Знаете, в чем древние полагали счастье? В здоровом желудке.
– О, я здоровая, – опять засмеялась Ира, и уши ее покраснели. – Видите, какая толстая? В техникуме я взяла первый приз в состязании по бегу на короткую дистанцию. Меня тогда премировали будильником, и я в первый же день проспала на занятия, потому что понадеялась на будильник, а он не зазвонил.
«Отвечает как ученица, – отметил Казанцев. – Я же будто читаю лекцию на кафедре… вернее – глаголю прописные истины».
Прошли красные кирпичные столбы, выщербленные временем, полосатый шлагбаум. Открылось поле, усеянное валками недавно скошенной ржи, деревня, сбоку зеленая крыша двухэтажного каменного дома отдыха, а за ними далеко внизу, под крутым спуском, – Волга, заречные луга с копнами сена. Повеяло широтой, простором. В остывающих лучах солнца васильки, уцелевшие на придорожной меже, казались лиловыми.
Сзади послышался быстрый тяжелый топот ног.
– Алло! Не хотите и подождать?
Их нагонял Алексей Перелыгин. Мускулистое загорелое тело его, сильные ноги с раздутыми икрами лоснились, он был в красных трусах и превосходных бутсах из бизоньей кожи. Алексей играл правого нападающего в одной из всесоюзных команд, считал, что спортсмены самые популярные люди на земном шаре, и удивлялся, если кто-нибудь не знал его имени, иногда упоминаемого в футбольной хронике.
– Почему ты, Ира, ушла без меня? – сказал он громко и, как всегда при улыбке, сжимая крупные, очень белые зубы. – Что? Это свинство.
– Я ведь не нанималась к тебе в поводыри?
– Оставь, Ира. При чем здесь поводыри? Лучше признайся, что поступила не по-комсомольски. – И, не слушая ответа, Алексей повернулся к Казанцеву: – Я смотрю, профессор, уж не хотите ли вы отбить у меня Иру? Ох, глядите, я не уважу, что вы сочиняете лекции по… истории с географией, а возьму да и забью гол под каждый глаз.
– Уж такая ваша профессия, – усмехнулся Казанцев, – бегать и бить… ногой.
– Как? Почему бегать? А, понимаю. – И Алексей расхохотался, горделиво откинув голову, остриженную под «бобрик».
За еловой аллеей открылись антресоли дома отдыха, облупленные колонны. Из столовой доносился звон стаканов, ложечек: там пили вечерний чай.
Казанцев сказал, что ему надо переодеться, и прошел в свою мансарду во флигеле. На столе в педантичном порядке, который он так любил, были разложены книги с выписками, цветные карандаши, но выработанная годами привычка к ежедневному труду была нарушена. Казанцев долго поправлял перед зеркалом синий вязаный галстук, разглядывал свое загорелое бритое лицо. «Признайся, наконец, – криво усмехнулся он отражению в зеркале. – Ты увлекся девочкой, которую, наверно, ошеломила твоя ученая степень». Правда, Казанцев знал, что женщины до сих пор находили его интересным. Морщины не испортили крупного лба Казанцева, а седые волосы были так густы, что одна знакомая назвала их шерстью белого медведя. И плечи у него еще по-молодому прямые. «Понимает ли хоть она твои назидания? – продолжал он размышлять. – Скорее всего «в общем и целом». Да, но сколько потом таких наивных и еще неразвитых студенточек успешно получали дипломы, даже поступали в аспирантуру».
Когда он вернулся к столовой, то застал отпивших чай на каменных ступенях крыльца; по установившейся традиции, все собирались сюда, чтобы проводить отъезжающих. У подъезда стояла гнедая лошадь, запряженная в рессорную линейку с наложенным в нее сеном. Среди чемоданов сидела женщина с зонтом и все время прощально и любезно улыбалась. Бородатый конюх, который должен был везти ее за пятнадцать километров к вечернему пароходу, равнодушно поправлял кнутовищем хорошо прилаженную шлею. Все по очереди подходили к даме, пожимали руку, точно отъезжал член семьи, хотя ее мало кто замечал, пока она жила здесь. Девушки нарвали с клумбы левкоев, гвоздик, астр, полных отмирающего предосеннего благоухания. У растроганной отъезжающей букеты были в обеих руках, на коленях, и она не знала, куда их деть. Директор дома отдыха, с орденом Славы на офицерском кителе, в сапогах, распоряжался как радушный хозяин, просил приезжать на будущий год. У колес линейки крутились две собаки: шоколадный пойнтер доктора и корноухая, вечно в репьях дворняжка из деревни, прижившаяся в доме отдыха.
– В Саратов приедете, не забудьте опустить письмо! – крикнул отъезжающей пожилой инженер в темных очках.
– Счастливого вам. Вспоминайте нас.
Положив руку на крыло линейки, в толпе стояла и Ира Стрельникова с букетом. Она рассеянно слушала разговоры и по временам оглядывалась, точно кого-то искала. Казанцев остановился за углом террасы и несколько минут наблюдал за ней. Не ошибся ли он в ее чувстве? Действительно ли Ира им заинтересована? Вдруг это минутный каприз красивой девочки? С возрастом его недоверчивость требовала доказательств, он боялся попасть в смешное положение. Сейчас он это проверит.
Придав лицу благодушную мину, Казанцев быстро вышел из-за террасы; увидев его, Ира вспыхнула и так порывисто протянула отъезжающей цветы, точно протягивала их профессору. Девушка смутилась и дольше всех махала рукой вслед линейке.
II
Стоял жаркий душный полдень, какие иногда выпадают на Волге в конце августа. Отдыхающие обычно это время проводили на пляже под зеленой, заросшей соснами горой: кто купался, кто загорал, зарывшись в стеклянно-белый, режущий глаза песок. Ира и Алексей в стороне, под тенью ветлы, удили рыбу; у обоих не клевало. Профессор Казанцев принимал на вышке солнечную ванну. Рядом с ним сидел его сожитель по флигелю пастух Зворыкин, худой, бородатый человек с большим кадыком, в новой шляпе из тонкой, будто солома, осиновой стружки.
– А за что меня премировали отдыхом, это я тебе сейчас обскажу. За трудовую жизнь. Понял? Немец в корень извел наше Спас-Осташково, а теперь в моем стаде аж сорок семь голов. И один пасу. Сообразил? Один. А до меня ходил, так той двух подпасков держал. Я ж им сразу вольную да заместо их приручил кобелей, вот колхозу и вышла економия. Теперь слухай дальше. Какие погоды стояли? Жары. Никаких небесных осадков. И тут я стал выгонять скотину на ночь. Уж ни овод, ни другая насекомая не беспокоит. И вот второй год как чисто все коровы молока прибавили, а Фраза двадцать одну литру удою выдала. В Москву к выставке готовлю, председатель сказал, что лишь чуток до медали не тянет. – Зворыкин помолчал, закончил недовольно: – А без дела теперь мне что же, без дела можно начать покупать и вино в магазине… с бабой загулять. С безделья человек на все может решиться.
– Правильно, занятому и думать некогда, – засмеялся профессор. Зворыкин всегда говорил с ним или о своем стаде, или о том, что в доме отдыха ему скучно без дела, и давно успел надоесть. Казанцев стал смотреть вниз.
Внизу, под вышкой, солнечно блестела, зеленовато просвечивала могучая река. Она казалась гладкой, спокойной, но березовая веточка, сломанная кем-то, проносилась быстро мимо: такое было подводное течение. У берега на борту зачаленного парового катера сидела Манечка Езова – Ирина подруга, молодая, с двумя подбородками и крашеными бровками. В предохранение от загара на ее толстые белые плечи была накинута простыня. В дом отдыха Манечка приехала в надежде похудеть, каждый день взвешивалась, но с ужасом замечала, что полнеет, и всем говорила: «Это от сердца». А врач, осматривая ее, разводил руками и советовал больше двигаться, меньше есть мучного и сладкого и «хоть разок поволноваться».
– Давайте поедем на ту сторону, – капризно закричала Манечка. – Что вы, товарищи, все лежите да лежите. Я сама буду грести.
Далеко-далеко за Волгой в знойном мареве кремово золотился песок противоположного берега, поросшего ивняком. Там над затоном вились два баклана.
– Считайте меня, Манечка, завербованным! – крикнул Казанцев и стал спускаться с вышки.
– В плаванье! В плаванье! – раздались голоса загоравших купальщиков.
Охотников вызвалось немало. Они столкнули на воду два новых крашеных баркаса. В одном взялся грести Казанцев. Ира, бросившая бесполезное ужение рыбы, поместилась рядом с ним. Манечка Езова уверенно села на бабайки в другой лодке, начала грести, но лишь всех обрызгала и, сразу устав, перебралась на корму. Ее место занял Алексей Перелыгин. Хвастаясь силой, он так погнал баркас, что быстро вырвался вперед. «Беру старт!» Сидевшие с ним женщины со смехом замахали руками отставшим.
– Кидайте нам якорную цепь. Так и быть, возьмем на буксир!
– Посмотрим, – закричала в ответ Ира и схватила рулевое весло.
Казанцев, улыбаясь, приналег на бабайки, баркас вздрогнул, и началась гонка. Только веселые светлые брызги летели от четырех пар весел да слышался скрип уключин. Вода позади пенилась бело-зелеными бурунчиками, шумела. Баркасы стали выравниваться, «пассажиров» охватил спортивный азарт, они перебрасывались насмешливыми шутками, подбадривали своих гребцов. Алексей стиснул губы и напряженно улыбался: его самолюбие не могло вынести поражения, и он вкладывал в греблю всю силу. Снова активно включилась Манечка Езова: помогая ему, взяла кормовое весло, зарулила.
Почти незаметно казанцевская лодка все обходила и обходила соперницу, и вот уже между ними пролегла зеленая водная полоса. Теперь насмешливо закричали пассажиры-победители, к перелыгинцам полетели воздушные поцелуи. «Ура! Наша взяла!» Алексей тряхнул головой, словно хотел смахнуть пот с толстых бровей, наддал еще, стараясь прибавить ходу. Но то ли оттого, что он злился, то ли оттого, что Манечка не умела править кормовым веслом, их баркас шел рывками, вилял и отставал все больше.
Приближалась середина реки, рябь от мощной, спокойной волны сделалась заметнее, преодолевать течение стало труднее. Отчетливее выступили глянцевито-бурые, покачивающиеся бакены. Профессор лишь изредка подгребал веслами, отдавшись на волю течения. Неожиданно за излучиной, совсем рядом, взревел гудок, вырос реденький дым, а затем показался и огромный белый пароход с двумя красными полосками на трубе: почтовый.
– «Лермонтов», – сказал кто-то в лодке. – На Казань.
На верхней палубе, облокотясь на перила, стояли нарядные загорелые пассажиры, с бака доносились звуки танго. Пароход плыл по фарватеру, ближе к противоположному берегу, как раз наперерез баркасам, и с капитанского мостика им тревожно замахали. Надо было подождать, но Ира вдруг заблестевшими глазами глянула на профессора: «Давайте?» Он едва приметно кивнул головой и сразу стал очень серьезным. Ира заметила, как вздулись мышцы на его выпуклой груди, загорелых руках; лодка их понеслась, словно в ней включили мотор, шутки на банках – скамьях – смолкли, молоденькая учительница испуганно схватилась за спасательный круг.
Они проскочили под самым носом вдруг нависшего парохода. Огромный стекловидно-пенистый вал швырнул далеко вперед их лодку, и вслед им понеслась брань матросов. Позади, с отставшего перелыгинского баркаса, раздался женский визг, и его заслонила огромная белая громада корпуса с иллюминаторами, а когда пароход прошел, как бы до дна распахав реку, в передней лодке зааплодировали профессору. Перелыгин кричал, что, если бы Манечка Езова не закатила истерику, он все равно финишировал бы первым. Внезапно бросив весла, Алексей поднялся со скамьи, прыгнул в воду и поплыл.
– Вызываю, профессор. Что? Гайка слаба? Здесь дело чистое.


![Книга Чудесная кукла [Рассказы] автора Кудзаг Дзесов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-chudesnaya-kukla-rasskazy-273931.jpg)






