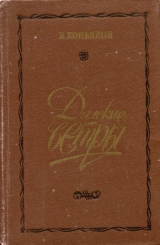
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Нет… – Она не сказала это, а медленно покачала головой. Не мне, а себе. Своим мыслям, будто отрицала раздумчиво. – Нет, нет, нет… – и взбежала быстро на крыльцо, не оглядываясь.
А ведь я ничего не спрашивал.
…Как это вышло?
Я лежу на кровати, и тяжелая память не дает заснуть и не приносит облегчения.
С ней что-то неладное происходит. Она мечется в поисках поддержки. А я…
4 февраля.
Александр Данилыч сидел в учительской – проверял тетради. Двое мальчишек стояли в коридоре, навалившись плечами на крашеную стенку. Они шептались, почти прижимаясь к стенке губами.
Увидев меня, учитель встал навстречу и наставительно сказал мальчишкам:
– Так поняли? Теперь марш домой…
Мальчишки кинулись к вешалке.
В мрачноватой, в одно окно, учительской прохладно.
– Опять подморозило. В сапожках без ног останетесь. В деревне надо к другой обуви приспосабливаться.
– Я к вам, – сказала я. – Понимаете… Вчера встретила старика Подзорова…
Александр Данилыч что-то заметил в тетрадке, уже проверенной, исправил красным карандашом и уставился на меня, как бы выразил внимание. Я почувствовала себя неуместной, и слова, которые я утром подготовила и подбирала, потускнели. Я сказала:
– Он уже старый, а… Девочка у них не учится, самого младшего не принимают в ясли.
– Ему что, материальная помощь нужна? Так это к председателю надо… Он решает.
Александр Данилыч доверительно добавил, уверенный в моей неосведомленности:
– Недавно его юбилей отметили всем колхозом. Правление подарок выделило – телогрейку и брюки ватные. Он на морозе всегда – вот и учли. Старику за семьдесят, а не поддается… Хороший старик.
– Он ничего не просит. Вы знаете его дочь? У нее трое детей, а кормит их он… Она не должна иметь детей, таких детей… А скоро у нее будет четвертый. Ведь это нельзя так оставлять… У старика беда. Ее нужно понять, найти отцов, обязать их делить ответственность… И беда старика на совести всей деревни. К кому он с ней пойдет? Вы же парторг. И это должно стать причиной большого разговора.
– Разговора и так хватает, больше чем надо. Это не те заботы. Старик живет не хуже нас. И дочь его зарабатывает не меньше доярок. Знаете что? – он стушевался и торопливо сложил тетради в портфель. – Я учу одновременно два класса, третий и четвертый. В четвертом двенадцать человек – так называемый недобор, а в третьем – двадцать. Мы их вынужденно совмещаем. На полставки никто не идет. Не скрою, материально это выгодно. Но… Вы не согласитесь на старший? А мне одного класса и заведования хватит. Не согласитесь? Я сегодня же приказ отдам, и районо утвердит. А? – он деликатно улыбался.
Я согласилась.
15 февраля.
Пачка свернутых газет воткнута в плетень – почтальонша только что отъехала от Королевых. Падал снег. Чтобы не отсырели, я вынула газеты и вошла в избу. Тетя Шура в другой комнате раскладывала на полу белье. Красный сундук открыт, и крышка откинута на косяк окна.
– Разложилась я.
– Много газет вы выписываете.
– Дед все. Вон сколько их на божницу сложил! А мне даже махотки закрывать не дает. Не допрошусь. Когда разрешит из-под низу брать. А я хоть где беру – он все равно не замечает. Говорю: «Дед, что ты деньги-то переводишь. Выписал столько». А он: «Другие больше пропивают».
Я положила газеты на стол, разделась.
– Перебрать надумала. Залежалось все – сколько лет не заглядывала.
Из сундука пахло ягодными конфетами. Тетя Шура доставала рушники, разглаживала их на коленях.
– Давнишние. Развешивать не развешиваем, и руки вытирать жалко. Это солдатики, – говорит тетя Шура, трогая ровный рядок угловатых человечков с острыми штыками.
Лицо ее мягчеет. Разглаживаются широкие рябинки на лице. И я почему-то отчетливо представляю, какие у нее были глаза, когда она была девчонкой. Показывая вышивку, тетя Шура как бы предчувствует, что не приму я старую красоту их, и с доброй насмешливостью осуждает ее со стороны.
– Это я в девках была – вышивала. К ним кисти не идут. Тоненькую дорожку прореживали. А этот праздничный – с кистями. Весенний. Не нужно стало… Холст-то сейчас свободно в любом магазине. А трудов за ним было… Лен выстелешь, мнешь. Напрясть надо. Потом ткешь. В избу стан поставишь – на два месяца. Повернуться негде. Холст в щелоке мочишь. Потом на солнце отбеливаешь.
– Это что-то у вас красивое? Черное.
– А накидка на стол. На белую скатерть.
Тетя Шура разворачивает вязаную сетку и накладывает угол на рушники. Сетка, как невод, с широкими ячейками. Ячейки затканы шерстяными нитками выборочно, как модерновый пластмассовый пол в современных зданиях. Если цвет пластика линяло-глух, то эта рельефная шерсть звонкой раскраски, как бархатистая расцветка бабочки.
Уютно в избе тети Шуры, и она сосредоточенно мягка у своих нарядов. Вдоль стен цветы в кадках. Фикус со свеженькими листиками, трубочкой развернувшимися у потолка, зеленый дым путаной «кудели» на деревянном диване против окон. Диван зовут здесь «конопель». Он весь заставлен горшками и старыми ведрами, в них длинные языки зеленых перьев, из центра которых поднялся высокий столбик с тремя рубиновыми колоколами в стороны.
– А это мы поневы так ткали.
– Шерстяные?
По черному тканью – широкая клетка нежной голубой ниточки.
– Это же самое модное сейчас в городе. Знаете, девчонки щеголяют. Юбку сошьют колоколом.
– Это я себе на смерть приготовила.
– Как на смерть?
До меня доходит жутковатый смысл ее слов. С оторопью я смотрю на сложенную отдельно стопку одежды – поневу, рубашку длинную, узкое покрывало.
– Чтобы в этом положили, – спокойно, как о давно решенном, без мистических ассоциаций сообщает тетя Шура.
«Как можно это готовить? «Себе»! – меня пугает сознательная готовность. – Делать и не кричать в отчаянии. Самой».
– А кто для меня что потом искать будет? Это я уже примерила.
– Как вы можете, тетя Шура?
– И… и… Тебе это страшно. Ты еще вон какая…
Она улыбается, отводит разговор в сторону.
– А это сыновья деду прислали. Костюм. И брюки вот. А дед никак не хочет надевать, не любит. Говорит: «Наденешь – и ни на пенек не сядешь, ни на ограду. Испачкать сразу не хочется».
Любит старые – в заплатах все. «Вот это по мне. В них я как субчик. Что хочу делаю. Свободный». Правда, на праздник когда просит.
Тетя Шура берет с пола мятый мешочек, кладет на колени.
– Что я еще тебе покажу? Это сыновы.
Достает завернутые в тряпицу погоны и ордена. Они гремят, как гвозди в мешочке. Крупинки сахара на них от конфет.
– Не взяли с собой. Пусть, говорят, дома остаются. Сколько уже в городе живут, а деревню все своим домом считают. И что так людей по свету носить стало? Учатся, учатся… Выучатся, и больше их для матери нету. Теперь легко семьи зорятся. Вот и ты приехала. Интересно тебе сидеть около чужой старухи, молоденькой такой?
Вдруг она оживилась.
– А ты газету-то читала? Вчера старик принес. Говорит, ты написала. Про нашу деревню.
– Где?
– Поищи там. Он ее за столом в руках трес.
Я залезла на скамейку, сняла с полки верхний слой газет. В последнем номере на весь подвал статья Е. Холшевниковой.
Я поймала глазами первые строчки столбца.
IX
Пыльный термометр на котле тускл. В нем незаметны даже деления. Верх кочегарки пылен, и на темные углы потолка не хочется смотреть.
Я люблю ночи наедине с собой. С замшевой мягкостью светится пыльная лампочка. Мне хочется, чтобы все уходили быстрее из кочегарки, чтобы можно было думать о работе, что осталась на мольберте. Я ее должен выходить по земляному полу из угла в угол, насладиться ею до усталости. А если оставлял дома замученный кусок, то не мог спокойно оставаться здесь. Я швырял уголь в печь и злился, что он долго не разгорается. Хотелось немедленно бежать, уничтожать мастихином, избавиться от того, что там у меня есть. Ни секунды не хотелось сознавать, что оно есть. Так есть.
Ровно по всем колосникам горит уголь. Я не закрываю дверцу. Жар падает на руки, стягивает кожу. Я сижу и думаю… Днем кочегарка вроде беспрерывной импровизированной летучки.
Утром Дмитрий Алексеич отпустит горячую воду шоферам и сидит на перевернутом ящике. Тарахтят остывшие моторы, вбегают в кочегарку трактористы.
– Дед, давай своего!
Утром трактористам всегда некогда. Они затягиваются самокруткой и всякий раз удивляются:
– Самосад покурю – весь день помню. А на папиросы только злюсь. До конца не пробирают…
– Как вино. А у деда – «Московская». Он в этом толк знает…
Дмитрию Алексеичу видно, как нравится трактористам быть в кочегарке. Прохладный, чисто подметенный земляной пол, огонь в раскрытой дверце.
Им разъезжаться по дорогам, везти на поле навоз, ехать за силосом. Они залезут в кабины, будут смотреть на медленно набегающую серую ленту, подавая еле заметным движением на себя рычаги. Руки будут дрожать от ровной работы мотора. Исчезнет то неторопливое беспокойство, что всегда преследует их, пока не заведут мотор. Потом беспокойство это отпустит.
– Ну, дед, и работу ты себе выбрал! «Не бей лежачего». Поменяться с тобой, что ли? Подкинул уголька и жди…
– Ты бы напортил здесь все, едят тебя мухи. Наверно, опять сегодня последним поедешь…
– Ты меня, дед, не критикуй. А то мой трактор сюда повернут, а тормоза, бывает, отказывают…
Дмитрий Алексеич скучнеет, когда все разойдутся и он останется один.
– Мы думали, ты в городе остался, – встретил он меня. – Все привез?
– Привез, – сказал я, – Как вы здесь?
Дмитрий Алексеич оделся и сел, положив рядом шапку.
– Сколько там пожил?
– Неделю. Я за вас эти дни отработаю.
– Об этом разговора нет. Раз тебе надо было.
Стеганые брюки на коленях у него блестят, а кожа на пальцах рук залощена до желтой эпоксидной прозрачности.
Я смотрю на его пальцы, и мне кажется, что ощущения их атрофированы и прикосновения их к дереву будут слышны.
Я не пойму, что держит его сейчас в кочегарке, и его деликатность не позволяет сказать это.
Когда я шел, увидела меня тетя Шура, крикнула из ворот:
«Андрюш, сменяться? Гони быстрей старика… Нам письмо Миша прислал. Он его ждал. Обрадуется».
– Значит, с неделю ты там?
Он смотрел в землю, скособочился и достал из кармана кисет. Начал разворачивать машинально. Без кисета я его почти не видел.
– Мне вот что непонятно… Учили тебя… Денег на тебя государство затратило. Кого же оно из тебя приготовило? Кем ты для него должен быть? Со мной уголь кидаешь, а от чего ты убежал? Не зря же оно тебя учило? За учебу ты должен рассчитаться… А оно тебя кормить должно. Есть же у вас такие, что своей работой живут, своим делом? Или все так?
– Есть…
Я рассказываю о Корине, Пластове, о переполненных запасниках музеев, о творческих дачах художников, о художественных цехах, где художники конвейером выполняют заказы школ на изготовление копий портретов. О надеждах на лето, на свободные месяцы, что «вот заработаю на хлеб, тогда что-нибудь начну»… Проходит лето – там подвернулся хороший фондовый заказ, и надежда начать все отдаляется. А потом вдруг выясняется, что даже так не можешь начать, как умел. На сотню человек, получивших специальное образование, – пять человек остаются художниками. Остальные… Кочегарят, в общем.
Дмитрий Алексеевич уходит. Я остаюсь один. И ничто не мешает мне думать.
Я вижу белый нетронутый фон, смутное, ускользающее видение чего-то неясного, что должно быть у меня. Я еще не знаю, что это будет, но я вижу это, и мое нетерпенье уже торопит ночь.
2 марта.
Юрка вернулся из правления быстро. Неодобрительно сказал:
– Председателя в райком вызвали. С парторгом. По поводу статьи. Вот чертыхнулся! Мне еще и сейчас не по себе. В общем, с тобой не соскучишься.
3 марта.
Сказали, что машина в райцентр пойдет через час. Мне нужно походить по магазинам и успеть в районо. Я жду в конторе. На стене длинный, как простыня, табель учета трудодней. Я читаю графы: январь, февраль. Очень наглядная агитация. У свинарок по семьдесят пять трудодней за месяц, как у механизаторов. Было утро. Я села к окну. По дороге трактор тащил сани с флягами. Алюминиевые бока тускло вспыхивали на солнце. Мальчишки с сумками догнали воз и упали животами на фляги. Прокатившись, соскочили и направились к школе. Я узнала Санька. Без пальто, в мышиной распахнутой форме, низко опущенной сумкой он бороздил по снегу.
Овечка с ягнятами каким-то чудом залезла на крышу, топчется на сене, и беленький ягненок прыгает вокруг, останавливается и далеко засовывает голову под ногу матери.
Звонит телефон. Мужчина притушил о плиту папиросу, лаконично ответил: «Нет его. Уехал. А он на месте не сидит».
Всегда – уехал.
Председательский «козлик», хрустя сухим ледком, остановился у крыльца.
– Уже здесь! – сказал восхищенно мужчина. – Ну и носится! Замотал шофера.
Другой, в измазанной брезентовой куртке, улыбается:
– Иван вырваться не может. Говорит, курить отучился – за день папироску достать некогда.
– Зачем машина-то в район идет?
– Он дисковые пилы достал.
– У шефов?
– И здесь успел…
Председатель кивнул молча и прошел к бухгалтеру. В серой шапке крупного каракуля, с немолодым обветренным до темного лицом. Голубые глаза на нем казались выцветшими. И были они строги, не расположены к улыбке.
Я знала его отношение ко мне – этакое взрослое подтрунивание. Он как бы радовался разговору со мной и не сомневался, что я-то его шутки пойму. Сегодня председатель меня не заметил. Может, и не исчезло бы доброе восприятие утра, если бы не этот разговор, неожиданный и все перевернувший во мне.
В этот день я так и не поехала в район. Началось со статьи. И первые слова ошпарили меня. Нас сразу же разделила стена неприязни. Хотя Петр Сергеевич и крепился, держался в пределах такта, я почувствовала, что мы все понимаем и видим по-разному. Полюса наших позиций четки. И я собралась вся. Собралась отстаивать себя, потому что здесь не могло быть компромисса.
«Ты приехала. Пожила три месяца. Посмотрела на все с крыльца и поняла… Ах, какая я умная, а все…»
«…и строится благополучие достатка на недоверии. А жизнь, которую делаем мы, предвидим, предполагает вознаграждение нашего ума и наших дел. Честное вознаграждение за нашу отдачу.
А если не гасится тяга прибавлять к своему личному достатку еще и колхозный, не пресекается, а поощряется общей стихией, то разрастается злокачественная опухоль нечестности. Как тогда жить с этим?»
– Духовные утраты необратимы… Так? – спросил председатель и глянул на меня в упор. Нет – мы не были с ним друзьями.
– Что за самонадеянность… Начитаются… В пеленочной мудрости сами себя уведут куда-то, а потом опомнятся, сообразят, что их не понимают, и давай накручивать, поучать… Вот уж действительно по пословице: «Яйца курицу…» И ты… Написала… А сама-то еще даже скорлупку не пробила. Знаешь, как это называется?.. Палки в колеса. Приедут вот такие… Накладут прямо на дороге… – он замялся, – и объезжай.
В глаза это он не мог сказать – сказал в стол, будто кому-то.
– Ты от имени людей говоришь. Что они ждут… Что им надо… А я здесь уже шестой год с ними и знаю не только то, что им надо, но и… Я изыскиваю способ, как из прорухи вылезти, научиться дыры затыкать. А что ты предложила? Чем нам помогла? У меня уже за эту картошку без тебя выговор по партийной линии.
…Духовные утраты необратимы… Ты знаешь, что вот Безлепкину надо? Сейчас он в конторе стоял… Я его осенью с трактора снял… Его послали боронить, а он уехал на другое поле культивировать – выгоднее было. И ведь знал, что поле нужно к утру готовить. Рвач он… Вот где утрачиваем. Снять-то я его снял, а у него шестеро детей. Четверо в интернате в школе. Им нужно четверо пар сапог да вторую обувь. Каждому пальто да школьную форму. И заплатить за интернат за четверых. А где ему взять деньги? Я ему их должен дать, он их у меня заработал… Должен дать…
Он вчера напился и подступил: «Почему трактор не даешь? Детей с учебы сорву – отвечать будешь». Видишь? Я отвечать буду.
Я ему обязан каждый месяц деньги выдавать. Где я их возьму? Подскажи! Выговор мне дали, а денег шиш… Ты меня долбанула – и в стороне. А что мне теперь делать? Понимаешь?..
И вдруг он будто устал.
– Я попросил бы тебя. Ты же случайная здесь. Не мешай… – У него было издевательски усталое выражение. – У меня ведь тоже образование не ниже твоего, только я еще знаю что-то… И увидел это не с крыльца. Так по каким же законам ты начинаешь меня судить?
Он уже овладел собой, горячность спала, и у него появилась возможность сожалеть о запальчивости.
Я не возражала ему, сидела ошеломленно-покорная, он уже давал понять мне, что никаких умозаключений моих всерьез не примет.
Я не убежала. Скованность удержала меня, позволила прийти в себя и дала возможность спокойно высказаться.
– Если даже вы, с вашим высшим образованием, ничего не поняли из того, что я хотела сказать, и возмутились до состояния невменяемости, то, конечно, здесь трудно…
Ни на кого я не накидывала петлю. Я попыталась разобраться, предостеречь. Помочь. И дело вовсе не в торговле, а в зарождающейся тенденции к духовной изоляции. К вам у меня претензий нет. Все гораздо сложнее.
Так отчего же разговор об этом выводит вас из себя? Может, я не имела права вмешиваться? Я моложе. Но я не знала, почему еще нужно объяснять кому-то, что ответствен человек не только за то, что он способен сделать, а и за то, что он видит несовершенство жизни и не старается быть в стороне.
Еще не известно, кто будет прав в нашем отношении к жизни и чья оценка запросов людских будет точнее. Но кому я должна доказывать это? Ему? Ведь он будет оспаривать меня конкретным знанием жизни, а у меня только предчувствие.
Я за человека, намеченного в моей душе, за человека, которого я предвижу, в которого верю. Это лично мое. Это не постороннее.
Я буду здесь.
И еще представится возможность нам увидеть, что духовная высота людей проявится не в тех границах, которые отвели им вы. Еще увидим…
Я сказала:
– Значит, вы здесь человек заинтересованный. А мне места не отводите? Вам не кажется, что я уже здесь не зря даже потому, что вот такой разговор произошел. Он должен был быть. Когда ваша запальчивость уляжется, то о чем-то вы подумаете совсем иначе.
Если вынести наш разговор на суд людской, еще не известно, какой резонанс он получит и кто будет более уязвим.
– Какого разговора ты хочешь? Чего ждешь? Моего осуждения?.. Кем?.. Ничего вы не понимаете здесь. Случайные вы в деревне.
– Муж агроном. Я учительница. Специальности не второстепенные для деревни.
– Агроном! Какой он агроном… – Председатель язвительно хмыкнул. – Сельскохозяйственный балласт. Временщик в спортивной командировке. Я голос потерял. Кричу, бегаю… Это же его дело – быть хозяином, а не гостем. А он сидит себе на телеге – прутиком по голенищу постегивает. Дождь. Заморозки. Снег полосу того и гляди завалит. Пшеницу свалило – не знаем, как ее взять, закрутило всю. А он – прутиком по голенищу.
И я вдруг в это сразу поверила. У меня упало все. Я думала… Я оправдывала свое существование здесь тем, что мой муж отдает себя работе, которую избрал, любит, принят ею. А оказывается…
Наша жизнь с ним в деревне – прутиком по голенищу. Безжалостная оценка.
Машина остановилась за воротцами у конторы.
– Екатерина Михайловна! – кричали мне. – Ждем.
На машину уже подсаживали какие-то мешки. Я соскочила с крыльца и побежала домой.
2 марта.
Поросят грузили с вечера, пока не стемнело. Свинарка ловили их за ноги и подавали в кузов. Они бегали по машине, стучали о доски и сбивались в углу.
Ловить старались ровненьких, чтобы покупатели не придирались: «Все одинаковые, по четырнадцать килограммов».
В машину погрузили по сорок штук. Натянули тенты.
В семь часов вечера три машины подошли к правлению колхоза.
До города семьдесят километров, два часа езды. На базар выезжают в субботу, чтобы перед открытием в воскресенье быть уже там. Ночами заморозки. Постоишь ночь у закрытых ворот рынка, замерзнешь и поросят простудишь. У них ноги тогда отнимутся.
– Если сейчас выедем – в десять часов будем у рынка. И ждать до шести утра?
– Поедем к председателю.
На каждой машине по два человека – торговать поросятами. Один поросенок – семьдесят пять рублей. Еще очередь за ними.
– Там стоять долго, – сказала Лида Бессонова председателю. – Поросят зазнобим, они на ноги не станут.
– Что вы предлагаете?
– Часа в три поедем. К открытию.
– А здесь? Теплей, что ли?
Логика колхозников председателя озаботила. Он уже не настаивал на немедленном отправлении машин и еще не знал выхода. Он отвернул тент, поднялся на колесо и заглянул в кузов. Поросята, набитые тесно, как белые булыжники, сдавливали друг друга боками. Он потрогал их в темноте – теплые, податливые спинки. Они хрюкали у него под пальцами, и визг, как рябь по воде, прошел по машине.
Председатель соскочил.
– А если… Ну-ка сбегайте за Макосовым. Давайте в гараж.
И пошло оживление.
– В три часа отправитесь. А пока пусть постоят в тепле.
Две машины ввели в гараж, а третья не входила – дуги высоки. Мучились, мучились – чуть дуги не сломали о верхний косяк. Оставили на улице. Откатили. Постояли рядом, досадуя и не находя выхода.
– Ладно. Подоткните получше тент. Пусть тут стоит. Только почаще проверять приходите.
Вместе со всеми председатель ушел домой. Сопровождающие перед отъездом в баню сходили. Часа по два успели поспать. Оделись потеплее и к трем часам были на месте.
Открыли гараж. Петр Ларин зашел в темноту, поднял тент сзади, потрогал на ощупь.
– Спят. Крепче нас. Э!..
Сережа Чекин вывел машину. Лида Бессонова залезла в кузов, расталкивая и выбирая, куда поставить ногу.
Ничто не шевельнулось.
– Ой!.. – Она нырнула под тент. И показалась снова быстро и молча. На нее глянули и полезли в машину. Поросята были мертвы.
Бросились к другой машине, что еще стояла в гараже, и там, под тентом, не было движения. Поросята еще теплые. Раздвигали их, безжизненных, они ударялись о кузов головками. Рты их открыты. Ноги, прижатые к животам, затвердели.
Только в машине, что не вошла в гараж, поросята визжали и жались друг к дружке боками. Из ста двадцати поросят, отгруженных на продажу, – восемьдесят задохлись от газа.
Ночью сбегали за председателем. Утром вся деревня возбужденно жила тягостным событием.
23 марта.
В моих генах, повторенных в десятом поколении, наверное, есть что-то от крестьянки. Иначе отчего же так невыносимо близок мне запах обожженного помела, когда тетя Шура подметет им под и проносит по избе в сенцы. Еще тлеют сухие листики и пахнет горячим хлебом, золой, распаренными прутьями. И этот запах стоит в избе, и в сенцах, и над всей деревней утром.
Я сижу на скамейке у стола, ловлю его исчезающую теплоту, и мне становится грустно, словно что-то чувствую в себе и теряю.
Выхожу на улицу. Из труб падает дым. Не идет вверх, а расплывается, сваливается с крыш на воротца, а под ним движется тень по снегу, и глазам мягко смотреть на эту тень, свет там не так тепел и резок. И дым с нежным запахом помела и пода бережно клубится над головой, оседает за плетень.
За избами, на оттаявших пятачках соломы, расхаживают куры, выпущенные уже на солнце.
Красный петух, широко расставляя ноги, разгребает солому под собой. Вскинет голову и начинает ходить важно, грудью вперед, как шаржированный жених из хора имени Пятницкого. А атласное оперение его на шее плывет, плавится в беспокойном движении, и тяжелым лоскутом дрожит рубиновая бородка. Он прыгает на изгородь, на жердь, как здесь называют палку между стянутыми кольями, декоративно топчется и высоко вскидывает голову.
Потом откуда-то издалека, из-за серой купы черемушника, от дальних дворов слышится поспешный и длинный голос ответного крика.
Он будто навстречу мне. И не в глазах, а где-то глубоко начинаются во мне слезы.
Ах, книжные университетские девочки. Я понимаю ваши улыбки. И все-таки вы никогда не узнаете о моем ощущении жизни. О нем вам никто никогда не сможет рассказать. Современная литература боится быть сентиментальной.
А этим утром я живу беспокойным сочувствием. Вижу лицо Лиды Бессоновой, замедленное, горестное топтание у двери Дмитрия Алексеича, когда он, мешкая, развертывает кисет. Тетя Шура видит его и настораживается у стола.
– Мать… – скажет он, и от этой интонации его опустятся у тети Шуры руки с фартука.
Еще ничего не ведающая женщина принесет яйца из стайки в поле телогрейки, а в избе уже ждет ее соседка. Она здесь наскоро, не застегнута.
– Я к тебе… Кума, ты уже знаешь?..
– Что случилось-то?..
Избы полны напряженным недоумением. «Кто?» «Как же это могло случиться?» Здесь каждой клеткой сознания знают цену потери, цену одного поросенка, одного вздоха его жизни, одной его кормежки.
«Кто? Теперь кто виноват?»
Здесь каждый судья. Своя мера вины.
– Сторож-то где был?
– С девчонки какой спрос?
– Нагрузили, а сами в баню.
– Черт его знает! Разве подумаешь про бензин этот.
– С председателя теперь взыщут. Сам-то он никому не спускал. – Я даже слышу градацию их голосов. И в разговоре этом не городская пассивность, не безучастное сочувствие.
Еще ничто не осмыслено, не выяснено, не определена мера морального приговора. А он будет. Потому что потери колхозные здесь – беда каждого. И все мне кажется, что к беде их я теперь тоже причастна.
28 марта.
Целый день по улицам деревни моталась «Победа» из редакции местной газеты.
Вечером у нас под окнами прокричал клаксон.
Я увидела Юрку с корреспондентом. Они разделись У двери.
– Случайно от вашего мужа узнал… Так это, оказывается, вы Холшевникова?
Корреспондент коротенький, с круглым лицом. Лица его как бы не было… Нет, оно было, но его не было видно. Был виден новенький университетский ромбик на залосненном лацкане костюма. Он его даже, кажется, не докрутил, чтобы тот сильнее выпирал.
Корреспондент достал мягкий блокнот, положил рядом на стул. Он довольно пыжился. Своим образованием был полон взахлеб. Наверное, заочник.
– Материалу собрал на целый очерк. Ну, председатель ваш делец… И люди ему под стать. Замкнулись. Ни из кого слова не вытянешь. Круговая порука. – Он возмутился. – Сегодня же материал этот обработаю. Только газета наша мала. И другого профиля. Специфика не позволяет… Все отступления вытравливаются.
Он показал, как вычеркивается что-то из газеты, нажимая на мнимый карандаш.
– Попробую углубиться тоже. И пойдет… Только масштабы не те…
Он смотрел на меня, как бы давал понять, что мне должно быть известно, о чем он говорит.
– Толковый у вас материал получился. Чисто… этические проблемы, – он обрадовался находке. – Мой, конечно, будет конкретней. Мало еще здесь нас таких, – сказал он убежденно. – Мы бы всю домостроевщину растормошили. Ваш Измаденов божок. Хотел с ним побеседовать… Захожу. Он знает меня, конечно. Увидел, но одевается. «А что со мной разговаривать. Вы же с другими говорили». Говорил. «Вот и… Другие обо всем лучше моего знают». Ушел… Ну ничего…
«Еще один умный, – думаю я. – Железно уверен, что делает доброе дело».
Его ромбикового образования не хватило, чтобы оценить мои ноги и их откровенное покачивание у его колен. Он не знал, хорошо это или плохо, даже среди «корреспондентов».
Юрка недоуменно насторожился.
– Надо еще к этому парню заскочить, к художнику. Здесь у вас живет. Может, правда что стоящее. В газету сосватаю. А ты, Юрий… Когда у тебя показательные выступления? Сообщай… Знаешь, как это подадим! Первое начинание в районе.
Ромбик у корреспондента был значительный, новый, не истертый, как галстук у подбородка. Очень яркая визитная карточка.
Он оделся.
– Надо бы нам побольше общаться. У нас там глушь, а здесь, наверно, воете?
Он уехал.
Почему-то было ужасно стыдно, словно меня высекли.
2 апреля.
Юрка говорит, что любой технически грамотный человек должен знать, что маленькая доза бензиновых испарений для животных смертельна. Последствия можно было предвидеть. Я не поддерживала разговор с Юркой об этом. Мне было безразлично все, что он говорил. Какое-то отупляющее равнодушие расслабило меня, и я в себе не проясняла это до времени. Будто лишилась чего-то очень главного и все оттягиваю, оттягиваю, что-бы не увериться в своем предположении.
– Председатель собирает общее собрание. Здорово он погорел, – сказал Юрка.
Я ничего не ответила.
– Юрка, а ты точно уверен, что сам эти машины не загнал бы в гараж?
Юрка вопросительно уставился на меня.
– Почему ты не подсказал?
– Я не телепат… Не предчувствую, что может в деревне произойти.
– Значит, ты просто не знал и не успел предупредить, а как технически грамотный человек не сомневаешься, что маленькая доза бензиновых испарений для животных смертельна. Просто ты не знал, что в деревне делается…
4 апреля.
Что я ждала… Я понимала, что сама не готова к оценке. Выход не нашла бы и хотела повзрослеть сейчас, рядом с людьми. Я верила в их духовную зрелость. И надеялась… Надеялась, что все мои размышления в статье не пройдут даром.
Пронька и Безлепкина на собрание не пустили. Председатель распорядился – пьяных выводить. Пронек кричал в дверь: «Бражка собралась? Да? Все снюхались! Знали, кого удалить».
Пнул два раза в закрытую дверь. Не носком, а подошвой, и ушел.
Председатель сидел в стороне. В разговор не включался. Вид у него мятый. И докладывал он собранию бесстрастно:
– Вы все знаете, что в субботу была отгружена партия поросят, сто двадцать голов на три машины. Сопровождающими назначены на одну машину Лида Бессонова и Иван Белов. На другую – Петр Ларин и Герасимова. На третью – Вера Назарова с Белоконем. Ночью, перед отправкой на рынок, две машины поставили в гараж, одну на улицу. Восемьдесят поросят задохнулись. Живы остались только на машине Назаровой и Белоконя.
Поросята весили по четырнадцать, пятнадцать килограммов. Продавали мы их по семьдесят пять рублей. Значит, колхоз потерял шесть тысяч рублей. Решение этого вопроса я выношу на собрание. Оно должно решить, куда отнести убытки. На чей счет.
Председатель сел.
В зале было тихо.
– Можно спросить у Ларина? – Не видно было, кто говорил, но голос слышали все отчетливо. – Когда машины подошли к конторе, кто распорядился поставить их в гараж?
Ларин поднялся. Белую толстую кепку смял в руке, оперся ею на спинку стула.
– Председатель Петр Сергеевич.
– Правда, Петр Сергеевич?
– Правда.
– Еще Ларину. А приходили их проверять ночью? Ты или Лидка? Мороз же?
– Нет. Мы думали – в тепле.
– А у Белоконя на морозе.
– Я приходил раз. Смотрел своих.
– А тех не слышал?
– Там тоже визжали. Больше моих.
– Они задыхались уже! – крикнули из зала. – Караул кричали! А никто не сообразил… Головы!..
– Я скажу. – Белоконь поднялся от стола. Он был в президиуме. – На нашей машине поросята остались живы. Но это случайно. Здесь моей заслуги нету. Мы машину не могли в гараж загнать. Если искать виновных, и моя вина выходит такой же, как их. Моя машина еще в худшем положении была. Мы с ней как бы не справились.







