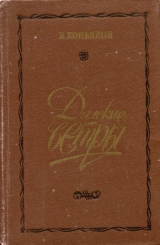
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
– Дурак, – шепчет кто-то за спиной.
– Дерябнут с него, будет отдуваться.
– Значит, на одного человека нечего валить. Все на равных были. Кого виноватить?
– Как – кого виноватить? – соскочила бойкая доярка. – А мы за двух коней плотим. Нашли виноватых. Нам не спустили… Лошади сами объелись, а на Пашку насчитали.
– Сравнила! На Пашку… Пашка выгнал коней за деревню, а сам пить…
– Ты ему подавал?
– Ладно! – Перебранку прервали. Доярка села.
– Что получается? Я с места. А то тут ног много – не пролезу. Шесть тысяч прошляпили. Если старыми деньгами – шестьдесят. Можно купить три трактора. Если такими кусками будем колхоз раскидывать, что получится? Я думаю, виноватых надо найти. Поровну раскинуть на них на всех, а не на одного председателя.
– Прям, – всполошилась Лида. – Я-то что? Только смотрела. А мне их еще больше всех жалко. Своих на машину ловила.
– Председатель человек образованный, должен знать, что в гараже пары бензинные. Это каждому шоферу известно. Он подумал об этом?
– Нет, не подумал, – кашлянув, сказал глухо председатель.
– Так вот надо, думал чтоб…
– Я больше с поросятами не поеду! – крикнула женщина с толстой шалью. Поднялась. – Других посылайте. Душа болит, не знаешь, куда деться. На людей глядеть боишься. Мы привезли поросят шефам, заехали во двор на шахту. Люди машину окружили, ждут. Поросята такими маленькими показались. Когда цену назвали – нас бабы чуть не разорвали. Мужики мешки свои свернули, зашумели. Нас так домой и отправили. Даже сами борта закрывали. Теперь лучше к шефам не заявляйся. Выгонят.
– Ты давай по существу. Рассусоливаешь!
– А я по существу. Послушали бы, как на базаре народ ругается. Одна женщина купила у нас поросенка, принесла домой, а он у нее на ноги не встает, то ли обморозился, то ли от тряски. Она его притащила обратно, стала деньги требовать, милицию пригласила. Кричат всегда: «Паразиты, торгаши». Хоть сквозь машину проваливайся. Мы когда с базара едем – меж собой возмущаемся, а здесь молчим.
– Ладно… Не уводи собрание в сторону.
Женщина оглядела ряды, но не нашла, кто ее одернул, ненавидяще села.
– Кричим, кричим… А кого выкричим? – грузный мужчина в шубе-борчатке прошел по ряду, прихрамывая, волоча ногу, остановился у сцены. – Это навалилась на нас стихия. Председатель не предусмотрел. Он машины зачем в гараж ставил? Чтоб теплее. Заботился об общем деле. Даже когда ему надо дома быть – он сам машины затаскивал. Теперь мы его ударим, у него руки опустятся, он трекнется и бросит все. И кому мы этим напортим? Я думаю, это дело надо загасить и сообща как-нибудь справиться.
Женщины, что сидели рядом со мной, непроизвольно прокомментировали:
– Справимся… Легко как… Ты их видела, мертвых-то?
– Прибегала. Смотреть страшно. Ровные, как один. Да их сразу же председатель на птицеферму отправил – курам на корм.
Я сидела и слышала, что зал, как единый организм, активно и мучительно подбирался к истине. Кто-то сказал вслух, не поднимаясь:
– В государство надо было сдать, Поросята бы росли, и мы деньги получили бы.
– Т-ш-ш-ш… – зашикали сзади. – Тише ты. Еще не насдавался. Подскажи… Это легче легкого… Сдал и весь год носом шмыгай.
Председатель молчал, смотрел перед собой. Лицо его было безучастно, и собрание его не чувствовало.
Мнения качали зал, как лодку-болтанку, – то вспыхивали, то вдруг затаивались. Я была в эпицентре общей беды. Я видела себя на городском базаре, подходила к торговке, что с неприступным терпением сфинкса продавала карандашной толщины связочки укропа по пятнадцать копеек.
– Это же на один борщ не хватит – и пятнадцать копеек? И на старые деньги такой пучок пятнадцать копеек стоил.
– Иди, иди… Дорого… Ты его сама порасти, – считая меня дурой, с уничижительным превосходством отгоняла торговка.
Она знала, что я снова вернусь к ней и куплю этот ее укроп. Я покупала. Но испытывала ли она радость, когда я уходила от нее с покупкой? И могла ли я сейчас упрекнуть этих людей в чем-то? Это их жизнь. От этого зависело их благополучие.
Я думала: «Неужели им все равно, как приходит к ним достаток?»
А в зале искали виновных, что должны пополнить потерю.
И когда предложили: «Передать дело в суд. Прокурор разберется, найдет и правых и виновных», – настороженно притих зал.
– Дурное дело нехитрое.
В притаившейся тишине люди почувствовали, что установившийся порядок жизни их под угрозой.
Тогда стали голосовать.
«Кто за то, чтобы гибель поросят отнести за счет стихийного бедствия, прошу поднять руку».
Голосовали. Почти все. Против не было. Против не было даже руки той доярки, что со слезами кричала с заднего ряда.
Вот тогда у председателя и появилась живинка, хотя в ней еще не было прежней силы.
– Товарищи колхозники. Все собрание я молчал. Вы, вероятно, сами заметили. Это, чтобы после не говорили, что я давил на собрание. Я ни слова не сказал. Вы все сами решили. И я верил, что вы решите по-справедливому. А теперь я скажу. – Он подошел к краю сцены. В голосе его уже была доверительность. – Ущерб наш не на ту сумму, которую я назвал вначале. Если бы его начислили на меня и других, если бы за него пришлось расплачиваться, то фактическая наша потеря совсем другая. На базаре мы продаем поросенка по семьдесят пять рублей, но государственная его стоимость – двадцать пять. Все колхозы сдают мясо живым весом по этой цене. И мы свой план сдали по такой же цене. Значит, убыток наш не шесть тысяч в базарных ценах, а две тысячи.
Вы теперь опасаетесь, что, мол, нечем нам будет рассчитаться на трудодни. Раз так… Я обещал. Раз обещал – то найду. Сотню поросят мы еще продадим. Как я выяснил, в ближайшее время в области поросят ни один совхоз продавать не будет, а последними постановлениями правительства разрешено в городах держать скот. Мы используем создавшуюся конъюнктуру, и сотню поросят у нас возьмут даже по восемьдесят рублей. Поросята у нас хорошие. Значит, и в этом месяце на трудодни вы получите.
Все было правильно… Люди сообща решали свою жизнь.
А мои чувства были неопределенны. Мне казалось, что-то произошло недоброе. Что я ждала? Ведь все было правильно, все было честно. Люди имели право так решать. И решение их было самым гуманным. Но решали это они – будто знали, что идут на что-то неузаконенное, с потайной оглядкой, и идут сообща.
И мне не нравилось это их «сообща». Не нравилась тенденция что-то решать таясь. Тенденция решать шепотом. А ведь я думала, что это для них я писала статью о Чекине, о внуках деда Подзорова.
Но меня не помнили. Люди себя не пересматривали. Председатель знал, что у них глубоко, а я была легка, как поплавок, со своими идиллическими надстройками.
X
– Ты когда приехал-то?
– Утром.
– Не отдыхал. Холст какой натянул! Что ли, большое хочешь начинать?
Мама постояла и призналась:
– Я посмотрю, как мужики приходят на твои картины смотреть. Сидят перед ними смирно, у меня и горе будто проходит. Думаю: хоть и денег у тебя за них нету, все равно пусть смотрят. И даже радость какая-то. Мужики – они ведь серьезные, им все всегда много знать хочется. А тебе, если в деревне понравилось, и работай. Как-нибудь проживем… Ой, что я стою?..
Она будто испугалась, но от усталости ничто в ней не встрепенулось.
– Ты и не ел ничего, наверно?
– Побудь немножко со мной, мама. Я давно тебя не видел, не смотрел на тебя. Когда-нибудь мы с тобой получим деньги. Много денег. Кофту тебе купим – самую лучшую, какие только есть на свете. Платок оренбургский – мягкий и красивый, – ты никогда таких не видела.
Мама смутилась от непривычного внимания, хотела уйти.
– Ты и так много чего-то навез в коробках.
– Краски.
– Все деньги, наверно, истратил? А в рубашке какой уехал, в такой и приехал.
– Вот и нет. Какие ботинки купил! Сейчас покажу. – Я достал чехословацкие туфли. – Нравятся?
Мама молчала в тихой обалделости.
– Ой… нехороши. Носы шибко острые, как на смех… Клоуну. Надеть стыдно.
– Сейчас такие носят.
– Носи, если тебе хорошо. Только в деревне ведь, если наденешь, мне все равно будет стыдно.
– Ладно, ма, обещаю – при тебе не надену.
– А мы сегодня картошку перебирать закончили. Изнастались. Пойдем есть. Щи из печки доставал? – Она открыла заслонку. – Пока ты ездил, ой, что здесь было! Катя Холшевникова в газете про нас написала, И про Подзорова, и про Чекина. Вся деревня читала. Голумели три дня. Она ведь теперь учительницей работает. А Пронек встретил в конторе Чекина, возьми ему да скажи: «Ну как, газету видел? Теперь с тебя борчатку снимут». Сережка Чекин собрался со своими дружками, напился в воскресенье и пришел к клубу Пронька искать. А там плотники из города деньги получали, домой собрались, и тоже пьяные, Те, дескать, городские, а эти наши – боксеры, агроном их учит. Ну, слово за слово – и… что тут началось!.. Губы поразбивали, кровища льет. Один плотник на машину залез, наши за ним. Он цепью отмахивается, бьет по рукам – весь кузов искрошил. Тут Юрка прибежал. Без шапки, в свитере одном. Кричит: «Перестаньте, перестаньте», – а его боксеры все лезут. Он тогда как давай их сам… Как кого ударит – так падают. Дрались страшно. Председателю это не понравилось. Хорошо, что ты в городе был, там, поди, такого нет – у нас только.
10 апреля.
Андрей зашел и поставил авоську на стол. Достал из сетки три бутылки «Рислинга» и свертки в упаковке гастрономов.
– Откуда? – удивился Юрка.
– Из города. Зашел перед отъездом в магазин, смотрю, ну и… не устоял. Дома одному сидеть не хочется.
Я разворачивала колбасу и сыр. Студила ладонь целлофановая обертка «любительской». Я была рада сегодняшнему вечеру. Появилась студенческая праздничность, когда нет ни к чему претензий и просто радуешься случаю, что собрались вместе.
– Я поджарю. Только вам затапливать.
– А можно не жарить, – по-ребячьи упрашивает Юрка. – Опять дрова…
– Можно не жарить, – притворно канючит Андрей.
– Я бы вам показала свои кулинарные успехи. Знаете, что я уже умею?
– Можно не топить? – тянет Юрка. – Давайте наскоро, а?
Я гремлю крышками ведер в углу. Достаю капусту, холодец. «Разве можно такое ставить к вину?»
– А это надо? Андрей, мы еще не ели…
– Ставь все, – говорит Юрка. – Простим себе.
Пододвигаем стол к кровати.
– Долго там жил?
– Неделю, – говорит Андрей. – Двум нашим парням из Суриковского мансарду дали. Они туда с женами перебрались, холстами перегородились. Рады. Утром жен отправляют на работу, а сами за живопись. Говорят, я тоже получил бы. Теперь прозевал. Зеваю… Всю жизнь. Спал у них на иллюстрированных журналах, наверное, поэтому полон замыслов.
– Неужели так сложно с квартирами? Даже художникам?
Андрей рассмеялся.
– Художникам особенно. Инженеры от своих организаций получают, а у художников организация тунеядствующая. Они прошлый год косяками в деревню подались. Газеты об этом покричали. В общем, «патриотическое движение». А они через полгода все вернулись. Деревни-то чужие. Парни кочегарами не захотели работать…
Андрей возбужденно-насмешлив.
– Я давно тебя не видел, – говорит Юрка. – Ты, по-моему, даже похудел здесь?
– В форму вхожу.
Я смотрю на него, на сгустившуюся синеву глаз, и не вижу той беспомощности, что была там, на лугах. И у меня ни смущения, ни сожаления. Ощущение такое, будто об этом я знаю только одна, будто это мне приснилось и я вольна, как хочу, думать об этом. Мне хочется рассмеяться, соскочить и закружиться по комнате. Но ведь Андрей знает об этом. Знает.
– Мужчины! Ну что же вы?
Я пью это всегда неприятное мне вино. Даже хочу, чтобы в нем было больше горечи. И с большей болью насилия я хочу пить его и наказывать себя до отчаяния, делать глупости, будто все мне – трын-трава.
Я знаю, что еще не пьяна, только не чувствую себя. Я не материальна.
Андрей только что приехал из города. В деревне пожил, поработал и уехал. А я? На что обрекаю себя? Жить среди людей, которые будут главным своим, подспудным вечно держаться кержацких устоев. Может, и пробудится у них когда вспышка удивления перед чем-то, но своим они не поплатятся.
Андрей шутливо сообщает Юрке:
– Парни чуть меня не женили. В следующий приезд, наверно, не устою. Посмотрю на тебя…
На какое-то мгновение глаза его словно замирают в задумчивости, а сам он улыбается, весел.
Я ловлю в себе непонятное эгоистическое чувство. Хочу, горько хочу, чтобы у него перед другой никогда не было такого обреченного и радостного испуга. Это было только мое.
– Юра, давай за тебя, – говорит Андрей. – За то, что ты здесь не зря. Боксеры-то из этих парней ничего получаются? Помнишь у Джека Лондона? Какого-нибудь сибирского феномена обнаружишь.
Я поднимаюсь, выхожу из-за стола. Я хочу музыки – громкой, чтобы она оглушила меня, не дала взорваться.
Я нахожу ее. Магнитофон на стуле бубнит, я слышу звуки его в полу, в стенах.
Мы с Юркой убираем в угол стол. Андрей поднимается, и я вижу в нем грустное удивление, которое маскирует он напускной независимостью. У него исчезает улыбка.
Я подхожу к Юрке, и мы танцуем с ним с самозабвением, дурачась, как давно уже не танцевали.
Юрка чувствовал, что ему легко, будто нашлась опять та близость между нами, что была совсем, совсем недавно – в век студенчества.
Я видела, что Андрею нравится, как я танцую. Я повернулась к нему, позвала и поняла, что танцевать он не будет. Не потому, что не знает современные танцы, не принимает их, а просто не может, что-то в нем не позволяет вот так извиваться, ломать себя, крутить. Видно, студенчество с ним ничего не смогло сделать. В нем осталось больше крестьянина, чем художника.
Так думала я. Так чувствовала. У меня хорошо кружилась голова. Чем спокойней он стоял, тем сильнее и отчаяннее мне хотелось бездумных движений без конца.
Оборвался ритм. Щелкнул и помолчал магнитофон.
– Андрей, – говорю я. – Ты не танцуешь? Мы с Юркой тоже тысячу лет не танцевали. Не можем. Наши танцы кончились.
Очень медленно начинается вальс.
– Вы только зиму здесь, – говорит Андрей. – Я недавно видел Лиду Бессонову. Думаю, кто же у нас еще так ходит? Думал, думал и вспомнил: Холшевникова! То же небрежение взгляда… Увидел ее подружку – опять Холшевникова! Юра, заметил, как они стали носить головы? Девчата теперь знают новые эталоны. – Он мельком глянул мне в глаза.
«Ничего ты не понимаешь! Я здесь временная. Уже узнала это, поняла это и даже сжилась с этим. И Юрка. Юрка давно…»
Солнце загорается на недопитых бутылках вина. Юрка перебирает на кровати бобины.
– «Очи черные, очи жгучие», – сообщает Юрка. – Ставим?
– Это что, Шаляпин? Откуда?
– Юрка записал.
Мы молчим. А Шаляпин задыхался от избытка голоса. Ему не хватало этой песни. Сейчас снова спать…
– Пойдемте на улицу, – говорю я. – Походим.
12 апреля.
– Сергея не пускают, – говорит Юрка. – Мне еще предстоит бой выдержать. Ничего, посмотрим… Через райком пробью.
Юрка ел жареное сало. Оно брызгало со сковороды, как пузырьки воздуха с газированной воды. Горячие шматочки остекленели и на концах сморщились розовыми прослойками. Юрка выбирал вилкой что посуше.
– И надо было им подраться… Ну, завал… У председателя теперь козырь, не прошибешь… Я ему говорю о спорте в деревне, о пользе бокса, а он: «Это не спорт, а… Ты бандитов мне подготовил». Неглупый мужик, а в простых вещах не рубит. А то без этого у них драк не было! Нет, мы так не сработаемся. Ладно, я еще отыграюсь… Сегодня же в райком сбегаю. Эта поездка для нас слишком много значит… Неужели командировочные не выпишут?
– В конце концов, не один председатель решает, – сказала я, – отпустить вас или нет. В парторганизацию обратитесь.
– Да? То ты не знаешь? Только родилась? Для здешних членов партии аргументация председателя слишком убедительна. У них интеллекта не хватает, чтобы ей противостоять. Так что при голосовании их руки сработают синхронно, как у марионеток. На лыжах до райкома добежать мне часа хватит.
– Когда вы должны ехать?
– Завтра.
– И как долго продлятся ваши сборы?
– Семь дней.
– Едете все?
– Шестеро. Я заявку подавал заранее.
Юрка торопился.
– Ну, так о чем я тебе говорил? Ведь едем…
– А почему Чекина не отпускают?
– Его на бензовозку перевели. Теперь, видишь ли, оказывается, заменить некем.
– А если действительно?
– У Прокудина права есть. При желании выход всегда можно найти.
– Прокудин же трактор ремонтирует.
– Ты помогаешь им искать объективные причины?
– Юрка, кому – им? А как ты сам на все это смотришь?
– Ты что, не рада? Эту поездку не одобряешь?
– Не знаю… Наверное, это хорошо… Но…
Юрка весело озадачился.
– Ты меня боишься отпустить на неделю?
Я села на стул к столу. Мне хотелось сжать ладонями лицо, до боли сдавить губы, чтобы ничего не ответить.
Передо мной стояло недоброжелательное лицо председателя:
«…всю пшеницу скрутило… Я бегаю, кричу… Голос сорвал, а он – прутиком по голенищу».
– Юрка, – говорю я. – Не уезжай. Наверное, ездить можно кому-то. И агроному… Только, понимаешь… Все ли ты сделал здесь? Так ли сделал, чтобы иметь право на такие поездки?
– А что такое? – спросил он вдруг серьезно. – Это что-то у тебя новое? Кажется, даже жена мне сказала, что я плохо работаю. – Он встал. – Так вот… Знай, что я делаю здесь не меньше других и еще чуточку больше. И это «больше» для меня не менее главное.
– Вот именно.
– Как жить – намерения у нас были одинаковы. Кажется, мы понимали друг друга. А сейчас я не собираюсь обманывать ребят и тем более себя. Я не играю. И обывательское мнение на этот счет постараюсь изменить. А от тебя я уже не знаю, что ждать. За шесть месяцев ты развернулась на сто восемьдесят градусов.
– Ты не понимаешь, что тебе не нужна эта поездка сейчас? Тебе кажется, ты остаешься самим собой, а на самом деле… Не уезжай, Юрка… Ведь какие-то вещи надо любить всерьез.
– Ну дожил! Ну дожил! – Юрка разводит руками и театрально хлопает себя по карманам. – Даже жена… Собственная жена утверждает, что я халтурю. А я, как ишак, день и ночь… – Он поднимает меня вместе со стулом, заваливает и кружит по комнате. Останавливается и пристально смотрит на мои губы. – Разве так жены относятся к своим мужьям перед отъездом?
15 апреля.
Меня тянет в клуб больше, чем домой. Я посидела рядом с Саней в радиоузле, Он великодушно разрешил мне покрутить эбонитовую головку.
Я ползала по ночному эфиру. Рука ловила то резкий истончившийся свист, то наигранный хохот с интимно приглушенным шепотом.
– Холодно, Саня, – сказала я. – Апрель, а холодно. Ладно, я пойду.
– Знаете, почему сегодня никто в клуб не пришел? По телевизору «Голубой огонек» передают.
На улице было теплее. За углом встретил меня плотный ветер, мягкий и сырой. Он пахнул мокрыми деревьями и силосом.
«Как здесь подходит весна. Издалека-издалека…»
«Почему я ни разу не была у Андрея? И не видела его работ? Вот сейчас возьму и пойду».
И ветер сразу сбил мне дыхание.
«Приду. Пусть все покажет. А я буду его критиковать… Скажу: «И это все, что ты можешь?..» Представляю его глаза при этом. На улыбку ему даже не отвечу».
Я вошла в избу. Меня никто не окликнул. Свет горел в другой комнате, а в первой только полоса на полу и рассеянный полумрак. Я тихо подошла к раскрытой двери и остановилась. Комнату загородил наклоненный холст. В черной тени от него на полу валялись рассыпанные кисти и пустой плоский флакон.
Андрей сидел на подоконнике, поставив одну ногу на табуретку. Он не шевельнулся и не глянул на меня. Я постояла и медленно пошла к нему, чтобы увидеть, перед чем он так сидит.
Странным и неподвижным казалось его лицо. Оно жило одними губами. Они у него были воспалены и сухи, будто перегорели.
Андрей снял ногу с табуретки.
– Здравствуй, – сказала я.
Он машинально кивнул, словно ему тяжело было выговорить слово.
На холсте, небрежно брошенном у деревянного дивана, я увидела мальчишку с ведром, в телогрейке. Он стоял на снегу. Какое-то низкое трехногое сооружение сверкало зеленым льдом.
Потом глянула на холст, перед которым сидел Андрей, и сначала не поняла, что на нем было.
Сизыми, синими, перламутрового блеска красками была написана летняя деревня. Съежившиеся пятистенники с осыпавшимися пластами, с торчащими старыми жердями, тонули в мокрых цветах подсолнуха за осыпающимся березовым тыном. Прохладный теневой уют прятался, гас, а над ним поднимались шиферные крыши, смоляная свежесть новых стен. Дома напирали, забирали все солнце. Но мягок и влажен был яркий день. Избы вылеплены шутя, несерьезно, будто неважна была художнику строгость рисунка. Он только любовался тончайшими градациями холодного цвета. Все сверкало в капели. Это была серебряная деревня под мокрым солнцем. Но все это уходило, не лезло. С холста прямым взглядом смотрел на меня Дмитрий Алексеевич. Без шапки, с седой головой, блеклыми тяжелыми волосами, свежий, с отрешенной улыбкой и горечью за ней: «Вот… Посмеялся я с вами…» Спохватился и досадует на себя за это. Рот с единственным зубом полуоткрыт. На дегтярном лоске телогрейки масляное отражение сибирского неба.
Это был даже не Дмитрий Алексеевич, это была стихия лица, жесткого, напряженного цвета. Я была не готова к нему. Не знаю, как рассказать об этом, не найдусь. О цвете не думалось. Андрей его таким не видел, он его просто выдумал. И писал… «Вот… Вот же… Вот! Следуйте за мной. Следите. Мне некогда. Видите, какой мазок? Думаете, я не знаю, куда его положить? Не попаду? Я же знаю, на какую форму его кладу. Я ее чувствую, ее вижу. Смотрите… Вот что самое главное, вот… а на остальном задерживаться некогда».
Все намеченное в лице Дмитрия Алексеевича обнажено и усилено. Я обомлела. Посмотрела на Андрея, и лицо его показалось мне серым, бесцветным. А Дмитрий Алексеевич сымпровизирован, мерцающе нереален. Я не могла от него откачнуться. Казалось, что тяжелые мышцы лица тронутся, шевельнутся усы и он спросит: «Что? Что ты знаешь обо мне? Молчишь?.. А-а-а-а…»
Изображение на холсте держало непонятной притягательной силой. Я уже не могла отделаться от ощущения, что передо мной не Дмитрий Алексеевич, а какой-то непонятный мне человек, огромный и значительный, смотрит и безжалостно думает, что я ничтожна.
Рядом с Дмитрием Алексеевичем Пронек, с неулыбчивым, сумрачным лицом, и старик Подзоров. Дед не выпячивался, как бы чуть сзади устало сворачивал самокрутку. Кисти рук Подзорова на холсте размазаны, на них потемнели краски – видно, соскабливались неоднократно. Я уже замечаю на других местах картины затертый обнажившийся холст.
«Как он подступится к ней, – думала я об Андрее. – Что еще от себя потребует, доводя до горячечного изнеможения работой?» Мысль об этом уже подчиняет меня, держит в безотчетной слабости. Я стою рядом с Андреем и молчу.
«Ну критикуй, – говорю я себе и понимаю, что Андрей сидит в тяжелом оцепенении давно. – Критикуй», – говорю я себе, казнясь и вспоминая его улыбку в ту первую ночь, когда сидела перед ним в тулупе.
Какие мы бываем злые, пошлые, самоуверенные!
«Мне надо уйти, – думаю я, не трогаюсь с места и смотрю на Андрея. – Ведь я ничего, ничего не знаю о нем…»
– Андрей, – говорю я. – Я пришла увидеть твои картины. Юрки нет – я не хотела оставаться дома. В клубе один Саша киноаппарат ремонтирует. И я пришла… увидела тебя таким… Таким… Однажды мне уже хотелось зайти к тебе – я шла мимо вашего дома, у тебя горел свет, – зайти, просто сидеть и молчать. И вот…
Я стояла рядом с Андреем, чуть отклонилась назад, прижалась головой к острому косяку окна.
Андрей медленно посмотрел на меня, не улыбаясь, и я подумала, что губы у него завтра потрескаются.
– Расскажи мне о себе, – говорю я. – Нет… Не о себе, а о том мальчишке, что стоит на снегу…
– Ладно… – Андрей испытующе посмотрел на меня, потом долго улыбался чему-то своему, далекому. – Знаешь, какая у него рубашка под отцовской телогрейкой? Из ситца с крупными цветочками. Товар в деревню никогда не привозили. За ним ходили в сельпо. За десять километров. Отпускали на человека по четыре метра. Чтобы попасть в очередь, спешили к пяти часам утра. Отец не ходил в сельпо за ситцем. «Голова садовая, – говорил он матери. – Долдонишь. А кто работать будет, колхоз держать? Только злыдари полдня на это убивать могут. Ты меня с ними равняешь».
В очередь ходила мать, возвращалась и успевала на работу.
«Издавили всю… Прям не вздохну… Мужики – они сильные, лезут… Которые по два раза успевают…» В семье у мальчишки было пять человек. Три сестры старшие, и ему все за ними приходилось донашивать.
Однажды он пошел за водой к колодцу. Осенью. Встретилась ему девчонка, сделала большие глаза, – это он хорошо запомнил, на всю жизнь, – и ужаснулась:
– Ой… девчачье пальто!..
У нее был противный сморщенный нос. А парнишка был растопша, в таких тонкостях не разбирался. Пальто как пальто, даже не порванное… и вдруг девчачье?
Дома он его сбросил и больше не надел. Мать не настаивала. Она у него чуткая, мать.
Мальчишка стал носить отцовскую телогрейку. Он не огорчался, потому что не был модником.
Я улыбнулась и проследила, как это Андрей сказал, но он говорил без оттенков, будто себе, будто думал.
Андрей тоже отвалился спиной на косяк.
– Потом он учился в институте… Мать ему не могла помогать.
– А потом?
– Потом… После учебы у него остались только академические рисунки, а отправить домой багажом живописные работы денег не хватило… Раздарил все, побросал… А этот единственный… Потом… Он шел однажды по дороге… Выпал снег, и стоял месяц.. Такой, ну… Снега горели. Спала деревня… Его деревня. Был праздник снега, а на душе у него было отчаянье, Он увидел, узнал женщину… Женщину, которую ждал всю жизнь. И той ночью он понимал, что у него никогда не будет ее любви. Ты не знаешь, что это такое…
Он привстал, высокий, пахнущий краской, с неуютной распахнутой ранимостью.
– Я знаю, ты ничего не изменишь, – трудно выговаривал Андрей. – Только не уезжай отсюда. Ты нужна здесь всем… и мне.
– Уже, наверно, поздно?
Я испугалась. Сердце обреченно падало, как на льду, когда он уходил из-под ног. Некуда уже было деть голову, и невозможно отвернуться.
Андрей целовал меня, а я больно вдавливала затылок в острый косяк окна.
– Зачем ты это сделал? – спрашиваю я. Я не поворачиваю голову, мне хочется чувствовать боль от угла, приятную и какую-то необходимую мне. Откуда-то взялась досада, злость. Злость оттого, что он посмел, что я не сопротивлялась. – Не смей больше никогда… Слышишь?
Я злилась на себя, а хотела казнить его, отвергать бесповоротно, жестоко.
– Слышишь?.. Ни-ког-да…
Я отстранилась от окна, сказала:
– Поздно!
Андрей оставался в грустной неподвижности.
– Я пойду.
Будто опомнившись, он спешно надел у вешалки шапку.
– Только ты, пожалуйста, меня не провожай. Мне нужно одной пойти.
У дверей я приостановилась и спросила:
– А он – этот мальчишка? Он не заблуждается? Приехал жить в деревню – здесь он не потеряет себя? Все, что он знает, что умеет, это дано ему школой, культурой, общением, средой. Он не боится, что все это умрет в нем, заглохнет? Он не страшится глуши?
Андрей приподнялся и сказал с резкой неодобрительностью. Видно, это для него было давно решенное:
– Он думает, что глушь остается там, откуда он уезжает.
– О… а он, этот мальчик, самоуверен.
20 апреля.
Днем расплываются дороги. В низинах огородов белые пологи снегов набухают, и только к обеду над снегом проступают темные окна тяжелой воды, растекаются на глазах, пугающе неподвижные, и еще не просачиваются из сугробов колючие оттоки.
Вот уж и березки оказываются в воде. Выцветшие плетни – белесые, как полынь, а перевернутое отражение их темно и неподвижно, только ершит его иногда нестерпимой синевы мелкая рябь от ветра. К вечеру морозец стекленеет, но еще долго ползет из-под снега вода, оплывает наледью. А потом широко разлившиеся лога лежат подо льдом. К ним не подступишься по снегу. Лед тонок. Ступишь на него, он, прогибаясь, уходит из-под ног с иголочным потрескиванием, и со сладкой болью что-то падает внутри. Только не переступать ногами… только докатиться до берега!.. Там он снова поднимается за тобой, лишь обозначит брызнувшими лучиками трещин невидимый след.
Ребятишки бегут к школе по ледяному разливу в огородах, снуют среди березок, а рядом у стволиков выцвиркивают фонтанчики воды. Мальчишки знают, что утренний лед пускает пробежать только первого.
А подо льдом затаилась тугая снеговая вода. Мальчишки чувствуют ногами ее темную глубину, и она их манит.
Я замираю перед деревенской беспечностью здешних женщин и тоже не останавливаю мальчишек, хотя всякий раз трудно сдерживаю себя.
И мне кажется, что городские мальчишки никогда не изведают жутковатого и щемяще-притягательного страха перед реальной возможностью почувствовать однажды, как уходит из-под ног мягко подавшийся лед. Мое дворовое детство прошло под неослабевающей опекой матери, на маленькой скорости, как легковая машина, с которой еще не снят технический ограничитель.
Я люблю ходить по белому ледку на лужах, под которым барабанная пустота.
Он рассыпается с пергаментным хрустом. Я рано прихожу в школу, чтобы на улице ждать ребят. Поднимается солнце. Воздух чист и резок. Ребятишки прибегают и, стесняясь меня, скрываются в школе. Как они успевают в такую рань промочить ноги! И я не знаю – отправлять ли их домой, садить ли за парты? На первом уроке они долго не могут прийти в себя. Лица их в утреннем загаре.
21 апреля.
Вечером я подходила к дому. Влажные облака ползли над верхушками деревьев и пахли весенней прелью.
Юрка приехал со сборов, но я его еще не видела. Он встретил меня у двери.
– Кажется, похудела, старуха? Изработалась… Вконец…
Юрка улыбался, был нетерпелив.
– Поздравляй… Представляешь?.. Наши выступления вызвали ажиотаж. На второй день соревнований я был уже первой величиной. Меня окружали. Мне заглядывали в глаза. «Откуда я таких ребят набрал?» Сережка вышел в финал с одним нокаутом. Встречу с ним третьеразрядника прекратили ввиду явного преимущества. Сережка всех удивил. Даже судьи ждали его удара правой. Работает он так… еще не очень. Но если достанет – парни сразу садятся, как рыбы… С открытыми ртами. Вот были кадры… Такое надо видеть. Итак… – Юрка замолк и смотрел на меня, дожидаясь поощрения. – Теперь могу сообщить… Главное… Сергея зачислили в спортивное общество «Динамо» на регулярные тренировки. Он переезжает в город. Прописку обеспечивают. До осени поработает, потом устроится в техническое училище. Об этом с ним уже переговорено. А мы… ну… можешь начинать радоваться… Ты хотела… Ты требовала… Я не устоял. Мы уезжаем тоже. Можно даже сейчас… Работа приемлема… Гарантии обеспечены. Теперь дело только за тобой.
Юрка говорит, но словно насторожило его что-то. Он внимательно присматривается ко мне и не договаривает, будто почувствовал за мной вину, уже зная, но не называя ее.







