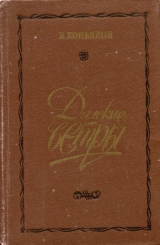
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
V
Пимы у Пронька подшиты серым войлоком, перетянуты тугим швом по кромке.
Надбровные дуги у него выпуклы, глаза спокойны, без красноты, с молоденькими черными ресничками. Он всегда болел трахомой, и веки его были голые, как губы. Мы с ним учились вместе до четырех классов. Пронек сидел на задней парте в углу, а я на среднем ряду. Мы никогда не были с ним друзьями. Нас вместе приняли в пионеры. Я носил чистенький галстук, а Пронек его никогда не надевал. Я читал книги, любил рисовать, был редактором школьной стенной газеты «Ударник учебы», просиживал после уроков с редколлегией над очередным номером, а Пронек на другой день макал палец в непроливашку, отпрашивался с урока «на двор» и затирал чернилами головы карикатурам.
Я был отличником, а Пронек получал оценки «плохо» и «пос.». Наверно, поэтому он всегда хотел меня отлупить. Пронек был толстый и сильный.
– Давай поборемся, – ловил он меня за пояс штанов, подтягивал под себя и упирался плечом в шею.
Штаны поднимали меня, ноги легчали, и уходил из-под них пол. Пронек падал. Я летел через голову и больно ударялся ногами.
Злой и красный, старался вылезти, вертелся на полу, хватался руками за его голову, а он придавливал животом к полу.
– Вывертывается… Не вывернешься… А еще мясо ешь. Если бы я ел мясо, ты бы узнал…
Он меня не любил. Жили мы в одной деревне, на одной улице, и просто удивительно, почему я не знал, как Пронек живет, отчего плохо учится. Ничего я тогда о нем не знал.
Только позднее мне пришлось побывать в его землянке, уж не знаю зачем. И вот сейчас по разрозненным впечатлениям я многое стараюсь понять.
Я вспоминаю его мать – молчаливую и какую-то неумелую, с выпуклыми бельмами на глазах, будто на зрачки капли желтой сметаны капнуты. Они пугали всегда.
В их землянке было одно окно, и свет падал на дверь, а расшатанный столик стоял в углу, и с него никогда не убиралась посуда. В углу было так темно, что трудно было разобрать, какого цвета стоит на столе чашка.
Я сейчас вспоминаю это и думаю: как он мог сидеть там, за этим столом, как выполнял домашние задания? А ведь он приходил в школу и сдавал вместе с нами свою грязную мятую тетрадку. На ней были пятна и раздавленные крошки хлеба. Но он сдавал и, значит, что-то писал? Учительница раздраженно сокрушалась, а Пронек молчал. Что от него она требовала, я не пойму. Учительница ругалась, а Пронек оставался спокойным и незлобивым. Удивительно, почему он не возненавидел весь белый свет.
Пронек иногда не приходил в школу. Тогда перемены были организованными: ученики перемещались широким кругом по коридору и пели песни или делились на два ряда, брались за руки и стеной надвигались поочередно ряд на ряд:
А мы просо сеяли, сеяли…
А мы просо вытопчем, вытопчем…
Появлялся Пронек, падал сзади под ноги.
А нам надо девицу, девицу… —
ряд отпячивался. Середина запиналась и валилась через Пронька частоколом.
Анна Ефимовна хватала Пронька, старалась больно сделать его руке, уводила в класс.
У Пронька были узенькие холщовые штаны, сморщенные под коленками, во множестве неровных заплат.
Иногда Пронек плясал. На большой перемене играл шумовой оркестр: гитара – на ней громко щипала струны Анна Ефимовна, в такт плотно сжимая губы, – балалайка и берда – длинная снасть от ткацкого стана. Проденешь лоскуток газеты между мелкими эластичными планочками, коснешься ее губами, загудишь, и наполнятся губы ноющим дребезжанием. Четвертыми были деревянные ложки.
Пронек плясал плохо и самозабвенно. Он не чувствовал ритма, мелко-мелко колотил ногами об пол, будто рассыпал что. Дрожала его голова, и он изредка невпопад бил руками по ляжкам.
Все смеялись, а Пронек плясал. И оттого что это было плохо, было особенно смешно.
Я и не знаю теперь, зачем Анна Ефимовна вызывала его часто на эту пляску. Провоцировала. Может, чтобы не растаскивать начатую им кучу малу под вешалкой?
Плясать Пронек перестал сразу.
В каникулы школьная самодеятельность участвовала в районной олимпиаде. Пронек в самодеятельности не участвовал. Что уж там наши участники видели, не знаю. Только однажды на перемене вышел на круг Паша Комаренкин. У него были новые ботинки и красный ремень с блестящей пряжкой. Паша взялся руками за ремень так, чтобы не закрыть пряжку, отводя в сторону локти и далеко выставляя колени, отбил ногами замысловатое что-то, приостановился и вызвал Пронька. Пронек посмотрел скучно и ушел.
Это была неожиданная и странная реакция. Может, он что прочитал на наших лицах? И больше, сколько его ни просили, не плясал. Как отрезал.
Весну начинал раньше всех Пронек. Сходил снег, но еще грязные сугробы лежали под плетнями, а Пронек уже топтал эту землю босыми ногами. Черны и обветренны были его ноги сверху, а заглянешь под низ, подошва лоснилась, как лист фикуса. Он никогда не болел, только воспаленно опухали его трахомные веки. Был он неуклюжий и сильный не по годам, взрослые парни знали это и часто старались стравить его с кем-нибудь, науськать.
– С картошки, конечно, какая сила… Да и то… Мало ли что вы дома мясо лопаете. Он все равно вас через голову бросит. Ну-ка, Проньк…
– Это он еще с одной картошки, – говорили, когда Пронек прижимал кого-нибудь лицом к траве.
– Да! Это я еще с одной картошки, – похвалялся Пронек.
Парни разговаривали вслух, как бы между собой, но адресовались тому, кто орал с разбитыми коленками.
– Вот человек… Знаешь… Никогда не плачет… Как бы ему больно ни было – не плачет. Сначала только, чуть-чуть… А потом сдержит себя, и все. Нет, это характер. Вот из таких только герои и выходят. И… никогда не жалуется. Никому. Потому что не предатель.
И смотришь – парнишка отдирает от коленок прилипшие штанишки и сдерживает всхлипы.
– Видал! Смотри ты… Мы же говорили.
Я сам стоически глушил в себе невыносимую боль. Много раз.
А Пронек никогда не плакал. За ним прочно утвердилась слава силача. Пронек в это неколебимо уверовал, и его убежденность стала для деревни бедствием.
– У него отец такой был. Здоровый. Себя на колхоз отдал. Копал и копал силосные ямы. Дуром. Надорвался и умер. Молодой еще был. Ну-ка покопай их, они вон какие!
Пронек это слышал и, взрослея, улавливал в мужских разговорах оттенок соболезнования.
С ним никогда не дружили его ровесники. Он да его старшая сестра особняком жили. Никто не ходил в их землянку и не приглашал к себе домой.
Была ли тому причиной страшная болезнь глаз, или знакомо было в деревне негласное мнение взрослых:
– А… Кузевановы до колхоза по деревням с мешком ходили и сейчас окошко клубками затыкают. Кто их когда за людей-то считал?
Пронек видел печать превосходства у деревенских пацанов, но он не хотел признавать свою ущербность и пацанов лупил. На дружбу никогда не напрашивался.
Он взрослел, и росла у него неосознанная претензия к людям. Проявлялась она дракой. Рано Пронек подставил себя под мужскую работу. Мужики то без рук, то с осколком в голове, а то и не задетые войной вовсе возвращались домой. Попрятали свои ордена – я больше их никогда и не видел, только в первые дни. Они принесли с собой зрелость и рассудительность. И на первых же колхозных собраниях становились бригадирами и заведующими МТФ.
А Пронек не был рассудительным, поэтому за ним закрепилась самая мужская работа – сено метать. Старики вспоминали лучшие времена:
– Были в колхозе метчики… До войны… Не успевали волокуши подвозить. Подденут копну, опрокинут на стог, и подскребать нечего. Да…
Пронек загорался. Праздничная восхищенность силой людской ложилась ему на сердце. И он старался.
Летом Пронек метал, а зимой возил сено. Он был там, где нужно тяжело поднять, – как всякий рядовой колхозник, на подхвате. Но хотя он тяжело поднимал и успевал сделать много – весу в его трудоднях не было. Если трактористы, при самом тяжком неблагополучии, при самом неурожае, получали на свои трудодни «обязательные» килограммы, то на Пронька это не распространялось. В нем назревал протест. Пронек не бил себя в грудь, а пробовал восстановить справедливость в одиночку. Всякая колхозная работа была его. Он возил зерно от комбайна на ток, закладывал силосные ямы.
Однажды осенью старуха Пыркова видела, как перед самым рассветом Пронек развалил хворост за огородом и спрятанные в нем четыре мешка с чем-то перетащил в землянку.
По деревне слух пошел. Пронька это не угнетало.
– А ты докажи, бабка… – Он уже почувствовал сладость нелегальной власти. Доказывать было некому. – Докажи!.. – напирал Пронек. – Боитесь?
Меня Пронек не видел давно. И относился ко мне ревниво и зло.
Я приехал в деревню летом после первого курса института. Разговаривал с трактористами у конторы. Подошел Пронек.
– А-а… – он не пристроился к кругу, в разговор не включился. – Городской.
Пронек, кажется, немного выпил перед кино.
– Смотри, выросли все…
Ходил вокруг, задевал плечами, будто что ломало его изнутри.
– Городской, – в это понятие он вкладывал презрение. Хлопал меня больно по плечу. – Сильный небось стал?
Я был выше его на голову.
– Давай поборемся, – между прочим сообщал мне, а рука уже мяла плечо, лезла к боку, искала ремень. Он наваливался грудью. Его руку я отжал в сторону.
Схватить и свалить меня так просто – толчка у него еще не было. Он начал приставать к другим – те отрывались от его рук. У Пронька интерес к ним пропадал. Ему был нужен я. Пронька корежило. Он не находил себе места. Куражился.
– Городские сильные, должно быть. Как бы проверить?
– Ну что ты пристал? Найдешь на свою голову, – одергивали его.
Это была уже причина… Пронек сгреб ремень и стал собирать мои брюки в горсть.
У меня давно уже поднималась в груди тошнотворная дрожь, только было очень жаль своего нового костюма. Настоящий, первый. И брюки такие наглаженные, узенькие.
А Пронек уже поднимал меня. Я чувствовал его выдавшиеся колени и напряженный живот. Сейчас он будет падать, наваливая на себя, а я…
Я был приподнят, почти висел на его руке, туго стянутый брюками. Мне уже не хватало воздуха. Подступила холодная обреченность.
О, я помнил этот его рычаг! Взорвавшись, поймал миг, точку его броска.
– Х-х-о, – грузным рывком осадил себя.
И… будто распустили на мне шнурки, и я расползся весь, так стало легко… о-оп! Ноги Пронька рыбьим хвостом шлепнулись о землю.
Пронек вскочил и, косолапя, крутился на месте, еще боялся во всю силу стать на ноги.
– Ой-ей-ей! – ликовали вокруг. – Пронь, смотри: ямы! Ой… Ну нашел… Пятки-то целы?
Я почувствовал охватывающий холодок. Потрогал, крадучись, брюки и коснулся гладкой кожи ног.
Рассадил… Здорово или не здорово? Но разглядывать не хотел.
Пронек подошел ко мне, помялся с непонятной озабоченностью, спросил осторожно:
– Я у тебя там ничего не порвал? Втоки как будто?
– Нет, – сказал я, – показалось.
Ушел домой, снял брюки, долго рассматривал. Они лопнули ниже ширинки, разошлись до колен по свежему. Я их снял и не показал маме.
В восемнадцать лет Пронек уже был урослив, как двухгодовалый бычок, привязанный к столбу. Бык мог сорваться с веревки, раздирая металлическим кольцом нос. Кровь и боль были ему желанны – они распаляли его. Клубки мышц перекатывались под кожей, а он шел по улице и гудел. Женщины с ведрами прятались в ограду, а он минуту ковырял землю у ворот. Подводы сворачивали с дороги. И если он ничего на улице не поддевал, то удовлетворялся наведенным страхом. Он уже умел отвоевывать себе чужую кормушку.
С людьми Пронек не считался, потому что люди никогда к нему добрыми не были.
Неизвестно, куда бы привела его безнаказанная строптивость, если бы не одно обстоятельство.
Осенью его сестра косила хлеб на комбайне, стояла на мостике у штурвала. Вдруг ей стало плохо. Тракторист остановил трактор, помог спуститься на землю. Штурвальный побежал за подводой – отвезти в больницу, но она через час умерла, прямо на поле.
Таких похорон еще в деревне не было. Играл духовой оркестр. Протяжные ноющие звуки ужасали. Гроб поставили у могилы. Много было народу – вся деревня. Представитель из райкома был – Кагадеев.
– …четырнадцать лет проработала Наташа Кузеванова комбайнером. Все знала. И холод, и недоедание. Вынесла тяготы войны, но не ушла с комбайна. – У Кагадеева перехватывало голос. Говорил он хорошо, по-доброму. – …она жила среди нас. Была настоящим беспартийным большевиком. Всегда скромная, с бескорыстной, чистой душой…
И вдруг все поняли это, как прозрели. И Пронька заново увидели. И у него словно пружина отпустилась. Пронек женился. На Махотиной. У Махотиных семь девок. «Просто напасть».
Я помню, что под деревянную стену их сарая весной убегал ручей. Бежишь, бежишь за ним, следишь желтую соломинку, а он исчезает под нижним бревном в заглаженной вымоине, будто Махотины его украдали. Девки все в замызганных одинаковых платьях, пугливые, с большими глазами. «Напасть». Да разве такой карагод с рук сбудешь?..
Пронек посватался к предпоследней, Наде. Она пошла. Женщиной стала она статной. И вдруг все увидели, что Махотины красивы. И оказалось, что большие глаза – это не так уж и плохо. Светятся синим на все лицо. Родила она Проньку двоих детей – большеглазых, как сама. У последнего чуть широковат нос – Проньков. Он боек, и уже зовут его в деревне «Санек». Не трогает их глаза трахома. Да и у Пронька веки спокойны, и пробились на них новенькие черные ресницы.
Мы сидим с ним друг против друга. Пронек молчит, смотрит в пол. По прыгающим ресницам я замечаю, что он думает о чем-то энергично.
Я срезаю шпагат, стягиваю его с углов подрамников. Пронек приседает и помогает разворачивать бумагу.
В тугих ячейках перевернутого холста виден грунт.
– Я к тебе вчера приходил.
– Я знаю.
– Не дождался.
– В каком твой последний учится?
– В четвертом.
– А дочка?
– В шестом… Ты отстаешь.
– Жену я твою давно не видел. Девчонкой еще…
– Она про тебя спрашивала.
Я снимаю холсты. Они легко, с липким треском, отдираются от прокладок. Я ставлю один на пол у стула.
Пронек оживляется в нетерпенье, затихает и наклоняется к холсту лицом. На лицо ложится ровным отсветом теплый рефлекс. На полу от картины радужное сияние.
…Выхватило солнце кусок ограды, мальчишку в телогрейке с ведром в руке. Телогрейка до колен. Рукава подвернуты. Ведро еще влажно. Перевернутый лоток рядом, намазанный коричневым месивом. Под тоненьким слоем ледка слой аквариумной зелени и сосулечная бахрома. Лоток – давнишняя мальчишечья радость. Толстая доска с метр. Вдалбливали в нее три столбика – один спереди, два сзади, и сверху на них прибивали тоненькую дощечку под уклоном. Чтобы утяжелить основание, мазали его коровьими шматками, еще теплыми. Чем толще, тем лучше, чтобы не перевернулся. Обливали водой. Он как Ванька-встанька: неповоротлив, глыбисто скользок. Толкая перед собой, разбегались по дороге, почти влекомые этим ледяным утюгом, падали на дощечку. И прыгала дорога под животом…
На перевернутом лотке оплывает густая масса, схватывается зеленым льдом. Солнцу радостно на нем. Лед сквозит, как темное бутылочное стекло. Солнце в глазах мальчишки. Мальчишке весело. Он сделал… Сам… Облил только что… Пусть подстынет чуть. А потом перевернуть… Ничего, что руки красные, как лапы у гуся. Это же утро! Мороз. Зато солнце теплое, а у него еще день. Понятно?
– У тебя хорошо лед получался, – сказал я Проньку.
– Я руками мазал.
– Зато у тебя стойки шатались.
– Долбить нечем было. Я гвоздь расплющивал.
Пронек, так же не отрываясь, смотрел на картину.
– Консервные банки к передней стойке прибивали – бересту жечь. Ночью с лотком бежишь, а пламя гудит, искры об пимы бьются. По всей дороге огни.
– Председатель банки посрывал…
– Сейчас пацаны сами лыжи не делают. Покупают все. Я своему уже вторую пару привез.
Пронек не моргает, и мне хочется смотреть на его лицо, показать ему все. Я ставлю перед ним полотна, наваливаю на стены, на ножки стола. Последним закрываю мальчика с ведром.
И лицо Пронька погружается в сиреневый холод. Глаза растерялись:
– А это что?
– Нравится?
– Не знаю. Плывет в глазах все. Мельтешит, как снег ночью. И не пойму. И жутко.
– Это последнее.
– Как будто баловался.
Проньку не хочется разговаривать, и он долго молчит.
– Надо же… Что из тебя получилось. А ведь ты со всеми вместе рос. Вишь как светится… Это же все в тебе так… Мы всегда с тобой дрались почему-то, – говорит Пронек.
– Я тоже злой был…
– Тебе весело жить, наверно?
– Давай выпьем, – говорю я. – Ты посиди. Я в магазин схожу. И выпьем…
– Нет. Я у тебя уже пил. Мать беспокоить. Опять обидится. Пойдем ко мне, а? У меня все бывают, а ты нет. Пойдем. Жена обрадуется. Она тебя помнит и не видела.
Пронек загорался. Неожиданность возможности взбудоражила.
– Увидишь, как я живу. Телевизор посмотришь…
И вдруг я понимаю его откровенную радость, его распахнутую простоту.
Всю жизнь Пронек доказывал, что он не хуже других, а жизнь не признавала его полноценности и ущемляла гордость. Сейчас он имеет все: дом, телевизор, умную красивую жену. Имеет… Поднимался он к этому вместе со всеми, и люди не заметили, что он почитаем. Сознание людей примирилось и приняло это как должное. Люди разъехались. Приехали новые и принимают его таким, каков он есть. Они не знают эволюции его жизни. Они равнодушны к нему. А я то больное и тоненькое звено, которым связан он со своим детством, со своей деревней, с ее глубинными истоками. Ему хочется видеть мои глаза, услышать несколько слов, чтобы утвердиться в сознании, что теперь он человек. Без меня ему похвалиться некому. Он ждал красивого чувства – торжества.
И еще я знаю, что здешние люди принимают меня за человека, который что-то знает, умеет лучше их. Я посланец в другой мир, по мне они хотят проверить себя. Я ценен тем, что не умеют они. Они предполагают во мне больше, чем я вижу в себе сам.
– Пойдем, – говорю я Проньку, – мне хочется здорово с тобой напиться.
11 декабря.
– Теть Шур, а Дмитрия Алексеича нет?
– В кочегарке он. Говорит, его Андрей Уфимцев на картину рисует.
– А Андрей что, здешний?
– Наш. Деревенский.
– А вы видели? Хорошо он рисует?
– По-всякому. Если близко – и не поймешь. Краски много наляпано. А отойдешь – соберется все, и будто лицо получается. Он ведь учился много. Далеко где-то.
Тетя Шура оттянула нитку в сторону, и шерстяной клубок шевельнулся в ее подоле. Она опустила вязанье на колени.
– Ты его разве не заметила? Видный такой. Недавно приехал. Не женат еще, а ему уж, наверно, тридцать скоро. И что?.. – Она будто себе ответила. – Учился, учился. Приехал и с мужиками солому возит. А сейчас с дедом моим в кочегарке работает. Председатель ему посмеялся: «Мы тебя рациональней используем, на другой работе. А эта что, стариковская». – «Меня, – говорит, – устраивает». Ему время нужно. Он ночные смены берет. Ночь продежурит – два дня дома. Трое их там. В котле воду греют для машин. Да ты присядь. Деда не скоро дождешься. Он только ушел.
– Я туда схожу.
– А знаешь, где кочегарка-то?
– Найду.
Гараж за огородами. Сразу от ворот дорожка к нему протоптана по сугробу через плетень.
Ступени в кочегарку обкатаны подошвами. В угольной пыли. Дверь глуха, придавливается прибитым куском автопокрышки. Я вошла – она подтолкнула в спину. Рыжий старик поднял на меня глаза и медленно пересел на истесанное бревно – освободил табуретку.
Дмитрий Алексеич бросал в топку уголь. По раскаленному жару в печи, поверху, не гася, легким дуновением пробегала тень. Из-под черных грудок угля вырывался синенький дым и вспыхивал. На земле у дверцы алел шлак, и пахло гаснущим жаром.
Рыжий старик лохмат, с тоненькими руками. Острые его колени тянули брюки из валенок. Рыжая борода коротка и густа, а на голове волосы длинные, и цвет их уже не так рыж, как бы потерял силу. Глаза щурятся хитро – видно, еще живут разговором, что был до меня.
Андрей вытирал тряпицей кисти. Воротник его рубашки расстегнут. Завернутый рукав спал с локтя. «Зачем-то в белой рубашке здесь, в черной кочегарке. Напускаешь на себя, местный Ван-Гог».
Я еще не доходила до его сознания. Лицо у него было далекое, медленно возвращалось.
– Садись, – сказал рыжий дед. – В ногах правды нет.
Дед – плотник колхозный. Это он мне березовые стулья сделал.
Дмитрий Алексеич откинул лопату в угол и сел на телогрейку, свисающую с ящика.
– Все? Отмучил… – сказал он и поводил головой. – За четыре дня жилы вытянул – шеей не шевельну.
Андрей засмеялся:
– Я говорил – свободней сидите. – Наклонился, опустил кисти в этюдник и замолчал, раздумывая.
Плотник смотрел на него, моргал. У него колечко стружки в бороде. Андрей выяснял для себя что-то, не соглашаясь. Он даже встал.
– Значит, в колхозе мастеров не было? – спросил Андрей. – А я колхозные дуги помню. Одна тяжелая была – я ее поднять не мог. Из какого-то литого дерева, голубая с золотым тиснением. У нее один конец крошился, а краску время не тронуло. Другая – облезлая, по овальному полю цветы нарезаны. Глубокие, отшлифованные ветром. Сколько их, разбитых, в завозне лежало? Любую можно в музей предложить. Кто-то их делал? Значит, и мастера были и мастерские?
– Помнить – помнишь, знать – не знаешь. Это все в колхоз снесли. Готовое… А в колхозе…
Плотник посмотрел на Дмитрия Алексеича.
– В колхозе Иван Липатыч дуги делал. Уйдет весной в лес, нарубит лесины березовые, облысит и начнет гнуть. На сгибе верхние жилки лопнут, он их топором зачистит. Вот тебе и красота вся. Дуги… Дуг тех нету, которые в музей нести надо было.
Старик навалился локтями на расставленные колени, руки сложил палец к пальцу, опустил тяжело. Они у него сухие, как старый корень на ветру. Я подумала: «Мог же он ими березовые стулья сделать. Так бережно».
Я села на перевернутый ящик.
– Ты говоришь, деревню начали строить. Архитектура новая… Не новая, а никакая… Вот я тебе расскажу: когда деревню сломали… А она была. – Он нашел глазами Дмитрия Алексеича. – Войдешь в деревню с солнца. На пригорке за колодцем стоял дом Петра Лексеича. Это где сейчас баня Макосова. Нет… ты не помнишь… Тебя еще, поди, не было, – сказал он Андрею. – Дом крестовый под тесом. Лес крупный, черный весь, а как солнце на него падет, окна так и раскроются в ставнях. Наличники нарядные, будто конец рушника свешен: легкий, прореженный. А поверху кругом резьба деревянная. Дерево выцвело, ссохлось, и над тенью как серебряная вышивка. И от этой резьбы сквозной на бревнах узоры солнечные. Идешь по дороге, и вечер не вечер, а праздник будто навстречу.
Вошел. На углу за огородом дом Портнягина с забором низким. Тот деревянной резьбой в три яруса подбит был. Скворечники по углам. Веселый дом. А дом Новоселова уже на краю деревни… Слепой, за воротами тесовыми прятался. Дерево на воротах крепкое, а будто ржавое на пазах. За него солнце садилось, и на улицу тень падала, холодом встречала. Проходишь мимо, вот уж и чувствуешь, что к реке спускаешься. Да… Деревня душу имела…
Взгляд Андрея сходит на нет, как угасающий волосок электролампочки. Он, наверно, ничего не слышит.
– Потом дома пустыми стояли, без окон. А уж потом сообща при колхозе их разрушили и клуб построили, и контору… А вот наличники не поберегли, бросили. Они и осыпались все. Двенадцать домов крепких было – сломали. Школу сделали, амбары на колхозном дворе… Сделать сделали, а красоту растеряли. Как будто сразу не нужна стала. Вот тебе и зодчество твое.
Старик говорил монотонно, с тихой апатией.
– А сейчас… Не скажу… Хорошие дома строят. Богатые. В три комнаты, С верандой. И шифер белый – в березках далеко виден. А на одно лицо. И люди такие стали, на одно лицо… Что делают… Один поставил дом. Придумал… Ничего! И все следом – не отстают. И пошли по всей улице как один… Выдумывать люди разучились, – в нем проснулся накал неодобрения, и он сказал громче: – Все готовое берут. И дома… И в дом. Магазинное… А раньше люди сами старались строить…
Дмитрий Алексеич шевельнулся на телогрейке, втянул воздух через желтый зуб, протестующе поморщился.
– Это дома сибиряков были, – сказал он недовольно в землю, – кто из России приехал, их деревня на задах вон стоит – пластами крытая. Не до выдумок было. Мыкались.
– Ну мыкались… Мы ж не про то, а что люди выдумку потеряли. Вон Андрей что говорит… «Деревня грамотнее стала. К другой культуре пришла». Ну что… – он охотно согласился, вздохнул с тихой издевкой. – Молодежь много учится… Десять годов. Учится, чтобы убежать. А кто остался, так в его учебе толку нету. Пустая она для жизни. Ничего не тянет. Раньше меньше учились, а делать умели. Теперь это умение старикам ни к чему, попрятали все свое. А молодежь… Много знает, да не умеет. А то не хочет… Ищет готовое. Одежду готовую. Кино готовую. Жизнь готовую. Где бы им ее сделали, а они ее взяли. Вот и ездят, ищут. Из деревни бегут. А радио их уговаривает: «Езжайте! Молодцы, что одних стариков в деревне побросали».
У Андрея такая добродетельная сосредоточенность. Он что, согласен?
– Любопытно, – удивилась я. – У людей что же? Талант исчез?
– Не исчез… Только он живет, когда нужен.
– Сейчас не нужен? Вы так красиво о своей деревне говорили. Почему же тогда людям красота была нужна, а сейчас эта потребность в красоте погасла? Люди грамотнее стали… Значит, они больше знают, им больше и надо? Как по-вашему?
– Надо больше. Я же и говорю. Получить готовое. Сядут вечером у телевизоров – вот тебе и будни и праздники.
«Ведь и я так думала».
– Что же? Значит, в деревне праздников нет? – спросила я, вдруг осознавая, что спрашиваю о том же, что сама утверждала. Помнит или нет Андрей тот разговор, что был у нас, когда мы возвращались из клуба?
– Праздников? В два раза больше. И советских… и старинных.
– Праздники-то разные… – сказал Андрей и сдержанно заулыбался.
– Одинаковые… Сравнялись. И на советский пьют, и на старинный.
– Одинаково?
– Я же говорю… Раньше каждый сам выдумывал. И праздники тоже. Кто как поинтересней. Масленица если… Ночью вся деревня на улицу выйдет. Бабы снаряду наденут – кто кого лучше придумал, чтоб показать, сани большие на гору притащат и… что тут делается… И стар и мал… А днем бега устроят. Чей конь возьмет. Опять вся деревня смотрит. А раз смотрит, значит, и дугу и коня снарядить надо.
На паску яйцами крашеными бьются. Христосуются. И опять же разговору – у кого краска ярче да чьи рушники лучше на божницах. Все выдумывали…
Сейчас завклуб за всех один праздники выдумывает. Ему за это деньги платят. А он только для девок на баяне пилит. А все… Подошел май… В клубе посидят на торжественной части и домой – водку пить. В октябрьский обратно торжественное в клубе. На скамейках посидели, учителя про революцию послушали. А он уж про это в май рассказывал. Пошли домой и снова… Два дня пьяные. Самогон гнать сейчас есть из чего. Вот тебе – праздники. И советские, и старинные. Ото всех голова болит. Рассолом лечим.
Андрей рассмеялся, любовно рассматривая старика. Глаза его радовались, как у ребенка.
Дмитрий Алексеич наклонился к кисету, полуоткрыв беззубый рот, – он, должно быть, так улыбался. Воздух сушил его крепкий зуб.
– Куда вы свой инструмент сейчас дели, дядя Самош? – спросил Андрей, разглядывая деда. – Так его берегли? Меня чуть с вашим Петькой не излупили, когда мы фуганок иззубрили.
– На гвоздях вы его.
– Чем занимаетесь-то сейчас?
– В колхозе. То грабли сколачиваю, то стоговые вилы выстрогаю. Столярничать бросил. Улья когда…
– Тоже больше не выдумываете?
– Ни к чему…
– Про стариков-то вы хорошо поговорили. А в молодежи, выходит, ничего нет. Обидно это нам, дед…
Андрей разговаривал с ним снисходительно, подшучивая.
– Обижайтесь… Что сказал, то сказал. Хлипкая молодежь стала. Сырая. В руки можно брать. Как сомнешь, так и останется…
– Что же это с людьми произошло? И живут лучше, а все неинтересней становятся…
– Произошло?..
Самоша глядел на меня из-подо лба, изучал долго и сказал:
– Смекалка исчезла. Она ведь нужна не только как лучше посеять да побольше хлеба собрать, а и что-нибудь сделать. А это сделать – сейчас нет. От деревни только хлеб ждут. «Хлеб наш насущный…» А надо, чтобы люди талант свой не потеряли. Для меня главное, что я что-то лучше других знаю, умею. И это люди должны увидеть. Да… Получается у меня что-нибудь, я еще и сам не знаю, а меня уже за руку и в газету. А мне это нехорошо. Стыдно. А они это делают для себя. Себя обогнать. Вывернуться. Вот и научили людей ждать, когда их по плечу начальство похлопает.
А как на это другие посмотрят? Теперь не оценка людей важна… А ведь человек-то все для людей всегда делает. Чтобы его красоту увидели да душу его за ней.
Дмитрий Алексеич крякнул, бросил окурок в угол, долго и молча подкидывал уголь в печку.
Жаркий свет упал на старика, и рыжая борода, как загоревшаяся солома, засияла вокруг лица.
Андрей собирал на палитре эластичным ножом густо размешанную краску. Она скапливалась на лезвии шматками и блестела. Он вытирал нож о тряпку. Я почему-то вспомнила свою практику в семилетней школе. Деревня была большая. Особенно меня поразил там Дом культуры – белый, с четырьмя колоннами и рельефной лепниной на фронтоне – два скрещенных снопа. Меж битых кирпичей вокруг него прорастала трава. На шершавом цементе при входе маленькие девчонки в длинных пальто играли в «классики».
Перед началом сеанса немногочисленные зрители сидели вдоль стен фойе в глубоких, сбитых вместе стульях. Потолок фойе был высок, и оттого люди казались маленькими.
Молодежь, по праву участников самодеятельности, собиралась в обширной комнате у сцены. Там к ножке табуретки был пришлепан окурок. У пианино, где подразумевался глазок замка, зияло пустое дупло. Взрослый мальчишка откинул его обшарпанную крышку и с шалопайской развязностью заколотил по клавишам. Пианино расстроенно гудело.
Фильмы в той деревне шли три раза в неделю, а огромный Дом культуры казался пустым, и тянуло от его стен цементным холодом.
Палитру Андрей скоблил сначала медленно, как бы раздумывая, потом с резким усилием стал нажимать на нож, будто руки его наливались силой. В такт движению у него вздувались желваки на скулах.
Он вытер краску, бросил в этюдник нож с круглой ручкой, встал и, будто только увидел, посмотрел на меня изучающе.
«Странный какой здесь народ. И этот тоже… Словно что-то такое знают только они одни».
И мне уж ничего не хотелось спрашивать у Дмитрия Алексеевича.
Он пошевелился на ящике и сказал участливо:
– Катюх, посмотри работу его. Ишь какую головешку вылепил, едят его мухи…
– Он ему чужую силу дал, – сказал Самоша. – Неправдашнее лицо… А хорошо. Смотришь и зябнешь. – Спросил у Андрея: – А ты мог бы, чтоб и похоже и чисто, как есть лицо?
– Что в нем мешает? – спросил Андрей.
– Не знаю. Людям он таким запомнится. Хмурый.
Брови у Андрея тяжелеют. С растерянностью я гляжу на него. Он отчужденно далек. И ему никакого дела не было до меня, до моей оценки. Я не пошла к мольберту, повернутому к окну.







