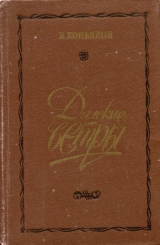
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
XX
Беспокойно на душе старика. Пять дочерей давно в городе, редкими гостями бывают в его доме. Приезжают, как чужие, со стороны на все смотрят. Иван пошебутился после армии – легко остался на заводе начальником отдела кадров. Для них нет дома, нет своей деревни, потеряны все привязанности. И нет в его детях уважения к делу всей его жизни.
А старик никогда не оставил бы вечный непокой деревенских забот, которыми, кажется, насыщен даже воздух над тихими избами, и работу в колхозе. Сколько мужиков, песен, сколько баб над снопами… И как желанна вода из чана, когда под вечер замолкала сложка у обмолоченной скирды хлеба. Сушилка на дальнем хуторе, которую он строил… Он так и не привык равнодушно видеть, как показывается ее высокая надстройка за дальними полями.
И первые трактористы в ореоле почета, неповторимые в своей гордости, провожаемые на выставку в Москву.
А как они работали!
Первый год войны выбрал мужиков из деревни. Второй – поднял призывной возраст за сорок лет. И выяснилось, что некому метать сено на лугах и что Сергей Чесноков в свои пятьдесят четыре года – самая главная мужская сила в колхозе.
Его назначили групповодом. Он да четырнадцатилетние подростки – метчики. Сергей сам и волокуши делал, и баб на работу собирал.
Выезжали на луга рано. Бабы коров успевали подоить, ребятишкам драники на обед настряпать.
Запомнил Сергей одно утро.
Лошади были уже запряжены, вилы сложены на бричку, лагун с водой сзади поставлен, а все не ехали. Мальчишки-копновозы, устав сидеть на жестких спинах лошадей, спустились на землю и грелись на предамбарнике.
Метчики, бабы, девчонки – все собрались. На две волокуши людей набрали, а на третью накладывать некому. Прасковья Ваганова не пришла.
Вчера вечером почтальонка принесла Вагановым похоронную еще на одного сына – на Миньку. От старшего Саши еще слезы не просохли – в марте похоронная была, теперь – вторая.
Бабы сидели с узелками в подолах, свесив ноги из решетчатых боковин брички, изредка перебрасывались робкими словами, и лошади, будто чувствовали горький бабий разговор, скорбно опустили головы над зеленкой.
А утро начиналось солнечное и такое веселое.
Сергей набил вилы на черенок, закрепил гвоздем и, не снимая их с колен, сидел рядом с копновозами.
– Что уж… – сказали бабы. – Поедем… Как-нибудь одни сегодня… Не надо ждать… Пусть она дома побудет.
Оживились на бричке, понукнули парнишку:
– Давай, трогай.
Колдобины на луговой дороге отвлекли баб от предчувствий горя (у каждой из них на войне были и мужья, и сыновья), они за дорогу отошли, разговаривали уже громче, подгоняемые торопливым бегом коней.
Стог зачали большой – из трех копен.
Бабы работали молча. Накладывали такие волокуши, что четырнадцатилетние метчики не могли их снять – волочились со своими вилами по земле вместе с ними.
Прасковью увидели еще на горе у деревни – узнали по белой кофте.
Не сговариваясь, все смотрели, как она спускалась в кусты. Потом увидели ее у реки на голой поляне. И когда уж она стала совсем видна, подошла близко, работая, старались показать, что ее еще не замечают, а сами ждали, боялись ее горя.
Прасковья знала, что некому ее подменять, нашла свои вилы у бочки с водой под кустами, пошла к валкам.
Сергей не слышал, как бабы ее приняли: трогали разговором ее горе или обходили неумело. Только казалось Сергею, что Прасковья работает, движется, говорит – без дыхания, чтобы не сорваться при первом слове и не закричать.
Завершили стог. Огребать его пришли все бабы.
И тогда Сергей увидел Прасковью близко. И бабы все остановились в молчании.
– Не успела я за вами. Промешкалась… Вы и не дождались…
– Ты бы… – сказал Сергей. – Зачем уж ты сегодня.
– Ох… – Что-то сразу надломилось в Прасковье, она вспомнила и стала садиться, ползти спиной по стогу. Сжала руками щеки, легла лицом на вытянутые ноги и закачалась.
Сергей стал перед ней на колени и опустил ладонь на ее голову. Какие у нее были уже тоненькие, жидкие косы.
– Ну что сделаешь… Что теперь сделаешь… – Сергею хотелось оберегать своими ладонями ее голову. – Прасковь, – нелепо шептал он что-то участливое и слабое.
А голова Прасковьи все вдавливалась и вдавливалась в колени.
Тогда закричали и запричитали бабы. Прасковья подняла лицо.
Видя Сергея рядом, его согнутые плечи, в тишине она тихо и трезво сказала. Сказала только ему, никого рядом не видя:
– Вот и опять у нас с тобой… Все поровну. Твоих два… пораньше. Теперь вот и мой… Второй…
Белый платок на коленях сырел от мокрых ее пальцев.
– Ну вот, бабы, мы и все наплакались, – утешила Прасковья. – Дай-ка нам бог, чтобы это было по последнему.
И она поднялась.
Будто это только вчера было.
И работа… И сила…
Медленно отвели и его от дел, от самых главных забот всей жизни.
У него еще были силы, когда последний раз собрался он съездить на сенокос. На рассвете пришел в контору с приготовленным с вечера узелком, остановился рядом с людьми, собравшимися на луга.
– Собирайся, дед! – кричали ему незнакомые парни. – Посмотришь, как мы автокопнителями орудуем. Не то что вы… за три дня все луга поднимаем. Пойдешь с нами вершить.
– У него штаны не держатся, – потешались повязанные белыми платками молодайки. – Спадут, мы работать не сможем, будем на его причиндалы заглядывать.
Больше уж старик на работу не ездил. Да теперь в колхозе и никто вместе не ездит. По дорогам одни машины снуют.
Как-то приходил к нему парторг с фотографом.
– Давай, Сергей Платоныч, мы тебя сфотографируем.
– Это зачем же?
– Карточку твою на самом видном месте повесим. У конторы витрину сооружаем «Ветераны нашего колхоза».
– На доску Почета… Так я не работаю. Надо других…
– Ты свое отработал… Слезай, слезай… Знаешь, какой портрет с тебя сделаем! Пусть любуются!
– Дед, расправь бороду для солидности, – посмеялся фотограф.
– Выдумали…
– Будем, Сергей Платоныч, нашу молодежь воспитывать. На почете… На традициях…
– Чудно… Традиции нужны… Карточка моя нужна… А сам я уже никому не нужен.
Большую фотокарточку и правда у самой конторы под стеклом повесили вместе с фотокарточкой Матвея Мысина.
«Я серьезный, а Матвей улыбается…» – представил старик застекленную у конторы витрину. И вдруг вспомнил сегодняшнее утро, солнце на лужах, музыку над согрой и похороны.
Ему захотелось взглянуть на живого Матвея, его фотокарточку. Старик слез с печки.
Уже подмораживало. Истекал снег, а не успокоился ручей под воротами. Настывший воздух схватывал поверх ноздреватую вязь снега, и он похрустывал под валенками.
Старик вышел на дорогу и на мгновение остановился – забыл, куда собрался пойти и зачем. Вспомнил, что к фотокарточке Матвея. А Матвей его не ждет, и некому сказать об этом. Если бы Дуне, жене. Сейчас он ей о себе рассказал бы. Рассказал бы, что дети все при деле. Пустили свои отростки, а нас легко отторгли, мы отвалились, как отжившие наросты, и живем только друг для друга.
Из снега вытаяли бревна у ограды. Непросохшие, темные. Мокрое дерево напомнило старику крест на могиле жены.
«…Почему я к тебе не подошел, – говорит старик жене. – Похоронил Матвея и не подошел… А ты, наверно, ждала… Ты всегда меня ждала. Всю жизнь. Слезы прятала, они в тебе так и засохли. Так и ушла с ними. А разве я тебя обижал? Я тебе всегда хотел только хорошего… А ты его не узнавала. Кому об этом сейчас скажешь? Думала, что я дурю, а я хотел, чтоб ты со мной рядом всегда одинаковым воздухом дышала. Я ведь тебя любил… До последних дней…»
Девять детей принесла Дуня Сергею. Маленькая и стеснительная, с неизбывной привязанностью к детям. И они росли крупными и красивыми (глядя на них, удивлялись причудливости природы: как может маленькая завязь жизни проявиться этими буйными побегами). Но каждый ребенок был таким неуемным. Неумолимо, с каждым вздохом, отсасывал ее силы, и к шестидесяти годам Дуня была уже сухонькой старушкой с перегоревшими чувствами. Два сына убиты на войне. Иван и Семен – в армии. Дочери пристроены. Отошла война. Не осталось сил на слезы. И уже не было ни желаний, ни стремлений – только ожидание. Жизнь свершилась.
После войны Сергей работал колхозным пасечником. Пасека за деревней. В бревенчатой сторожке с земляным полом он и ночевал. Вставал утром – солнце только начинало всходить. Влажен верстак под боком избушки. Поблескивает листва березняка, мельтешит ее тень на разноцветных боках ульев. Ни ветра, ни запахов трав поутру. А солнце пробивает сквозную зелень листвы, и вот уж навстречу ему тонкое движение запахов, еще не медовое, не душное.
И начинают спадать первые пчелы с лотков, пробовать лапками прохладное солнце. А оно накаляется, теплым прикосновением трогает лицо. Оживают ульи. И такими утрами оживает старик. Томлением переполнено что-то в груди, и не хватает его телу ощущения нагрузки. Мышцы легко болят от нехватки груза, движения, словно горячей ладонью сжимает он воду, а она беспредметна. Он останавливается у верстака, перебирает оструганные заготовки ульев. Беспокойной сладостью тревожит его сила. Приходит к нему что-то забытое, неопределенное. Хочется это чувство в себе держать. Ему вспоминаются женщины на лугах, локти обнаженных рук, которыми они, повязывая платки, хотят закрыть переполненные молоком груди. И разогретая утром и солнцем кровь стучится в виски. Он сбивает ее тихий шум работой.
В такие минуты в воображение его никогда не приходила Дуня – она давно уже израсходовалась на детей и его не призывала.
В июне женщины откачивали мед первого сбора. Председатель решил выдать на трудодни в пору сенокоса.
Сергей с дымарем, в сетке, откинутой на голове, вносил наполненные медом рамки, срезал ножом запечатанные соты. Женщины качали мед. Пчелы влетали в избушку на парной запах меда, кружились над головами, ударялись о головы женщин – они вскрикивали и сбивали ладонями с волос запутавшихся пчел.
– Ой, меня одна шлепнула, – спохватилась Дарья Артамонова.
– Жало вытаскивай, а то она весь яд пустит.
– Залез под сетку и улыбаешься, – задевали бабы Сергея.
– Хоть бы одна ему в бороду чекнула.
– Он их руками берет, и ничего ему, бесу, не делается.
– Что пчелы! С ним вон и годы не могут справиться. Спина-то железная.
– Мы мед только сегодня попробовали, а он им насквозь пропитался.
– Весь сладкий, поди… Иди, жало вытаскивай. Бабы, шею не поверну… Чем прикажешь рассчитываться? – спросила Дарья в упор.
У Дарьи Артамоновой подбородок от укуса пчелы располнел. И вспоминается в это время Сергею молодость. Прасковья Ваганова.
Бабы качают мед до сумерек. Поспешно макают хлеб в алюминиевую чашку с медом – ужинают и расходятся.
Сергею не хочется быть дома. Ему веселее ночами с пчелами. Он достает из ямки, вырытой в полу, лагун с прохладной медовухой. Выпивает полную кружку и выходит смотреть на ульи.
Дуня месяцами жила одна.
«…Ведь ты меня никогда за это и не ругала… – обращался он к Дуне. – А тебе на меня всякую напраслину наговаривали. Детям писали…»
Отчерпали его силу воспоминания, и он двигался дальше бездумно.
Фотокарточки под стеклом были желтыми, с натеками от дождей, и лица на них уже не читались, – прорезались только очертания глаз, точки носа и черные полоски рта. С фотографии, желтой, будто облитой чаем, улыбался Матвей. Он ни на кого не смотрел, никого не искал глазами, а просто улыбался, и улыбка его казалась старику сегодня последним движением лица. Самого Матвея уже нет – фотокарточка. А рядом с ней вот он – сам Сергей. Стоит живой. И ему захотелось напомнить о себе людям. Он пошел в контору. Дверь в контору открыта. Раньше, давно еще, в их колхозе была маленькая контора, из одной комнаты. В ней сидели и председатель, и счетовод. Счетоводом долго Матвей работал. Допоздна засиживались там колхозники: курили, сидели на скамейках у стен. Трудовые книжки в ячейках ящика на столе лежали, можно было каждый день трудодни проверить, председателю про вилы сказать, что в его группе стоговые одни остались, да и то у них зуб сломан, или что копновоз сбил холку у Сиротки, кем ее заменять будем? Ах, сколько в конторе переговорено, сколько шуток оставлено, сколько самосаду искурено!
Сейчас контора большая. Из коридора пять дверей в обе стороны. В одной комнате шесть бухгалтеров. В другой – парторг. Слева – агроном. Дверь председательского кабинета обита дерматином. Колхозники в конторе редко бывают, в коридоре стоят. В бухгалтерии не пройдешь – столов много, и за что-нибудь заденешь, бумажку на пол свалишь. И делать нечего в бухгалтерии – там разговоры не ведутся. Бухгалтерам посторонние люди неинтересны.
Старик постоял в сумраке, присматриваясь к ручкам дверей, в коридоре окон нет, только одно, в дальнем конце, светило в глаза, и его скользящий свет выявлял металлические ручки. Старик попробовал все двери – не открылись (рабочий день в правлении закончился). Сидел в своем кабинете председатель и что-то писал.
– Присаживайтесь, отец, – сказал он. – Я сейчас.
Старик этого молодого председателя и не знал. Присланный из города.
В кабинете стулья вдоль стен. На столе телефон с растягивающимся, как пружина, шнуром.
– Ко мне, отец? Ну давай, говори.
– В контору пришел. Посидеть…
– В конторе разве сидят? В конторе работают.
Председатель улыбнулся, сильно надавил руками на прикрытые глаза, подержал глаза долго, потом встряхнул голову и спросил:
– Наверно, поужинал уже? Как думаешь, хорошая нынче весна будет, нет? – Но это он уже не спрашивал, а как бы про себя думал. – Семен из района вернулся?
Значит, старика новый председатель знал.
– Ну давай, отец. По домам. Закрывать будем.
Колхозная контора теперь другой стала.
Старик замерз, и казалось, все тело его не согреется. И тепло печи было каким-то местным: ноги стыли в непроходящем ознобе.
В мигающем сумраке комнаты включен телевизор. Гудит темнота. В квадрате двери видна голова и плечи за спинкой стула. Старик узнал тракториста Лагутина.
– С кем наши сегодня играют? – спрашивает Лагутин.
– Со свердловчанами. – Семен сидит в глубине дивана.
Вскоре в их комнату врывается гул голосов. Он, как обвал, – то затихает, то нарастает. И долго гигантский пчелиный рой беспокоится где-то далеко и рядом, перебиваемый нервными криками и щелчками.
Клава у двери сбрасывает валенки, в шерстяных носках пробегает по полу в комнату детей, скидывает шаль, раздевается. Поверх байковых штанов на ней короткое платье широким абажуром. В комнату за Клавой ушел и запах силоса.
Клава заглянула к Семену, хотела что-то сказать, помешкала секунду – раздумала. Стала доставать с загнетки сухую растопку. Огонь в печке схватился быстро, и потянуло от плиты сухим теплом.
Клава стала чистить и резать на сковородку картошку, а сама все заглядывала в комнату с телевизором.
Когда матчевый рев болельщиков заглох, она вклинилась со своим разговором.
– Скоро нас по телевизору покажут. Сегодня весь день снимали. Человек семь приезжали. Две девчонки с ними. Ящики во дворе расставили, шнуры… Лампы наведут в глаза, после пять минут ничего не видишь. Даже голова разболелась… Один с аппаратом все меня снимал с Зорькой. – Клава улыбнулась своим воспоминаниям. – Снимет и… «Нет, не то». Снимет и… «Нет, не то…» Я говорю: «А вы Фроську. Она тоже четыре восемьсот надоила – и красивая». А он пристал: «А потом, потом что делаете? Повторите сначала… Доильный аппарат переносите? Подержите в руках эти патрончики. В таком ракурсе это блестяще! Это кадр!» Присел на цыпочки, подкрадывается к Зорьке. Ну, думаю, сейчас будет. Не успела подумать, а Зорька как хлестнет его хвостом по лицу, а у нее хвост вечно в жиже. Она, когда лежит, всегда его в лоток опускает на ленту. Смеху было. Председатель смеется: «Правильно, – говорит. – Теперь товарищи из телевидения узнали не только красоту, но и запах нашего труда. Ну, а коров наших не обессудьте». В среду будут показывать. Сень, капусты из погреба достанешь?
Клава идет к Семену, останавливается в темных дверях.
– Как мы там получились? На себя посмотреть хочется, со стороны – какая я, – говорит она. – Что там сегодня?
– Наши продули, – отзывается Семен, – Все!.. Теперь им десятка сильнейших не светит…
– А сейчас что?
– Балет на льду.
Клава срывается к печке, скидывает чашку со сковороды, руки обдает горячим паром, она отдергивает их кверху, трясет в воздухе.
Семен с Лагутиным слушают комментатора последних известий: «Коллектив завода «Сибсельмаш» в этом году взял обязательства увеличить количество запчастей для сельскохозяйственных машин. Став на предпраздничную вахту…»
– Слышал? – сказал Лагутин. – Садись на летучку, в район, и получай.
Семен молчит. Старик знает, что у Семена сейчас вытянулись в улыбке тоненькие губы и выступил подбородок.
– Получишь… Ты ни разу за запчастями не ездил? Там сейчас все по одному принципу – получаешь запчасти – ставь пол-литру. Попросил я крановщика отремонтированный мотор на тележку поднять, крановщик – ставь пол-литру. Я взорвался: «Ты здесь на окладе, так погрузишь». У него кран сразу сломался. И людей наших, и колхозный трактор весь день на базе продержал: ремонтировался. Ну, е… елки зеленые. Кладовщице – пол-литру. Здорово эта механика отработана, по всей цепи. Не разорвешь. А попытаешься – себе же хуже. Председатель спросит: «Достал?» – «Не достал…» – «Ну, какого… ты там околачивался целый день?» Что происходит?.. Присматриваюсь я к людям… Смотрю на человека, вижу, знаю – ты меня обошел, урвал за спиной. Откуда? Смотрю в его глаза, он знает, что я о нем думаю, а не покраснеет и усмехнется, потому что обошел, я не сумел, а он умеет. И никто ему морду не набьет, а уважат. Что уважают!..
Старик давно отключен от колхозных дел, и разговор сына с Лагутиным, и жизнь их кажутся ему непонятными.
– И что ты тому крановщику? Ничего не сделал? – Лагутин заинтересованно уставился на Семена.
– Сделал… А сейчас надо мной механики потешаются… «Чесноков! Может, и сегодня похорохоришься, а? И… нас пораньше тебя погрузят. А то ждать некогда». Ржут… Иногда – лучше промолчать…
Семен с досадой умолкает, Лагутин смотрит на него. Ждет.
– Знаешь, как у нас на правлении дела делаются? – спрашивает Семен. – Алке Демидовой колхозную стипендию назначили. Осенью еще. А перед этим мы с Пашкой Осинцевым разговорились (он тоже член правления). Осинцев возмущался: Алка ни одного дня в колхозе не проработала. И деревня ей до лампочки. Она институт-то для колхоза чужой выбрала. Стипендия назначается тем, кто в колхоз по специальности работать вернется. То мы не знаем. Что у нас, шоры на глазах?
На правлении председатель о стипендии доложил. О денежном фонде. Об обязанности. Алку расхваливал. Так это дело подал, такие доказательства выдвинул, что только один дурак его соображения не примет.
А у Осинцева сын восемь классов закончил, в техникум собирается, и Пашка на колхозную стипендию тоже рассчитывает, хочет с председателем наедине поговорить, да все никак не подкараулит.
Ну, думаю, Паша. Вчера ты разорялся. Как сего-дня? Против Алки проголосуешь, нет? Я все смотрел на него. И Паша не проголосовал. Вот… Алке каждый месяц колхоз стипендию перечисляет. Так мы большинством и голосуем.
– А ты? – раздается голос с печки. Старик приподнялся на локтях, развернулся и свесил ноги. – Что жа? – Вопрос громкий, нетерпеливый.
Лагутин засмеялся, оглянулся на деда.
– Ты бы не включался, – ответил Семен из темноты. – Опять недоволен?
Старик, поморгав перед собой глазами, лег.
«И когда надсадился? – думает он о Семене. – Ничего не вез – а надсадился. Дух растерял. Ничего нету. Никакого ядра. И грамотный… А все, что из газет и книг берет, – уходит, насквозь просеивается. Не в коня овес. Ничего не хочет… Сидит перед ящиком и утонул. Весь… Э-э-э…» – почему-то подумал старик безо всякой связи.
Клава ставит на стол сковородку и спрашивает:
– А почему мои работнички присмирели? Ой, да они в шахматы играют, ой да… А руки! Ну-ка мыть сейчас же! И в школу с такими ходили? Бессовестные. И как не стыдно?
Она окликает Семена, подходит к нему.
– Может, что выпить найдется? – спрашивает Семен. – У тебя нигде в заначке не стоит?
– Да нет…
– Не знаешь, у деда там не осталось? Много он сегодня пил-то? Наверно, всю флягу прикончил? С самого утра.
– Не знаю, наверно, после похорон. На поминках был… А флягу я посмотрю.
– Не надо, – остановил Семен.
– А он что, любит? – засмеялся Лагутин.
– Не говори. Каждый день. В городе отвыкнет. Иван деньги умеет считать. Я с Иваном спишусь, пусть сначала у него три месяца поживет, потом у дочерей. Ты с ним опять сегодня ругалась, что ли? – Семен обратился к Клаве.
– Нет.
– А что лежала?
Клава посмотрела на печь. Свет лампы рассеянно падал на лицо старика, на его глаза в четких провалах тени.
– Папаш, – неожиданно зовет Клава, – вставайте ужинать.
Старик не шевелится.
Едят томленую индюшку. Мясо индюшки на косточках нежно и сочно. В косточки просасывается сухой воздух.
– Ты, отец, что, второго приглашения ждешь? – громко спрашивает Семен. – Спишь, что ли? Клава второй раз разогревать не будет… Мы и так на нее четверо насели. Слезай. Медовухи нам подашь…
– Что ты сегодня? – возмущается Клава. – Хватит уж. Он не слышит…
– Слышит… Поговорил я с ним сегодня, вот и… обиделся.
– Зря мы едим, – спохватывается Лагутин. – У меня же есть дома. Жена две штуки принесла, в шифоньер спрятала, я видел… Выпьем… Там и балет на льду посмотрим А, Клавк?
Он знал, что Семен это сразу одобрит. И Клавка одобрила. Только сказала:
– А я балет приготовилась смотреть.
– Там посмотришь…
– Ну уж, за бутылкой посмотришь.
Сама же детям приказывала:
– На столе я так все оставлю. Приду – уберу. А вы спать… Не забудьте телевизор выключить!
Они еще не оделись, как вошла учительница и, оглядывая пол в полусумраке у двери, стала искать половичок – вытереть ноги.
– Вот как я поздно… Не спите?
– Тамара Петровна, проходите, – удивилась Клава. – Я сама к вам в школу все собираюсь и тяну…
Тамара Петровна села на табуретку поодаль от стола.
На ней резиновые сапожки, болоньевая куртка с вязаным воротником. Очутившись на свету под лампочкой, Тамара Петровна спрятала под табуретку ноги с высоко обнаженными коленками. Шевельнув головой, освободила длинно подстриженные волосы и, подняв их руками, опустила на воротник.
Она молода. От вечерней прохлады разрумянилось лицо.
Лагутин увидел ее коленки в капроновых чулках, глянув на Семена, кашлянул два раза. Но, сообразив, что это получилось слишком многозначительно, стал кашлять еще, как бы придавая кашлю естественность, и зашелся всерьез.
Родители еще не знали причину прихода учительницы в неожиданный час, а Мишка подозрительно прошмыгнул к Леньке в комнату: телевизор смотреть не стал.
– А я к вам по делу, – сказала Тамара Петровна.
– Догадываемся, – простецки пошутил Семен, – учителя так не приходят.
Клава, не умея прятать тревогу, посмотрела на комнату детей.
– Леня хорошо учится. Успевает по всем предметам. Тут к нему претензий нет. Но последнее время он меня настораживает, и нам необходимо это выяснить вместе. Вчера… – Тамара Петровна выжидательно замолчала, – хотелось бы об этом поговорить с вами наедине…
– Понял намек, – сказал Лагутин, без обиды поднялся и стал одеваться у двери. – Не вышло сегодня, – напомнил он Семену. – Ладно… Когда начинается серьезный разговор, лучше удалиться. Подальше от начальства.
Лагутин ушел. Тамара Петровна закончила:
– Не знаю, что с ним случилось. Он становится совсем другой. Какое-то упрямство появилось… Вчера что натворили… Он, Лысцов и Коля Опарин. Как выяснилось сейчас, заводилой был именно Леня. Остались после уроков в пионерской комнате и поломали школьную радиолу. А ее в начале этого года приобрели. Стоит девяносто пять рублей. Сама Татьяна Васильевна их и застала. На школьных вечерах на ней мы пластинки прокручивали, а сейчас – пустой ящик. Сами понимаете… Директор школы настаивает стоимость радиолы поделить на три семьи… Леня и на уроках стал грубить. И даже ко мне появилась у него какая-то недоброжелательность, Я не знаю, чем это объяснить… И сегодня у нас с ним произошел инцидент. Много еще не знает, а упрямства…
Но об инциденте Тамара Петровна рассказывать не стала, хотя именно он заставил ее сегодня прийти сюда.
У Тамары Петровны было легкое настроение с утра. Проверив тетради, она убедилась, что ее ученики хорошо написали диктант – ни одной двойки – значит, программу усвоили. В запасе у нее оставались свободные уроки, которые она может уделить своему любимому предмету – чтению.
Парты были теплыми от солнца, падающего в окно, и маленькая Надя Чичерина выложила руки в кружевных манжетиках на ласкающий зайчик на парте, преданно ждала первого слова Тамары Петровны.
От ребят и от их глаз на Тамару Петровну исходило тепло. Ей казалось, что ребята в мешковатой мышиной форме и девчонки в капроновых бантиках, бегавшие до школы по снегу, обязательно принесли в своих головках для нее что-нибудь неожиданное, свежее, что не успела поймать она короткой дорогой от дома до школы, и что сейчас, как находку, как радость, отдадут ей.
Она села за стол, посмотрела на ребят и сказала, что сегодня у них необычный урок: будем загадывать загадки. А потом… Всем классом решим – чья загадка окажется самой интересной. Ребята догадались, что после такого урока не последует домашнего задания – пришли в восторг и сказали, что лучших уроков не бывает.
Но загадки все были из той тоненькой книжечки, которую Тамара Петровна сама привезла из книжного магазина и раздала ребятам, и из «Родной речи», где ответы стояли под текстом, оттиснутые вверх ногами.
Руку поднял Петя Мысин и сказал, что он тоже знает загадку.
Петя Мысин на уроках всегда безынициативен, и его поднятая рука была для класса неожиданнее всех загадок.
– Говори, Петя, свою загадку, – поощрила Тамара Петровна.
– На море… На акия-я-я-не… – сказал Петя, делая странное ударение на «я», очевидно, копируя чей-то голос.
На море… На акия-я-яне
Стоит дуб с вихиря-я-ми.
Листья чемоданские,
Когти дьявольские.
Уцепится,
Не отле-е-пится.
Вдруг весь класс замолчал, уставился на Петю, как на загадку, а потом так же уставился и на Тамару Петровну.
Тамара Петровна, озадачившись, смотрела на них и вдруг рассмеялась.
– Это что же такое? – спросила она скорее у себя, чем у всех. Загадка ей чем-то понравилась, а ответа на нее она и правда не знала. Выяснилось, что ответа на нее никто не нашел. Тогда Тамара Петровна сказала: – Ну, что ж, Петя… Открывай нам, что это – на море, на акия-я-я-не?..
Петя поднялся и коротко сказал:
– А репей…
– Да… Правда… – согласился весь класс.
«Уцепится, не отлепится…» – восторженно думала о точности образа Тамара Петровна, а вслух спросила:
– Почему листья-то чемоданские?
– Потому, что большие и страшные… – сказал Леня Чесноков. Он был удивлен недогадливостью учительницы и поэтому ответил убежденно.
– Репей?.. Такой маленький, кругленький?.. Разве он страшный? Что же в его листьях страшного?
– Это если когда так… Когда он просто растет… А в загадке он страшный…
– Так уж и страшный… Ребята… – Тамара Петровна выждала, когда ребята сосредоточатся. – Загадка мне тоже понравилась. Возьмем ее в наш актив. Вот и Петя нас порадовал. И где ты такую загадку услышал?
– У бабушки. Она много знает…
Тамаре Петровне загадка показалась такой насыщенной и поэтичной, что она сказала:
– Теперь это наша загадка. Но давайте договоримся… Мы ее запомним и будем произносить правильно. Бабушка неграмотная, не училась, поэтому обратите внимание, как неправильно она произносит слова. «На-а море… На акия-я-яне…» Слышите?.. На акия-я-я-не. А нужно – на океане. Вы сами знаете, как пишется это слово. Листья чемоданские… Наверное – чемоданные?.. Давайте повторим, как она у нас должна звучать:
На море, на океане
Стоит дуб с вихирями.
Опять! Вихиря?.. Этого слова в русском языке нет… Вихор?! А не вихирь?! Ты, Петя, не так что-нибудь понял. Или бабушка забыла. Листья чемоданные… Запомните, чемоданные. Когти дьявольские. Уцепится, не отцепится.
– У бабушки правильней, – сказал Ленька. Сказал как-то необычно громко и с вызовом.
И вдруг Тамара Петровна по глазам ребят с ужасом заметила, что они Леньке поверили и сразу примкнули к нему, к его откровению.
– Леня, что ты говоришь? – Учительница даже покраснела, что с ней редко бывало перед детьми. Иногда ее не слушались – это бывало, – но вот так, с вызовом, оспорить ее знания еще никто не решался, да она и не представляла себе это в школе. Тамара Петровна взяла себя в руки и очень спокойно сказала: – В деревне многие говорят на местном диалекте, а мы должны выработать в себе общую культуру речи. И ты, Чесноков… Не знаю, что с тобой случилось? Научись еще и тактичности… Знаешь, что это такое?
– У бабушки все равно правильнее, – упрямо сказал Ленька в парту. Губы его плотно сошлись и налились.
Тогда Тамара Петровна вышла из себя и сказала:
– Чесноков, пойди за дверь и подумай, как себя с учителем вести.
Ленька вышел из класса первый раз за четыре года.
И вот сейчас Тамара Петровна у Чесноковых вспомнила об этом. С озабоченностью она смотрит на Клаву, искренне ей сочувствуя.
– С этой радиолой… Не знаю, как расценивать… Или как озорство, или еще хуже…
– Ну-ка иди сюда, – позвал Семен. Он не глянул в комнату детей – знал, кого требует – тот поймет.
Ленька не вышел. Семен подождал и не стал настаивать. Договорились с Тамарой Петровной, что все выяснят, конечно, все решат и придут в школу. Тамара Петровна ушла. Семен проводил ее за ворота и, не отпуская дверную скобу, тихо потребовал:
– Так ты иди сюда.
Клава почувствовала, как накаляется голос Семена (она вообще его сегодня весь день не узнавала), предупредила его вспышку. Вошла к детям в комнату, остановилась у двери. Приказала:
– Ну-ка показывай свои тетради.
Ленька порылся в портфеле и молча выложил на стол синенькую стопку.
– Никогда с тобой горя не было, а сейчас… Начинается? Это что? Даже по арифметике тройка появилась? Ты что, разучился цифры писать? Это ты что не показывал нам, сколько тебе замечаний на каждом задании пишут?
– Не об этом сейчас разговор… – сказал Семен. На тетрадку он и не смотрел. Слишком незначительный разговор занимал Клаву. – Ты что, приемник разворовал, что ли? Что? Разворовал? – У Семена в голосе тихая издевка. – Где у тебя все лежит? А для чего березку в огороде срубил, а? – Это он сказал спокойно, чтобы унять себя. – Ты что молчишь? Не хочешь со мной говорить? – Семен наклонился к лицу Леньки: – А? Он не хочет с отцом говорить! А почему ты на тройки съехал?
– Я не съехал.
– А это что? Здесь три… Здесь три… – Семен перелистывал тетрадку. – А? Бывший отличник! Тамара Петровна твои странички красными чернилами больше исписывает. Ты поглупел?







