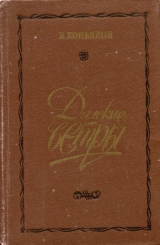
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Далекие ветры
СВЕЧЕНИЕ ЖИВОЙ МЫСЛИ
Когда началась Великая Отечественная война, Василию Коньякову было четырнадцать лет, и даже «городской» читатель, припомнив, что это – возраст Михаила Пряслина из известной трилогии Федора Абрамова, поймет, что́ легло на плечи подростка сначала в колхозе, а потом на новосибирском заводе. И неудивительно поэтому, что все творчество писателя отдано родным сибирским краям, людям, рядом с которыми он рос и переживал трудные времена.
Будни сибирской деревни тех лет нередко воскресают в прозе Василия Коньякова. Листки похоронок, как некие сверхдальнобойные снаряды, долетающие с полей войны и взрывающие всю прежнюю жизнь… И оставшиеся в деревне женщины и старики, справляющие самую тяжкую, просто непосильную подчас работу, и неокрепшие детские руки, тоже за нее берущиеся…
Характерный эпиграф из Аркадия Гайдара выбрал писатель к маленькой повести «Димка и Журавлев»:
«Когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой, я сказал:
– Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
Он нахмурился:
– Как не солдатская? Очень даже солдатская! Ну, вот…»
Погнал мальчишка коней в ночное, и – «деревня словно ожила, как при хорошем дожде» от «того давно привычного, летящего гула копыт», которого давно не слыхала после ухода мужчин на фронт.
Отпустила колхозница озорную шутку, заигрывая с председателем, демобилизованным по тяжелому ранению, и общий смех «будто… сквозь черствую корку пробился», и сами «женщины своего смеха пугаются».
Петька Журавлев, отбившийся от школы, где он всегда чем-нибудь да проштрафится, зачастил в колхозную контору и «всегда старался захватить то место у стены, недалеко от угла, где когда-то сидел его отец», – отец, которого он уже никогда не увидит.
Да, «очень даже солдатская» эта повесть, и, может, самое лучшее, самое законченное из написанного Василием Коньяковым, во всяком случае – покамест.
Быть может, память тех суровых, напряженных дней и собственный, пусть недолгий солдатский опыт самого автора, который успел-таки, если вспомнить слова одного поэта, «походного меду хлебнуть» в пору войны с Японией, и заставляют автора с такой требовательностью относиться к сегодняшней жизни.
Он пришел в литературу после учебы в художественном училище и о творческих муках своих героев – живописцев («Цвет солнечных бликов», «Снегири горят на снегу») пишет отнюдь не понаслышке.
Живопись словом – искусство не легче. Василий Коньяков нередко радует точностью и яркостью видения мира даже в частностях: как метко, например, сравнивает он обледеневшую водопроводную колонку с оплывшей свечой! Главное же, и это внимательный читатель непременно почувствует, писателю свойственно стремление показывать жизнь во всей ее сложности, а следовательно, и богатстве, будь то становление юноши с нелегким характером в годы войны («Не прячьте скрипки в футлярах») или проблемы современной деревни.
Василий Коньяков – художник беспокойный и беспокоящий. И хотя в двух его повестях, вошедших в эту книгу, речь идет о нашем мирном времени, они тоже «очень даже солдатские» по своему гражданскому накалу.
Постепенно разворачивается, набирает силу конфликт в повести «Снегири горят на снегу». Вернувшемуся в родную деревню молодому художнику Андрею Уфимцеву она в идиллические минуты кажется «все такой же… как двадцать лет назад». Однако взгляд его тут же почти бессознательно отмечает нечто иное:
«Вот здесь росла черемуха. Колхозники проезжали под ней и стучали по веткам дугами. А сейчас на месте черемухи новый дом под шифером, замерзшие стекла веранды. Над крышами домов штрихи антенн телевизоров».
И этот, выражаясь языком кино, панорамический «проход» героя по ночной деревне завершается словами, в которых уже звучит неясная тревога:
«…глухо спит деревня. В больших снегах, как в берлоге».
Какое-то неблагополучие есть не только в судьбах тех, кто, как сам Андрей или приехавшая сюда вместе с мужем-агрономом Катя, долго не могут найти применения своим знаниям и способностям во вполне процветающем колхозе, но и в духовной атмосфере, царящей в самой этой деревне.
Горожанка, Катя с трудом входит в сельскую жизнь и что-то воспринимает наивно и экзальтированно, однако порой, как и Андрей, ухватывает нечто весьма важное и ускользающее от внимания «старожилов», ко многому привыкнувших и притерпевшихся: исчезновение, «выветривание» прежней деревенской культуры, обычаев, обихода, образование некоего духовного вакуума, особенно среди молодежи.
«Ищет готовое, – говорит старик плотник. – Одежду готовую. Кино готовую. Жизнь готовую. Где бы им ее сделали, а они ее взяли».
Пробуждение «национальной духовной бережливости», говоря словами Кати, – вот что интересует и привлекает Василия Коньякова в главных героях повести, и в этом его явное родство с тем направлением современной русской прозы, к которому принадлежат Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин…
В повести «Далекие ветры» естественная печаль стариковского существования плотника, а вернее сказать – великого мастера и даже артиста в своем ремесле, Сергея, усугубляется размышлениями об, увы, нередком сейчас явлении: «Нет в детях уважения к делу всей его жизни», да и подлинного интереса вообще в жизни нет. В самом Сергее живет неугасимая память и о большой любви (всего одно лето длилась она, но света от нее хватило на все последующие годы), и о возведенных им домах (он из тех мастеров, благодаря которым, как сказано в «Снегирях…», «деревня душу имела»), и обо всех других будничных трудах, в которых осталась часть души и с которыми связаны воспоминания о друзьях и сверстниках.
Один из самых грустных и трогательных эпизодов повести «Далекие ветры» – когда герой приходит по старой памяти «посидеть» в контору: «Ах, сколько в конторе переговорено, сколько шуток оставлено, сколько самосаду искурено!» Читаешь это и вспоминаешь маленькую фигурку Журавлева, приткнувшуюся к стене на прежнем отцовском месте, будто возле овевающего теплом костра!
Это один из самых печальных эпизодов повести еще и потому, что молодой и, видать, дельный председатель оказался горестно глух к простодушному стариковскому порыву («В конторе разве сидят? В конторе работают»).
Однако ни подобными обидами, ни разочарованием Сергея в сыне Семене, который, по его выражению, «ничего не вез – а надсадился», да и в старшем, Иване, ощущающем себя в деревне этаким заезжим, поучающим гостем, – всем этим содержание повести не исчерпывается, ибо Сергей находит себе истинного наследника в маленьком внуке Леньке с его пытливостью, выдумкой и упрямой неуступчивостью во всем, что дорого его сердцу.
Повесть «Снегири горят на снегу» обязана своим названием краткому, но многозначительному эпизоду, когда Андрей замечает, что у погибшей птицы «оперение поблекло… а от живых исходит свечение».
Подобное «свечение» исходит и от лучших произведений Василия Коньякова, проникнутых живой, напряженной мыслью и «очень даже солдатских» по активности авторской позиции.
А. ТУРКОВ
СНЕГИРИ ГОРЯТ НА СНЕГУ
I
В комнате свежо. На полу рулон грунтованного холста, раскладной мольберт. Этот багаж я с колхозным трактористом еле поднял на сани с флягами.
Восемь километров от станции трактор давил гусеницами снег, а я, привалившись спиной к фляге, ставил ноги на полоз, чтобы они не бороздили по снегу. Временами бежал по графленому следу – грелся.
На стеклах настыл мороз, матовый, без перламутровых блесток. Тронешь ногтем – и на подоконник посыплется сухая пыльца. А за окном, в стронциановом сиянии месяца, падает медленный снег и не слышно шороха опускающихся снежинок. В другой комнате горит свет. Голая лампочка над столом, запорошенная мукой клеенка. Я не зажигаю свет, смотрю, как мама сеет муку. На лавке у окна долбленая сейница с выщербленным краем. Качается темное сито в руках, да слышны равномерные шлепки ладоней.
Задребезжала дощатая дверь в сенцах.
– Кто-то так грохает? – Мама высыпала отруби в чугун, вышла в сенцы. Дверь в избу оставила открытой, чтобы в полоске света видеть откидной крючок.
Я ждал у стола.
В избу, заснеженной шапкой вперед, ввалился Пронёк Кузеванов, за ним – высокий, без шапки, парень.
Пронёк потопал пимами об пол, сбивая снег, надвинулся, стянул с руки спаренную варежку.
– Не спишь?
Достал из кармана заиндевевшую бутылку водки, поставил на стол.
– Тетк Наталь, ты не обижайся. Мы поговорить.
Он уже выпил, обветренное лицо багрово потемнело.
– Ну, ладно, – сказал я. – Вы раздевайтесь.
Парень молча пошел к вешалке.
На нем меховая куртка с замками, шерстяные тренировочные брюки с простроченными рубцами спереди. Брюки натянуты резинками поверх лыжных ботинок. Он красив, чуть горбонос, со смуглым несибирским загаром.
Я поставил скамейку к столу. Мама вдруг засобиралась, накинула шаль, застегиваясь, прихватила ее концы полами телогрейки и ушла с алюминиевой чашкой на улицу.
– Мама, подожди.
Я знаю, как зимой спускаться в погреб.
– Ладно, парни, я сейчас.
На улице морозно сиял месяц. Чашка стояла на снегу. Мама сбрасывала с крышки погреба снег и, поддев лопатой, старалась ее оторвать. Я взял у нее лопату. Потом вилами выбрал смерзшиеся квадраты сена из сруба. Раздвинув вставные доски, мама спустилась вниз.
– Ты не лезь, Андрюш. Расшибешься. Лестница скользкая.
– Я посвечу.
Я стоял рядом с кадками и зажигал спички одну от другой.
Мама сдвинула в сторону стебли укропа. В обнажившемся рассоле всплыли красные помидоры. В чашке их мокрая кожица схватывалась тоненьким налетом льда.
Когда я принимал помидоры из погреба и коснулся маминых рук, они у нее были холоднее алюминия.
Вылезая, она опиралась ладонями о снег.
– Беги домой. Заколеешь. Теперь я сама.
Удивительная убежденность: будто она крепче других. Я подал ей чашку с налипшим на дно снегом и отправил в избу.
– Хватается? – оживленно обрадовался Пронёк. – Чуть недоглядишь – уши распухнут, как пышки.
На столе уже стояли помидоры в тарелке, нарезан хлеб, сало. Мама протирала рюмки.
– Тетк Наталь, что наперстки готовишь? Ты стаканы ставь.
Пронёк сбил сургуч, обхватил ладонью горлышко бутылки и вилкой откинул на стол жестяной колпачок.
– Силен, – сказал парень. Он смотрел на Пронька, как смотрит старший на меньшего – снисходительно и как бы все понимая, хотя был моложе его.
– Опыт, – отметил я.
Пронёк будто не слышал. Только сказал:
– Это наш агроном. Юра Холшевников.
– Приобщается к колхозной жизни?..
– Да. В институте теория, здесь практика.
Пронёк разлил водку по стаканам.
– Ну… За приезд.
Поставил локоть на стол, будто трудно держать полный стакан. Он все такой же. Не изменился. С большим тяжелым лицом грубой лепки, как первый скульптурный нашлепок. Даже лицо цвета глины.
Выпили. Пронёк наколол вилкой помидор – он, осев, растекся. Пронёк взял другой за крючковатый корешок, высосал одним вдохом, крякнул:
– Х-х-о… Аш затылку холодно.
Пронёк неуклюж и здоров. Когда-то, будучи моложе, он казался бесформенным, как мешок с тестом, а сейчас стал тверже, определенней. «Бузотер»… – так недобро и осуждающе зовут его в деревне.
Что общего нашел с ним этот городской парень?
Изморозь на его волосах растаяла. Мокрые пряди прилипли ко лбу. Он наклонился над столом близко к электролампочке. От волос шел пар. Стряхивая пепел папиросы на спичечный коробок, он молчал, будто его что сдерживало.
Мягко подступал хмель. Я смотрел на оттаявшие помидоры, вспучившиеся, налитые влажной краснотой, на синенький самолет под пеплом, – он медленно плыл, разворачиваясь на столе. Спина уже не чувствовала холода от окна.
– Это здорово, что вы пришли, – сказал я, чувствуя радостную близость к этим людям.
Я был благодарен Проньку за то, что он сидит за этим столом с каким-то незнакомым парнем. Значит, я дома. Значит, кому-то вот так вдруг захотелось прийти и увидеть меня.
– Это вы здорово придумали…
Агроном порывисто поднялся с лавки, качнувшись спиной на стенку. Прошел к вешалке и достал из внутреннего кармана куртки еще бутылку.
– Приобщим…
– А это не чересчур?
Здоровые же они! Лоси. Ну, Пронёк – это понятно. А Юрий? Спортивный малый…
– Вам же завтра работать.
– До завтра еще…
Пронёк долил стаканы.
– Тетк Наталь, надо допить…
– Я тогда квашню не поставлю. А ты бы, Пронь, сам больше не пил. Как домой пойдешь? Много же…
– Сегодня мы намерзлись. Сегодня положено, – сказал Пронёк. – Только что с лугов. – Он посмотрел на меня. – Всю дорогу трос рвался. Раньше к стогу десять подвод подгоняли, а сейчас… – Пронёк довольно хорохорился. – «Челябинец» вокруг трос заведет, сдернет с места, так по снегу весь стог и тянет. Эх… Ты не знаешь, Юра. А мы с ним вместе в школе учились. – У Пронька добреет лицо. – Як нему всегда прихожу. Как он в деревню приезжает, я прихожу. Ты нам покажи что-нибудь. Покажи. Он посмотрит, как ты…
Проньку хотелось похвалиться мной, похвалиться и тихо торжествовать. Я представил его перед расставленной панорамой своих этюдов. Пронёк заметил, что я долго молчу, поискал глазами, что я рассматриваю на клеенке.
– А на этот раз надолго в деревню?
– На этот раз…
Мама почувствовала, что я сейчас что-то скажу, перестала размешивать опару.
В темноте стекла отражались заслонка печки и ведро с водой. За ними синий ситчик маминого фартука. Я минуту молчу. С неотвязной привычкой воспринимаю все зрительно. Вижу только цветовые нюансы, рефлексы и решаю, чем это можно было бы взять, какими красками.
Киевская художница Ада Рыбачук поехала на остров Колгуев искать свою тему и свою любовь. Мой друг Гена Сорокин после Суриковского института поточным способом красит десятиметровые кинорекламы в городе. Рисовать уже разучился. Обводит кистью физиономии актеров через проекционный аппарат.
А я… Я жил в дощатой времянке у частников. Затыкал носками прогнивший пол по углам, писал свои «городские окраины» и выставлял в художественном салоне на продажу. Но чаще складывал под кровать. А рядом с моей времянкой вырастали панельные жилые массивы и новые дома культуры. Светлые. Со сквозными пролетами стен из стекла и алюминия. Элегантные дома культуры. Они бережно входили в глухую чащу лесов, распахивали стеклянные свои стены перед живой белизной березок с опадающими листьями.
Я видел, как на глухом простенке зала ложился небольшой эстамп в строгой белой окантовке и не «вписывалась» живопись из художественного салона.
Новоселы городских квартир обставляли свои комнаты современной мебелью и не заходили в магазин художников. Они покупали в культтоварах репродукции ИЗОГИЗа. Дешевле. Ребята из Союза художников повздорили из-за какого-то заказа – кажется, панно по пятилетнему плану при въезде в город. Когда приехали в горисполком заключить договор – заказ уже перехватили другие. Мне не хотелось гоняться за заказами. На первых порах достаточно было вести изостудию при Доме культуры. Рублей за пятьдесят. Я предлагал свои услуги. Директора культурных очагов радовались моему приходу.
– А что? Вот кстати!.. Мы давно мечтаем о студии… Знаете, сколько желающих из цехов приходят! Комнату подберем. Нам десять кружков нужно организовать… на общественных началах.
На общественных началах… А чем мне жить? Я стойко мучился над какой-то композицией, что-то искал… И однажды понял: все, что я делаю, все это для того, чтобы продать, чтобы прожить. Что в сущности никто во мне не нуждается. Я не нужен… Это было неожиданно… Моя живопись, к которой меня так долго готовили, не нужна. Я не верил… И начинать новую работу уже не было стимула. Не было зачем. Исчез толчок.
Я понял… Это пришло как облегчение. Пришло сразу. Мне даже стало смешно. Не буду. И я срезал все грунтованные холсты с подрамников.
– Опять что-нибудь изобразишь, – сказал Пронек. – Нас с Юркой на тракторе. Или на стогу…
– Нет… Теперь я с тобой сено буду возить. Или удобрение на поля. Вилами орудовать, навоз на сани накладывать. На морозе. Я давно на морозе не работал.
Пронек рассмеялся:
– Тебя в деревню калачом не заманишь. Столько учился…
Он поднялся и с сожалением смотрел в темную комнату.
Я пошел их провожать.
За воротцами Пронек потолкался с нами и направился к дороге, пробивая в снегу след, хотя светил месяц и была видна глубоко протоптанная дорожка.
– Пойдем ко мне, – попросил агроном. – С женой познакомишься. А то она одна дома. Со мной скоро разговаривать перестанет. Когда ни придешь – нахохлится.
– Что так?
– А-а… – жестко ответил Юрий. – Сама она не знает, что ей надо. Хватило только на три месяца.
Их дом без сеней кажется раздетым. Мы обходим высокий чурбак, задеваем рыхлый бугорок снега – под ногами раскатываются колотые березовые дрова.
Дверь не заперта. В первой комнате полумрак, холодно. В другой… В другой на длинном проводе электролампочка, перекинутая через гвоздь на стене, В углу полочка из досок, застеленная газетой. На ней раскрытая общая тетрадь и листы бумаги. Рядом, завернувшись в желтый тулуп, сидит молоденькая женщина. На кровать наброшено ватное одеяло.
Юрий бодро остановился перед ней.
– Вот моя Катя, – сказал он.
Катя не ответила. Она смотрела в стенку. Юрий покачался перед ней и решительно сел на кровать. Долго сопел, расшнуровывая ботинки. Скинул куртку на чемодан и лег, тяжело закинув ноги.
Я нелепо стоял посреди комнаты, ждал, не откликнется ли Юрий.
Его жена продолжала сидеть неподвижно, сжимая изнутри полы огромного тулупа.
– Я где-то это уже видел, – сказал я. – Да, вспомнил. У Сурикова. «Меншиков в Березове». Старшая дочь. Вместо собольей шубки – тулуп, но скорбь та же…
Она опустила руки, и высокий воротник тулупа свалился назад.
– У вас явная потребность поупражняться в пошлости.
На меня еще никогда не смотрели с такой неумолимой неприязнью. Черные зрачки ее сошлись до булавочных точек.
– Вы бы шли домой… Или куда там… Видите, ваш друг уже спит.
Я опешил. В комнате ничего не было. Некрашеный пол, сгущающийся полумрак, Лампочка пронзительно освещала только угол, и почему-то казалось, что атлас стеганого одеяла холоден.
Легкий же парень этот спортсмен! Свободен от меня, которого бог весть зачем вел, свободен от этой девочки, своей жены.
Мне она казалась именно девочкой. Лампочка горела за спиной, и маленькая головка девочки была темной и неподвижной, как у остановившегося японского божка.
Жена! Неискушенная городская девчонка останется наедине с безжизненно пьяным парнем в нетопленой комнате с голыми стенами.
Мне ничего не оставалось делать, как уйти, а я смотрел на кровать, приготовленную на двоих.
– Вы бы шли домой. Правда…
Юрий спал, положив согнутую руку на глаза. Я хмыкнул, неуклюже повернулся и пошел, а спиной помнил исписанные листы бумаги под лампочкой и жену агронома в тулупе с пустыми, свесившимися по бокам рукавами.
На улице, трезвея от мороза, подумал, что не хочу никуда спешить.
Кругом – белым-бело. Легкий снежок на укатанной дороге. Тронешь ботинком, он не чувствуется, только наст скользкий под ногой. Месяц над дорогой. Словно нарочно для меня. Смотри. Деревня все такая же. Не изменилась, как двадцать лет назад. Парнишка на самодельных лыжах ходил вон по тому сугробу, скатывался у тына, а потом что-то чертил лыжной палкой на стенках сугробов. А резкая тень от тальникового кружка растягивалась по снегу.
Что же ты хотел тогда, о чем думал в свои десять лет? Сейчас идешь точно такой же ночью, по той же улице, банально пьян, и у тебя ни уверенности, ни семьи.
Вот здесь росла черемуха. Колхозники проезжали под ней и стучали по веткам дугами. А сейчас на месте черемухи новый дом под шифером, замерзшие стекла веранды. Над крышами домов штрихи антенн телевизоров. Доверчиво подставила деревня темные окна напряженному месяцу. Укладывается спать жена агронома. Я иду по улице и почему-то хочу, чтобы она нравилась, эта улица, жене агронома, и хочу, чтобы все люди знали, как бывает зимой легко на ее ночных дорогах. И не такие уж стылые по ночам тридцатиградусные морозы.
Дома у двери, дожидаясь, когда откроет мне мама, я уже без радужного восторга думал: глухо спит деревня. В больших снегах, как в берлоге.
5 октября.
Вечером Юрка привез дрова. Я стояла у телеги, а Юрка скидывал березовые лесинки. Они белые в черных пупырышках и ровненькие. Я сказала:
– Березки загубил.
Юрка ответил, что это сушняк. Валежины. Говорит-то как! Валежины.
О том, что это валежины, я узнала, когда Юрка стал их рубить. Кора на березах лопалась и слезала. Под ней обнажался шоколадный ствол, изрытый дорожками с желтой пыльцой. И пахло от дров грибами. Я попросила: «Дай мне».
– Ха! – выдохнула я, неловко ударяя топором. – Х-х-а…
Березки были твердые, как кость.
– Катя! Прелесть. Ты где научилась?
– Чему?
– Х-х-а.
– У деда Подзорова.
Юрка засмеялся. Я опустила топор, выпрямилась. Был вечер. Густое небо падало за плетни, за согру. Уже раскрыты в огороды ворота, вырублена капуста, сбились листья к плетням. Воздух прозрачный и стылый, как вода в здешних колодцах. Я запрокинула голову, хотелось чувствовать его лицом и губами.
– Ну-ка неси… неси дрова за избу.
Когда мы зашли за стенку, Юрка наклонился ко мне и поцеловал осторожно-осторожно.
Я взбежала на крыльцо. Юрка остановился внизу, удивленно рассматривая меня. А я боялась, чтобы кто-нибудь не вспугнул эту неясную радость.
– Юрка! Знаешь, мы молодцы. Взяли и приехали. В далекую-далекую Сибирь. И вольны делать все, что нам захочется. Никого у меня нет. Я сама. Это, наверное, детское – я сама. Сама… Как думаю, как понимаю, как настаиваю. Это для меня главное. Других забот нет. Я – Диоген. Мне ничего не надо. Только делать то, что хочу. Я уехала от посторонних забот к своим желаниям. Хочу работать. А в избе у нас будет только стол, стулья, посуда.
– И кровать. – Юрка посмотрел на меня так, чтобы я поняла, почему именно кровать. Мне улыбка эта не понравилась. – А ужин-то варить будем?
– Я принесла с фермы молоко.
10 октября.
Утром Юрка выбежал на улицу в трусах и кедах – прыгал во дворе со скакалкой. Какая-то пожилая женщина увидела его, далеко остановилась и ждала, когда он закончит физзарядку. Застыдилась. Должно быть, подумала: «Мужик нагишом прядает».
Смешная целомудренность.
Потом Юрка убежал на конный двор запрягать свою лошадь в ходок. Я уже знаю, что это такое – ходок: плетеный коробок из прутьев, изогнутый этаким славянским ковшиком. Коробок на легкой телеге, а в нем восседает Юрка в кепке и кирзовых сапогах. Юрка вживается в кирзовые сапоги.
Прежде чем уехать, Юрка соскакивает, снимает вожжи с кола и долго возится у кроткой головы коня. Конь оживляется, задирает морду, а Юрка зачем-то засовывает ему в рот стальную, как две сцепленные авторучки, цепку. Металл глухо колгочит по костяшкам зубов.
Юрка уехал. Опять на целый день, а я… Нужно сходить за хлебом в кладовую. Нам выдают его готовый. Поспешу к семи. Не хочу, чтобы там было много народу. Когда бы я ни пришла, женщины уже ждут тетку Надежу с тележкой. Кладовая открыта. Вместо ступеньки в амбар – толстое бревно в мазуте. Мне всегда мешает мое узкое платье. Я поднимаюсь, а женщины рассматривают мои коленки. В кладовую они не заходят – ждут хлеб на солнце.
В кладовой полутемно, пахнет медом и гвоздями.
Для мужчин мой приход становится темой. С неловкой усмешечкой они зубоскалят:
– Вы, Екатерина Михайловна, здесь уже восьмой раз. Мы сосчитали. Как пройдете, так следы. Посмотрите – луночки. – Я увидела отпечатки каблуков на полу. – Вот на собрании поставим: ремонт кладовой за ваш счет. Пусть Юра раскошелится.
Тетка Надежа привезла хлеб. Булки большие. Кладовщица разрезает одну пополам, она сдавливается вся, и огромнейший нож нехотя пробивает корку. Булки поднялись на поду, и в местах разрыва они горячи и цепки. Я с трудом запихиваю половинку в сетку. Когда иду к выходу, действительно слышу, как хрустят волокна досок под моими шпильками. Мне становится смешно.
Мне легко со здешними людьми. Если бы я была у дел, а не только носила из кладовой хлеб в авоське! Но я уже знаю, что в нашей деревне учителя не нужны. А эти туфли надо давно бросить, никак не могу доносить. Куплю в раймаге босоножки. Но ужас, как на здешних дорогах ноги пылятся.
В нашей деревне учителя не нужны… Об этом я узнала вчера в районе.
Заврайоно – женщина беленькая и круглая, как торт. В теплой шерстяной кофте с отделкой – толстые жгуты спиралью по груди. Она придирчиво рассматривала меня и недоумевала:
– Странная вы… Что же, всю жизнь теперь за мужем? А ваш университет? У вас такие возможности, столько вариантов. Муж перейдет в райцентр в управление.
– Муж хочет быть агрономом, а я – жить с ним рядом и учить ребят.
– Вы же филолог. А в начальной… Такой оклад… Разве это безразлично?
– Неужели в современной деревне мне с университетским образованием не найдется места?
– Но… ведь…
– Я считала свой приезд в деревню вполне естественным. Мне двадцать два года. Только и начинать. И… Ведь газеты и журналы только о том и говорят, что не хватает интеллигенции в деревне.
– Не пойму… Что вы делать там будете? А у нас в райцентре в железнодорожной школе не хватает словесника, и в районной десятилетке ведет литературу учительница из педучилища. А в Речкуновке муж и жена учительствуют восемь лет, выпускают хорошие классы. Не можем же мы их раньше времени отправить на пенсию.
Я поднялась. Заврайоно участливо остановила меня:
– Екатерина Михайловна! Вы только не исчезайте совсем. Подождите. Мы вам что-нибудь предложим.
Горько. И все просто. Вот так, жизнь. Это твоя первая консультация. С университетским образованием – в начальную школу. Это же надо приветствовать! Особенно в Сибири. Приехала. Наивная же я. Дура.
12 ноября.
Я позорно трушу. На ночь жарко натопила печь – утром все в избе выстыло. Мороз лезет в дверь и нарастает снежным грибом на щелях. Я не закрыла трубу русской печки, и от нее, как из ледяной пещеры, холод осторожно и глубоко пробрал до костей.
Печь придется протапливать. Выпал снег, и березовый лес стал сырым, нахмуренным. Черными пятнами на нем сорочьи гнезда.
Принесла охапку дров, бросила на жестянку перед печкой. Эту печку я люблю. На плите у нее пять кругов. В центре крышечка, потом кружки побольше, побольше, побольше, и последним можно крутить «хула-хуп».
С полена зубами надрала бересты, растопила печку, В огне береста свернулась в тугие трубочки. Я не включила свет. Печка гудит – «прям выходит из себя», как здесь говорят. Но гудит ласково. Юрки нет, он в клубе. А мне можно подумать. Сейчас надену тулуп.
Меня, пожалуй, сложно понять другим потому, что я еще сама не понимаю себя. Зачем мне нужен был университет, да еще филологический факультет? Я знаю преподавателей литературы, выжатых вечными домашними заботами. Издерганные детьми, они еле успевают погладить себе блузку, затюканы программой и чумеют над многоэтажными стопами тетрадей с сочинениями, а в них из года в год (о, я знаю эти конспекты и планы уроков в общих тетрадях) один и тот же «положительный образ». В развернутые планы сочинений никакими усилиями не втиснется ни одна живая искорка своей заметы. И не придумает ничего нового учитель, потому что и думать ему некогда, и думать отвык, и не улавливает он, чем живет современная литература, что ищет за пределами установившихся условностей, оттого что сам ничего давно не читал – некогда.
А я… Я вижу перед собой ребят, их глаза. Они смотрят на меня и ждут. Ждут первого моего слова. Что я, кто я? Что я им сейчас дам?
Первое мое слово – это… Я подношу палец к губам и говорю: «Т-с-с… Тихо… Одевайтесь. Мы пойдем в лес. Я буду учить вас не знать, а слышать Пришвина. Зимой он говорит тихо – пристальный мудрый философ. И вместе с ним вы услышите себя. А потом… когда-нибудь сами захотите мне рассказать о том, чего я не знаю и не знает никто».
Но для этого я должна уехать далеко, где некому меня будет одергивать, где не нужно растрачиваться на докторальную всезнающую опеку…
Приблизительно так я придумала свой первый урок. Для себя. Придумала с детства. Девица, воспитанная городом, я никуда не выезжала, но до меня доходили обрывки какой-то большой дерзкой жизни, и я не равнодушна к ней. Я не помню этих источников. Может быть, это было кино, может, книги, может, музыка.
Я не могу довольствоваться потребностями подруг моего студенческого круга, потому что знаю: есть люди, которые мыслят иначе, живут лучше. Они другой категории чувств.
И во мне живет потребность понять их, этих людей. Что им надо? Зачем? Разобраться в их жизни и активно взять ее, потому что мне это надо. Лично для себя. Я тщеславна и хочу взять на себя много.
Меня пугал примитивизм заведенных будней. А здесь для меня важен каждый мой день. Как я проживу его, как увижу себя в нем – я зафиксирую.
Тулуп греет. Дыхнешь в воротник – он отдаст тепло щекам, и оно держится у лица.
Я заметила одну особенность. Когда пишу в тулупе – слова мои становятся мужественнее. Об этом я узнала случайно, когда перечитывала написанное. Ошибаюсь я или нет в этом ощущении? Кто проверит? Вообще для чего я пишу? Дневники мне не нужны. Но мне кажется, что так я сохраняю способность думать и не теряю возможности следить за своими днями.
И еще… Я никому в этом не признавалась, даже себе. Это далеко и неясно во мне. Кажется… я умею видеть слово. Будто беру и прикасаюсь к его новизне, его непонятной зрелищной сути. Вот оно, легкое, обыденное такое, вдруг набухает содержанием, как ветка в мороси, и, влажное, ложится на бумагу и приобретает вяжущий вкус. Я сама не знаю, отчего радуюсь этому.
Может быть, к ним, к этим словам, я и приехала в эту глухую даль, где замело все снегом и я нахожу следы зайцев за стеной на огородах.
21 ноября.
Юрка сел на стул и начал стягивать сапоги. По всему полу рассыпалась пшеница.
– Холодная, как свинец. Ноги замерзли. Семена сейчас подрабатываем. Залез на ворох – начерпал. Разуваться на морозе боялся.
Юрка ходит босиком по полу. И там, где ступает, пшеница исчезает, как омакивается.
– Ты гусь. И у тебя не лапы, а губка.
Юрка не отвечает, надевает вязаную шапку и толстый шерстяной свитер. Садится, примеряет ботинки с коньками. На меня ни разу даже не глянет. Спина у него прямая и широкая, а из-под свитера выступают лопатки.
Я подхожу к нему сзади и устраиваюсь локтями между лопатками, давлю изо всей силы. Юрка – железобетон. Не оставляет своих привычек нигде, никакой поблажки себе. Характер. Хвалю. И я поглаживаю ладошкой его волосы на лбу.
– Гончаренко и Гришин для тебя скоро будут только подметать дорожки.
– Ты бы одевалась быстрей. Озеро посмотришь. Я больше тебе не буду напоминать.
Юрка говорит, а под локтями у меня спина его гудит. День сегодня потеплел. Воздух мягкий, притих неподвижно у мокрых березок.











