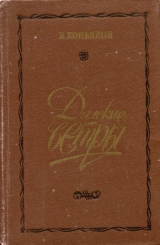
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
«…Женюсь, – думал я, – на этой красивой девушке. Сейчас возьму и скажу: «Хочешь быть моей женой?»
И она согласится. Мне почему-то кажется, что она согласится. Испугается и согласится. Они будут вместе с моей матерью что-то стряпать на столе. Павля в ситцевом платьице, руки по локти в муке. Разговорятся о чем-то своем, женском, а Павля будет ждать, когда можно вбежать в мою комнату, в темноту, найти меня, прижаться и шептать что-то, и мы вместе с затаенной радостью будем ждать своего ребенка.
– Губы у тебя, – говорю я, – как ментол пососал…
– Зима же… – она нагнула голову и приткнулась лбом к моей телогрейке.
Она будет очень ласковой и верной женой, Павля…
– У меня руки совсем замерзли, – говорю я.
– Я знаю.
Она чуть приподнимает локти, и я прячу ладони у нее под мышками.
И тогда отчетливо вспоминаю безжалостное право деревенского парня в морозы греть руки у девушки за пазухой. До пронзительного ощущения почувствовал, как у парня накалены руки, он раздвигает теплый воротник пальто, расстегивает пуговицы кофты, почти обжигаясь, накрывает под лифчиком окоченевшей ладонью грудь, а она огненно накалена.
Меня передернуло.
Павля, став строгой, сказала:
– Ну и… хватит. Побаловались. Пора домой. Хмель у тебя уже прошел…
Она проводила меня до калитки, защелкнула закладку и долго стояла во дворе, не шевелясь.
– Иди, – приказала мне и засмеялась.
Мама открыла сразу. Была она в телогрейке, глубоких галошах – наверное, дремала одетая.
– Ты что, ждала?
– Нет… Так, устала просто. Села и сижу.
Я поискал на стенке выключатель, зажег свет. Лампочка была великовата для маленькой комнаты.
– Есть будешь?
– Нет… Ложись, ма.
– Агрономша с мужем хотели прийти. Встретились. Я им сказала, тебя нет – вернулись.
«Ну не пришли – и не пришли…»
Я стоял среди комнаты и видел Холшевникову. Коротенькие кончики ее шерстяного платка, слабо затянутые на подбородке, шею, туго окольцованную каракулевым воротничком, и ее улыбку. Я думал о чужой женщине, как о вечной беспокоящей тревоге. О женщине, как о высоком вознаграждении…
«Не пришли и не пришли…»
Мне хотелось ни о чем не думать. Сидеть и молчать. Если бы я умел плакать… Прости меня, Павля.
Я разделся, бросил телогрейку на пол, повернул к себе портрет. От него пахло устоявшейся теплой краской. Из холодного мерцания смотрел на меня Дмитрий Алексеевич. Я равнодушно разглядывал голубое пламя на подбородке и его глаза со слабым отражением печи.
И вдруг я понял, что ничего мне не надо, только вот эту способность видеть, какими бывают люди в минуты озарения, работу, за которой могу приблизиться к их высокой значимости. Только это может оправдать жизнь.
А ведь я могу… Это мое… Ведь это лицо, такое лицо я написал сам. Только вчера… Ничего мне не надо, кроме того, что я могу… Могу!
Я еще долго сидел не шевелясь – сна не было.
25 февраля.
Можно ли так сказать: «бархатный мороз». Или «теплый холод»?
Все неточно. Нет новизны ощущения, какое испытывала я. А какое бы определение этому нашли писатели?
Я вышла на крыльцо в легком платье без рукавов и тогда почувствовала это. Наступала весна. Снег еще не трогался – здесь он удивительно белый, – только по дорогам начал схватываться слюдяными кружевцами на соломинках да спекшейся корочкой на скосах сугробов. Солнце поймало меня, окатило голые руки и не давало шевелиться. Еще от снега снизу поднимался мороз, а сверху держала колючая весенняя теплота. И уже не можешь уйти, потерять эту ласковую свежесть. Будто весна купает. Надеть бы на ноги пимы, чтобы не чувствовали прохладного дыхания снега коленки, и можно блаженно отдаться этой весне.
Я думала: как весна знает, что мне надо! Она вся во мне… Или я – ее порождение, как воздух, который есть, но никак его не потрогаешь, как мокрая веточка. Как написать об этом и остаться такой же внезапной, как солнечный воздух, чтобы люди, прикоснувшись к словам, почувствовали знобящую причастность к миру, ощущение его радости, как чувствую это я. А радость не исчезла во мне до самого вечера. Я снимала с ограды белье. Смерзшееся и теплое, оно стояло коробом и сразу никло на ладонях. От него пахло согрой. Я собрала его в охапку, хотела идти домой, и тут увидела мальчишку.
– Санька! Санек, – ужаснулась я и не заметила, что назвала его так, как называют деревенские мальчишки. – Ты откуда? Замерз же. Господи! Плачешь, что ли? Ну-ка зайди.
Санек медлит. Я бросила на снег белье и ввела его за рукав.
– Зайди.
– Не, – говорит Санек. – Я пойду.
– Ладно, отогрейся чуть. Я же у вас была.
В избе варежки он держал под мышкой, а руки сжимал, как леденцы нес.
Я забрала у него варежки. Они тяжелы, будто в них налита вода, а сверху накатанно настыли льдинки. Я посадила его на стул. Он скинул пимы. Пимы стучали колодками. Шерстяные носки хоть выжми. Санек прошелся по полу к печке, оставляя следы.
Штаны его обледенели, стояли раструбами, а на сгибах ледяной панцирь разрушен, сломан мокрыми складками.
Я сняла с него носки, и ноги у него оказались белыми, в грязных узорах шерстяной вязки.
Санек крепился от боли.
– Откуда ты такой?
– На льду лежал.
– Почему? Где?
– За камышами на озере. Там рыба дохнет. Все сейчас туда идут. На санках ломы привозят. Проруби продолбили – ждут, когда рыба подойдет.
– Зачем она подойдет?
– А дышать… Подо льдом же воздуха нет. Знаете, сколько там сейчас… Все с ломами пришли, а я так.
– Что делал?
– Смотрел в прорубь…
Санек поднимает большие глаза и доверительно сообщает:
– Вода зеленая-зеленая… Даже черная. Только все равно видно насквозь. Нет… Только сверху насквозь. Рыба помаленечку из глубины плывет головой кверху, к проруби тянется. Тоже зеле-е-еная. А ее строгой ка-а-к ударят! Зубьями. Выбросят на лед – она застынет, и глаза у нее остановятся.
– Они же?.. Они же у нее и так никогда не моргают!
– Нет… Они у нее живые… А на льду останавливаются.
У Санька от пронзительного видения тоже круглеют глаза.
– А маленьких рыбок сколько!.. Как звездочки – брызнут, и нет их. Потом опять собираются. Это они уже надышались.
– А что это – строга?
Санек смотрит на меня с открытым ртом и долго соображает.
– Зубья такие длинные с бородками на палке. Есть восемь зубов, а то и двенадцать.
Санек растопыривает пальцы. Они не слушаются.
– Весь день в прорубь смотрел?
– С утра.
– Почему тебя никто не прогнал?
– А прогоняли…
– Ты же простыл… Замерз как.
– Все тоже замерзли. Я хоть в варежках был, а рыбаки так. Руки у них… опухли даже от воды.
– Ты в школе был?
У Санька чуть вздрагивают глаза, но не моргают и смотрят открыто. Он только отводит в сторону лицо.
– Я пойду.
– А сумка твоя где?
– Под крыльцом в школе.
– Спрятал?
– Я пойду.
– Давай штаны посушим? Я не буду больше про школу спрашивать. Ты мне так расскажи что-нибудь. Про рыбу.
Санек поспешно надевает пимы.
– Какие штаны мокрые!
Они влажно шумели, липли к коленкам.
– Уже теплые.
– Ладно. Только теперь бегом.
И двоечник ушел. Я собрала со снега белье, и мне показалось, что теперь оно пахло озером. Положила белье на кровать. Мне отчетливо виделись круглые проруби, полные водой, и выброшенная рыба на льду, с застывшими кверху хвостиками.
«…Глаза у рыбы в воде живые, а на льду останавливаются…»
Как передать словами внезапность ощущения? Если бы обладать маленькой долей видения этого мальчишки! Ведь любознательный двоечник даже не знает, как свежи его слова.
А я призвана учить его литературе. Я, потому что пятнадцать лет штудировала толстые учебники. И это, должно быть, считается справедливым, что его учитель с неколебимой убежденностью ставит ему двойки.
Я забываю про белье, сажусь к столу и начинаю записывать: «За воротцами, чуть пройти за огород – начинается согра. Сизым дыханием исходит над ней утро. Согра подступает к кузне изувеченной черемухой. Деревце в куче навоза однобоко свешивается с горы. Под ним вытаяли и почернели брошенные колеса.
Над шиферными крышами изб плавится весенний воздух. Я смотрю на согру вниз и только сейчас начинаю различать тончайшие оттенки.
Согра кажется серой. Серая согра… как люди, если с ними не соприкасаешься, если…»
Я останавливаюсь и не знаю, как продолжить. Серая согра, пока в нее не войдешь…
Нет… Какая-то деланность. Вот и застопорилось.
Я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить: что же со мной было утром, когда я выходила на снег? Вот уж и исчезла неуловимая настроенность – легкая и неопределенная. Все заглохло. И я уже знаю, что не смогу даже вспомнить и воспроизвести непосредственность рассказа мальчишки. У меня нет его слов. Я прожила в деревне полгода и… будто не прожила, а прошла мимо.
Я вдруг соображаю, что сижу, ничего не записываю, не прикасаюсь к белью, а жду с нетерпеливой радостью девчат – они обещали зайти за мной сегодня, и мы пойдем вместе на ферму.
Шли по крутой тропинке. Когда поднялись наверх, сквозь рябую белизну деревьев увидели дворы.
– А мы их у себя в дежурке оставим, – говорит Лида Бессонова.
Девчата запыхались. Им тяжело и неудобно нести в руках толстые стопки журналов. Пока я дома надевала валенки, девчата на столе листали «Неву».
– Вы только журналы читаете? А мы… – Лида помедлила и поправилась: – Я современные книги не очень люблю… Начнешь читать… В старых книгах все необыкновенное, и говорят как-то не так, и красивые все…
Мне хотелось улыбнуться.
– Знаете что? Забирайте все это… Мы еще о них поговорим.
Я собрала с пола свалившийся штабель журналов и отдала девчатам.
В дежурке замороженное окно, в углу мерцает приемник «Рекорд». Пробиваются в этот затерявшийся уголок в березах мелодичные позывные радиостанции «Юность».
Приемник у них, видно, остается включенным всегда, в нем потрескивало, и тусклый глазок вздрагивал в сумраке.
Мы вышли на улицу. В раскрытые ворота въехала подвода, и женщина, стоя на возу, раскидывала вилами силос. Следом за нею, как серая краска по бумаге, текли овцы.
– Потолькя, ты еще соломы привези, – из глубины двора кричал дед Подзоров, – подстилку сделаем. Здоровы были, – ответил он мне и обрадовался. Почему-то он показался маленьким. Его большие валенки уголками голяшек торчали над коленками и, когда он шагал, зачерпывали воздух, как птицы. – Вот… Руки отказываются работать… Болел я. Заместо меня двух женщин поставили. Я ня знал…
Он стоял с вилами перед ступенькой невыброшенного навоза, будто весь длинный двор был двух уровней.
– За полтора месяца загадили. Убирались, лишь ба день прошел… А я ня мог…
Что-то изменилось в нем, усохло. Он говорил, и не было в нем сосредоточенности. Долго искал соломинку на лице, а рука его исходила мелкой дрожью. Он с участием смотрел на меня, а во мне почему-то появлялась к нему жалость.
– Вам уж отдыхать надо. Пенсию получать будете. Вы здесь в почете таком…
– Нишь я один живу, нишь для себя?
Вдруг он расслаб, склонил голову. Это было так неожиданно!
– Забяди́ли нас люди… С дочерью забяди́ли… Кому жаловаться? Потолькя-то опять с четвертым… Принесет и бросит, а я… Я с самой с ей вожусь.
Я вспомнила, сообразила, что Потолька – его дочь. Вспомнила ее белое, нестарящееся лицо, с менингитной неподвижностью губ, ее налитые груди без лифчика, как вымя, качающиеся под кофточкой. Ее сына, десятилетнего кретина, бегающего осенью по улице с большим колесом от конных граблей; девочку, не принятую в школу, – дефективна. Третий, пятилетний сын, еще не встает на ноги, и дед кормит его из соски. И теперь…
– Она вить не при уме… Убогая. А люди без жалости. Находются… Ей что?.. Голова больная, а… Усе остальное работает. Я ходил, жаловался людям… А они изгаляются, смеются только: «Может, ты сам». Теперь четвертого… Зачем мне?.. Если бы они были в уме!
То ли он плакал и не чувствовал слез? Они ползли у него по щекам, заставляли морщиться – будто были из одной горечи.
– Ведь это… – Я не знала, что говорить, ошеломленная его исповедью. – Это ведь все можно… надо приостановить…
– Забяди́ли меня… Забяди́ли… Люди жа!.. – взывал он. – Что мне опять делать?..
Старик стал надевать большую варежку, обшитую залощенным брезентом.
Я не возвратилась в дежурку. Не могла там ни о чем говорить и девчат ждать не стала. Я вышла на дорогу домой.
«Как же это? Как можно людям так жить? Знать об этом и жить? Кто это может потешаться? Столько лет! Ненормальная же она!»
VIII
Я обиваю о колено шапку – сено сыплется на пол. Сбрасываю телогрейку и вхожу в другую комнату. У меня горит лицо, нахлестанное ветром. Вечернее солнце уже не попадает в окна.
Я стою среди комнаты и не хочу трогаться с места.
«Как же это вышло?»
Приседаю перед этюдником. «Кисти не вымыл». Забираю их в руку. Мне же срочно нужно быть в городе – взять краски в союзе, купить холста. «Что же теперь?..» – я останавливаюсь в нерешительности.
«Не надо бы нам. Ведь это пройдет… Я же все понимаю… Как она сейчас? Давай отдохни, – говорю я себе. – В ночь на смену. Тебе теперь хватит времени у своего котла подумать целую ночь о радости твоей или беде. Может, выяснишь».
Не раздеваясь, я ложусь на кровать.
«Как это вышло?»
В обед я пошел на ферму запрячь лошадь, чтобы привезти домой сено. Уже становилось тепло – как бы не ослаб лед. Сено за рекой. Положил на сани вилы, лопату – откапывать оденок. Взял тулуп. Он мог не понадобиться – пригревало солнце, но если сидеть на возу и в поле начнется ветер, то поднимешь высокий его воротник, ляжешь в ложбинку воза и слушаешь, как бьется, шуршит по овчине метель. Радуясь, что помню все деревенские атрибуты приготовления, ощутив беспокойное нетерпение вожжей в руке, я прыгнул на сани, нашел ногами устойчивые точки на вязах, и лошадь торопливой рысью взяла с места, сани легко раскатились на повороте, ударяясь о бровку дороги. Чувствуя требовательную радость бега застоявшегося коня, я отпустил вожжи.
Сейчас сверну мимо деревни в луга, спущусь с горы, и поведет дорога мимо кустов черемушника, к дальним болотам, к тоненькому осиннику. Будут медленно надвигаться заросли тальника, высохшие плетни старых заездков. Я вспомню знакомые места…
Конь недоуменно осел назад, затормозил, останавливаясь. Сани накатились, застучали головками о его ноги.
Кто-то метнулся из-под головы коня в сторону и увяз в снегу.
– Катя? Вы что, задумались?
– Так…
– Садитесь, подвезу до первых домов.
Катя неловко примостилась на санях, сложив согнутые коленки на бастрик и натягивая на них полы шубы.
У нее были какие-то детские скорбные губы и размытые синячки под глазами.
– Ну и экипировка у вас… Добротная…
– Все предусмотрено, – говорю я, – веревка сзади, вилы закреплены. Даже Тур Хейердал был менее тщателен.
– Куда же вы?
– За сеном. Вот воз утаптывать некому…
– Возьмите меня.
– Это за рекой.
– Ну и что?
– Через луга. Километров пятнадцать.
– Ну и что?
– Вернемся только ночью.
– Возьмите меня…
– Сейчас мне сворачивать… А морозы начинаются к вечеру.
– Пусть я поеду. Ладно?
За деревней конь пошел широкой рысью. Копыта кидали снег в головки саней – твердые крупинки летели в лицо. Катя жмурилась от снега. Летящая снежная дробь забивала глаза, таяла и делала лицо влажным.
Катя запрокидывала голову, старалась поймать мой взгляд, отворачивалась, а в глазах ее плыли сизые купы кустов.
Я придерживаю коня, он переходит на отяжелевший шаг. Дрожат у него под мокрой кожей жилки. Я сажусь на солому.
– Вон тулуп, зря же лежит. Еще далеко ехать…
– Ах, ах… Обо мне заботятся, – дурашливо выговаривает Катя, прямо глядит на меня и замолкает.
Мне не нравится этот взгляд. Я вспоминаю, как недавно утром ехала на санях Павля в нахлобученной шали. Ехала работать. Она не старалась понравиться – мужчины рядом на санях были для нее привычны и естественны. А это… Просто блажь… Каприз… Красивая женщина может себе позволить… Маленькую шалость мужчина, конечно, простит ей. Самоуверенность всегда возмущала меня, злила. Особенно самоуверенность женщин, которые знают, что они красивы.
– Вы так управляете лошадью, – говорит Катя. – Вы здесь и родились?
Она не ждет ответа, спрашивает, будто утверждает.
– У нас в университете некоторые парни скрывали, что они из деревни. Все были с претензией…
Губы ее, кажется, замерзли, хотя солнце было мягкое, только от снега чуть исходила прохлада.
– Я не увидела тогда вашего портрета… Он получился? Мы с Юркой приходили к вам, да неудачно, не застали. Вы где-то учились?
Я тронул коня вожжой, он испугался, будто его разбудили.
– Закончил Суриковский. Три года назад. А что?
Она растерянно помолчала.
– А эта кочегарка?.. Что же? Что-то вроде самоистязания? Или… «Поэтессы бегут в лотошницы?..»
Она наклонилась, прижалась губами к воротнику и стала медленно в него дышать, чтобы согреть лицо.
– Значит, таким способом, – сказала Катя в воротник, – вы зарабатываете себе на жизнь? Или?.. Вы помните, что говорил старик в кочегарке? Тот плотник… Вы что же, с ним согласны? Он прав? Тогда скажите мне, что же произошло? Я знала… Нет… Я хочу спросить, объясните мне…
Сейчас весь мир аплодирует нашему искусству и недоумевает, почему произошел такой небывалый всплеск народного духа.
И ведь не старики, а именно молодежь требует, поднимает цену национального искусства. Едут в творческих бригадах в самые дальние углы России, чтобы отыскать его неумершие ростки. За ним охотятся, с благоговейной тщательностью спасают то, что сохранилось еще… Как золотоискатели, отмывают золотые крупицы и радуются встрече с ним, как самородкам. Это же стало знамением времени. И… все меньше находок, будто иссякла жила творчества, будто исхудали души.
Старик говорил: «Мы сами свои праздники выдумывали. Как соберемся весной!..» Парадокс. Безграмотные крестьяне проявлялись полнее, а современники, приобщенные к высшим достижениям искусства, – пассивны. Что же сейчас соберет их вместе, попросит отдачи? Перед чем бы людям захотелось сейчас вдруг открыться? К чему может родиться паломничество?
Раньше ходили в церковь. Старухи завязывали в уголке платка свои сбережения, несли, жертвовали свое последнее. Неясному духу – богу. Церкви и соборы расписывали лучшие художники всех времен. Так почему же сейчас так скопидомски бедны клубы, эти храмы людского единения? Эти дома? Большие дома? Общие дома? Почему поклоняются только одному богу: соберутся после работы, похлопают друг друга по плечу: «На полбанки сообразим?»
Да если бы сосчитать все пол-литры или хотя бы пустую бутылочную тару и отчислить доход от нее на содержание своего храма искусств, чтобы можно было войти в него и посидеть молча перед настоящими картинами! Ведь и к искусству можно ходить на исповедь. Сейчас в клубе бывают только девушки и ребята. А что делают те, которым перевалило за двадцать? Что ждут? На таком коротком перевале заканчивается их грань молодости, наступает пора забот.
Катя прерывается и молчит.
– Ну скажите… Почему так? Материально здесь живут сейчас лучше, чем раньше, и не хуже, чем в городе. При благополучии будут обогащаться еще. Значит, возможность пить станет неограниченна… Значит, не просыпаться? А как же праздник? Каким они его сейчас хотят видеть? И знаете?.. – Катя молчит и говорит раздумчиво: – Кажется, мне места здесь не отведено. Все, что когда-то делал в деревне учитель, за него делают, только лучше, телевидение, кино, книги. Они дают информацию, которую даже мы, учителя, не успеваем получать. А вот вы в некотором роде личный художник своей деревни. Вы… Нестеров расписывал храмы… Расписывал, оставался Нестеровым и жил. Каждая фреска его оберегается от разрушения… А вам ваша деревня даст заказы?.. Вам она отвела место?.. Вас прокормит? Как кочегара она вас прокормит, а как художника?.. Она смотрит на вас глазами своего завклуба… Вы отсюда, живете здесь, пишете, и никто этого не видит. А как же насчет отдачи? – В глазах Кати появилась шуточная издевка. – Я читала, что художники дарят свои работы в музеи родного села. Один подарил тридцать картин.
– А я слишком уважаю людей, среди которых вырос, чтобы делать такие подарки. Они стоят лучшего…
…«Залежится у художника отсев, который он давно сам ни за что не считает, избавится от надоевшего багажа, и вот уж этот жест умиляет щедростью… И газеты подают восторженно: «Выставка – деревне». Так и звучит за этим: «Подарена деревне, а не людям». А расценивать это надо как наглость», – так я думал, а сказал только:
– Людям, среди которых родился, аморально давать не самое лучшее.
Катя вопросительно посмотрела на меня:
– Я злая сегодня…
К стожку трудно подъезжать. Снег осел. Лошадь грудью пробивала улежавшуюся корку, и сани сваливались набок, опрокидывая нас в снег.
Стожок оттаял, только на одном его боку лежала целлофановая наледь. Я оббил ее вилами.
– Веревку распутывай. И стяни бастрик. – Я не заметил, как легко перешел на «ты».
Меня забавляла серьезность, с какой Катя выполняла любую работу, ее безропотная готовность. Она долго растягивала затянувшийся узел на санях, а когда справилась с ним, то не смахнула наснованную восьмерку с колков, а продергивала каждую петлю веревки.
– Бастрик – вон то бревно?
– Да.
Она уже ворочала его за конец и не могла вытащить из-под настланной соломы.
Я знал его тяжесть. Отшлифованную сеном до костяного лоска сырую березу трудно держать в руках, она будто налита свинцом.
– Сзади его положи, точно посередине саней. Для ориентировки. По нему воз будем накладывать.
Я свалил верхушку стога, она шапкой упала на снег. Бросил сена лошади, отпустил чересседельник, чтобы, наклоняясь, она не натягивала его спиной. Лошадь опустила голову, и у нее заходили глубокие ямки над глазами. Я хотел потрогать их, лошадь, упруго пошевелив ухом, стряхнула руку. Улежавшееся сено тоненькими пластами бралось со стога. Я начал накладывать воз. Катя стала на снегу в стороне.
Делянка, на которой стожок сметан, в кустах высоких. Поэтому воздух недвижен здесь, прогрет, и запах сена растекся кругом.
Я скинул телогрейку.
– Теперь залезай, – бросаю я Кате и вижу, как не хочется ей трогаться с места. Но она пробежала по снегу к саням, даже не оставляя вмятин, и попыталась залезть на воз. Чуть поднималась и сползала вместе с сеном вниз.
– Недотепа. Надо сзади. От бастрика.
Я воткнул вилы и придержал за черенок – получилась устойчивая ступенька.
– Наступай. Учи вас…
Катя поднялась и утонула в сене по пояс.
– Походи. Только посреднике. Видишь бастрик?
– А я не свалюсь? Он дышит…
Когда Катя поднялась уже высоко и воз отвердел, оформился, я подумал: «Как бы ее не свалить?»
– Сейчас слезать будешь. Только я бастрик подам, а ты его чуть на себя потянешь.
– Ой. За что ты его там зацепил? За плетеную дужку?
– За дужку… Теперь я вижу – ты филолог.
– А твои бастрики – архаизм. Бастрик… Думаешь, красиво звучит? Нерусское что-то. В современном языке идет рациональный отбор.
– Давай слезай, знаешь. Я затягиваю. Вдруг веревка порвется и этот самый архаичный бастрик спружинит… Катапультируешь с воза.
– Пожалуйста… – Катя спустилась. – Не больно-то и хотелось.
Залезла на стог – он был уже низкий.
Я одергал воз снизу, чтобы не собирал снег, подобрал сено и бросил на стог.
– Я никуда не поеду, – говорит Катя, – езжай один. Я еще здесь побуду, а дорогу сама найду. Пойду по снегу напрямик. Снег не проваливается. Как асфальт. Только по нему боязно ходить. Ступаешь, а вдруг, а вдруг. Мне чего-то такого не хватает. Солнца, что ли? Или… Смотри, как здесь тепло.
Она сдергивает шерстяной платок с головы и расстегивает шубу. Освобождаясь, шевелит головой, сминая воротником прическу.
И было видно, как радостен ей снег, черные оттаявшие кусты, подступающие кругом. Они бросали густую чистую тень на снег, а рядом с нею лежала невыносимо горячая белизна снега на солнце.
– Здесь еще и весны нет. Почему же тепло-то так? Отчего же такое бывает с человеком? Не надышишься. Люди, как на море бывает, – знают, как в горах бывает – знают, а как в Сибири на снегу – нет. Ты смог бы написать это? Нет… Живописью это не передашь. И музыкой тоже. Ведь это сначала нужно всем знать. Ой, ей… Сколько человек еще не знает!
Предполагаю, что скоро ученые выяснят: такой воздух целебнее морского купания. Без него просто жить нельзя. Начнется паломничество к нему, и он будет так же моден, как кибернетика.
Я смотрю на нее.
Я купался в кадках под тыном, а ее еще не было. Бегал босиком по горячей пыли, дрался с пацанами, а ее еще не было. Я уже ходил в школу, уже читал книжки, а ее не было. Совсем не было. Как поздно я знаю, что она есть! Есть. Для Юрки – хорошего, красивого парня.
Я медленно вхожу на стог и чувствую, что на нем теплее. У меня остывает воротник рубашки, солнце припекает спину, полотно рубашки уже прохладно. Недвижным пятачком – нежный поток тепла от стога.
– Слышишь, тишина. В ней как будто что-то есть, – тихо говорит Катя.
Ноздри у нее напрягаются.
– Я, наверное, опускаюсь. Мне здесь совсем не скучно. И не читаю ничего. Только хожу где попало и ночами музыку слушаю. Я теперь часто думаю, что музыку я раньше воспринимала не так. Нужно ее сначала сильно ждать. И потом слушать ее рядом с кем-то, тогда она звучит по-особенному. Но только слушать и знать, что другой ее чувствует так же, и если убежден, что другой значительный.
«На нее, наверное, всем приятно смотреть. Когда она говорит – радуется и плачет будто. Губы у нее какие-то молодые и скорбные».
– Андрей, а вы когда-нибудь были вот такой весной на снегу? Ну… знали до этого такие дни?
– Я здесь жил, – говорю я. Она молчит задумчиво. – Знаешь, как о тебе деревенские женщины говорят: «Приставле́нная. Создаст же бог таких!»
– А это плохо – «приставленная»?
– Для кого как… Для одних – укор. Для других, ну, которых – создаст же бог!..
Катя настороженно глядит мне в глаза. Ждет.
А я молчу и хочу, чтобы нравились этой молоденькой учительнице и эти края, и моя деревня, и люди, чтобы она говорила о них и понимала их, а я по малейшим признакам догадывался о ее истинном изумлении… и мне хотелось увериться, что это у нее никогда не исчезнет.
Будто опять, как тогда в первый вечер, я медленно иду по зимней дороге, не чувствую невесомый снег, полный неопределенной радостью, иду, с грустной благодарностью к ней.
– Поедем… – прерываю я молчание.
– Я никуда не поеду, – говорит Катя, а сама смотрит на солнце и улыбается, как во сне. Потом опускается на сено, опираясь на платок, зажатый в руке. Падая, по-ребячьи раскидывает руки и закрывает глаза. – Никуда…
Я бросаю рядом телогрейку.
Ресницы ее спокойно отданы солнцу. Веснушки бледные на носу. Суховатой матовости губы ловят тепло. Я вижу узенькие ногти ее пальцев на сене, тонкую руку и понимаю, как она далека сейчас и как уверена в счастье своем, и великодушно позволяет видеть себя.
И я думаю. Почему она кажется мне девочкой? Недозволенно юной. Катя открывает глаза. Они ждут и замирают в страхе.
– Андрей…
И я не знаю, что со мной происходит.
Ее волосы упали на глаза, она сняла их рукой и улыбнулась осторожно.
А во мне не уходило, не исчезало какое-то светлое отчаяние. «Ведь это же все, все равно… безнадежно…»
Она встрепенулась, соскочила на ноги, сбежала с сена, повернулась бойко на снегу.
– Пусть лошадь сама идет, а мы пешком, – сказала Катя.
– Пойдем. Если не будем проваливаться.
Слабо покачивался воз в укатанной ложбинке дороги.
– Давай догоним. Иди, я подсажу.
Катя отрешенно уставилась на привязанные к бастрику вожжи и всю дорогу молчала.
Опускался вечер. Солнце ушло, и на дорогу, на воз сена, медленно ползущий в сумерках, легла грусть. Домов не было видно, только стояло морозное зарево над снегом – в деревне включили электрический свет. Туманно светилось небо.
На потемневшую согру падала бубнящая музыка. Алюминиевый колокол на столбе у клуба направлен на луга, и металлический звук слышался далеко внизу.
Катя лежала рядом, поставив локти на воротник тулупа. Она знала, что я думаю о том, что люблю ее, и понимала, что в такие вечера не лгут и ничего не надо говорить, потому что ничего нельзя исправить.
– Однажды я поехал на завод, – сказал я. – За два месяца написал там четыре портрета. Писал их в цехе. Ребята позировали мне после работы. Синий свет из окон, свинцовый лоск рук, какое-то сизое сияние лиц делало ребят жестковатыми, неулыбчивыми. Дома на свету я рассматривал эти работы, и в носу даже холодно щемило от запаха металла. Колорит портретов не принимал никакого цвета рамок, его нужно было как-то нейтрализовать, и я поставил рамки некрашеными. Я не был на выставкоме, но знал, что мнения о моих работах разделились. Мои портреты прошли. Их повесили в маленькой комнатке на проходе.
Вечером, на открытии выставки, я ходил незамеченный и слушал, как спорили собравшиеся перед ними люди. Спорили и писали в книгу отзывов:
«Где видел Уфимцев людей такого цвета?.. Это клевета на наших рабочих. Художник все видит в мрачном цвете. Гнать таких очернителей с выставок».
…«Ура! Искусство всегда шло с Запада на Восток. Теперь настоящее искусство двинется с Востока на Запад».
…«Расцениваю как неуважение к нам, зрителям, то, что художник не покрасил даже рамки. Безобразие»…
Через день я пошел посмотреть на портреты при дневном освещении. Их на выставке уже не было, только в книге отзывов стояла лаконичная запись:
«Куда исчезли портреты Уфимцева?»
Я тоже спросил об этом. Мне ответили, что их распорядились снять.
– Почему?
Ответили, что я сам должен знать об этом. Мне стало скучно. Я обиделся. И мои друзья за меня обиделись, и это еще больше подстегнуло меня. Потом… Понимаешь… Обида и мода – как обвал…
Может быть, те работы мои были неплохи, наверное, не хуже других, выставленных там, но я не умел, мне некогда было спрашивать себя: а чем они хороши? Эти эксперименты пройдут, симпатии почитателей пройдут, жизнь пройдет, а чем отчитаешься перед собой, под чем подпишешься? Я увидел, что многим не под чем подписываться, хотя им и устраивали шумные персональные выставки.
Я бросил все и уехал. Уехал не в деревню, не искать «корни национального искусства», а уехал домой, жить рядом с людьми, чтобы понять, чего они мне не простят. Всем нам нужно учиться у них мужеству быть откровенными и жестокому неприятию фальши.
– Не знаю… Может, мы от них разное ждем, – сказала Катя и снова замолчала, полная взрывной сосредоточенности.
Перед деревней, поднимаясь на гору, лошадь заскоблила на укатанной дороге. Воз скатился вбок, подбил оглоблями задние ноги лошади, и она развернулась. Я соскочил, взялся за узду и помог лошади подняться в гору. У первого дома отпустил и залез на воз.
Катя скатилась на бастрик, а я дотянулся до вожжей и сел с ней рядом. Так мы и проехали через всю деревню.
У ворот я придержал лошадь, подал Кате руку – она спустилась с воза и остановилась. Я посмотрел ей в глаза.







