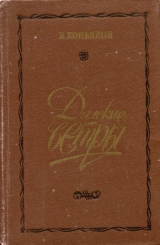
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
VII
В Алексеев день чалдон Иван Алексеевич поминал своего отца. Заранее, на десяти подводах, возил продавать мясо в Томск. Закупил тюки ситца. В поминальный день с утра разложил товар на столе в воротцах под навесом и подавал всем. Мерил аршином: взрослому – по три, маленькому – по одному. Пригадывал: на двух ребятишек в дом – одной расцветки ситец. На конях в этот день из других деревень приезжали. Наставят с ночи подводы у забора – ждут.
Иван Алексеевич сухонький, с белой, как мытой, бородой, никому не отказывал. Весь день идут к нему, как на праздник. Снег еще белый – солнце никак к нему не подступится, только у забора от множества следов он увлажняется, стекленеет.
Забор у Ивана Алексеевича плотен. Амбары сплошным рядом недружелюбно повернулись к улице задом – сплошная стена. Не поймешь, сколько их – десять, пятнадцать. Весеннее солнце, яркое и холодное утром, встает из-за согры и начинает движение по земле со двора Ивана Алексеевича. Играет на дверях амбаров, а на улицу – еще не пробивается. В тени сквозь щели забора процеживаются резкие полосы света. Квадрат ворот, свежий запах товара – кажутся беспредельным богатством, добрым праздником. Сколько миру! Мужчины, женщины, ребятишки.
По дорожке, в стороне от амбаров, женщина несет белье на коромыслах – в проруби полоскала. Холщовые рубашки схватило морозцем, и пар от них уже не идет.
Женщина прошла через дорогу мимо людей, поднялась на косогор к своей улице, оглянулась назад и с высоты бугра засмотрелась на деревню. Полоскала белье – спешила, а сейчас, свободная от дел, она следила за людьми на дороге. Они казались ей черными муравьями.
Сергей не мог обойти ее – была глубокая и узкая дорожка. Прасковья не видела его. Она стояла и улыбалась. А когда увидела – улыбнулась уже ему.
– Спешишь, – сказала она.
Сергею показалось, что влажные ее зубы омыты студеной водой…
– За подаянием? Вон некоторые… Другой раз подходят. Ну иди. Я уступаю дорогу. – Она расхохоталась ему в лицо: – Прям вся деревня побирушки.
На Прасковье оплетенные веревкой пимы, будто на подошвы чуни надеты. От них решетчатые следы на дорожке, словно кедровыми шишками продавили.
Сторонясь, Сергей провалился в снег. Развернул Прасковью вместе с коромыслом на дорожку. Тяжесть мокрого белья качнула ее, и она еле справилась с коромыслом, вздернула подбородок, сузила глаза.
Вот тогда Сергей и запомнил это выражение своенравного высокомерного лица.
– Ладно, иди… иди… – только и сказал он.
Дома, пока он снимал сапоги у двери, жена смотрела, ждала, мысленно повторяла его движения. А потом, приподняв крышку сундука, достала что-то и доверительно встала перед ним:
– Сереж, глянь… Баский какой. Иван Алексеевич всем раздавал. Я и Саньку с собой носила.
Обеспокоившись, что Сергей никак не оценил свертки товара, чтобы возбудить его радость, стала развертывать их на столе.
– Рубашечки им сошью. Свеженькие. И пусть, что девичья расцветка, – маленьким сойдет. Не то что холст. Мягкий. Прям в руках век бы держала. – Она помедлила. – Ты не подходил?
Сергей сел на скамейку у стены и стал искать в ее лице что-то.
– Ни один чалдон за этими лоскутами не подходит… Только малевские.
Дуня стихла, спрятала свертки и ушла к чугунам.
Ночью, лежа рядом с ней на кровати, Сергей сдвинул с ее груди ватолу и увидел, что, притихшая, она смотрит в темноту. Ему стало жалко ее. Он вспомнил ее руки, вспомнил, как прикладывала она к груди Митьки цветастые лоскуты, мечтала сшить им обновки, видела их в рубашечках и сильно хотела, чтобы он порадовался ее радостью.
Он приласкал ее, но прикосновение к ней не вызывало желания – почему-то все глухо спало в нем.
Лежит рядом жена – маленький подросток. Доверила ему себя, свою жизнь. Принесла ему двух сыновей. Нанимается к другим работать осенью, чтобы весной за работу они вспахали ей полоску земли – она там просо посеет, посадит картошку. Лежит Сергей и не знает, о чем думает сейчас ночью его жена, что желает?
Дуня, как он ни старался подчинить ее силе своего характера, продолжала думать, что она одна ответственна за семью, детей, а муж неясно чего хочет, чем живет – беспечен, несерьезен, заботится больше о столярных делах, а не о хозяйстве, как другие мужики, что вместе на эти земли приехали. Только улыбается… «Что о детях беспокоиться. Вырастут… Не одни наши. Птицы тоже неизвестно как птенцов кормят, с какими трудами червей достают. А посмотришь осенью – новые стаи поднялись в небо…»
Упрекнуть жену Сергею не за что. Она уважительна и безропотна. Стряпает, варит, не попрекает за его разбросанность.
Иногда по утрам Сергей берет ведра, спускается по тропинке к колодцу. Колодец под горой неглубокий. Зацепив дужку крючком, он зачерпывает воду, взбаламутив в колодце полоску, высвеченную солнцем. Затонувшее ведро натягивает руку, приятно подается вверх. Тяжелеет оно только над водой, обдавая холодом мокрого железа над срубом.
Сергей любит росную тропинку по косогору. Ему нравится свежее утро в Сибири. Хочется рассказать об этом Дуне.
Дуня, не дослушав, схватывалась, бежала к чугуну или поправляла сынишке помочь штанов. Заметив досаду на лице Сергея, возвращалась, с запоздалым видом показывала, что слушает, но уже не помнила, о чем он хотел ей сказать.
И ему не хотелось уже возвращаться к мимолетному разговору, было жалко своего настроя. У Дуни не было способностей слушать. И она даже не замечала, что каждый раз теряет разговор с мужем.
VIII
Ночами метет поземка. Ползет по огородам. Курится над возами соломы. Растут сугробы с дымными гребнями. Только зализанные провалы остаются под крышами стаек. Не видно ночами ни месяца, ни леса – только темная муть надо всем.
И деревня черной россыпью изб затеряна в пересыпающемся безбрежье. Шелестит пурга над крышами, и откуда-то из-под снега светятся редкие окна. Ни голоса, ни души…
Такими ночами приходят в деревню волки. Разроют солому, утепляющую стены стаек, перережут в хлеву овец, унесут ярку, оставляя следы на сугробах и у плетня, и исчезают за огородами. Затерян, тих мир деревни. Над заваленными крышами изб, над снегом – черная ночь и широта. Вскоре и последняя жизнь тощего керосинового накала в окнах затихает. Оживает она к утру. Надо принести в избу дров, откопать колодец. В густых сумерках утра люди вялы, мутны, как тени. Но загорается снег. Над крышами начинает вставать дым.
Зимний день требует мужчин. Кто-то на двух подводах поехал за сеном. Мороз ложится на воротник тулупа. У чалдонов на гумне обметают привод, торчащие в стороны дышла. Мужики во дворе чистят и заливают водой ток – сегодня начнут молотить хлеб. Нагревается кладь снопов на солнце. Колос тверд, ошелушенная пшеница отяжеляет ладонь.
Вот уж пошли по кругу лошади. Молотилка выбрасывает на лед солому. Встряхивая вилами, бабы отбрасывают ее в сторону, и растет под ней сбитый слой зерна. Перемешивают его на льду со снегом, промывают от горечи, от полыни. Хозяйствует в деревне уже не ночь, а говор мужиков, ядреные шутки.
Женщины по избам готовят кросна. Прядут, сучат, снуют. Бабье время начинается с вечера, когда они собираются вместе. Им разговаривать друг с другом на полушепоте, на полутайне о замужестве, о девичьих вечерках. Керосиновая лампа у стенки. Пахнет в избе коноплей, озерной прелью. Расчесывают бабы моченец на гребнях, ласкают шелковистые моченки, снимают охлоп, скручивают в тугие шишки. Падает на подолы ломаной соломкой кострика.
– А ланись… – молодуха засмеется потаенно, – придумали. Нюшка Васькова с Варькой. Тоже гадать. Вдвоем пошли в полночь к бане. Дескать, надо поочередно в дверь показаться. Если кто голой рукой потрогает – попадется бедный жених, если лохматой – богатый. А ребята туда с вечера спрятались. Вот они подходят. Мнутся – страшно. Ведь кто-то же из бани руками хватается. Нюшка посмелей – решилась. Юбку подняла и только в дверь голым задом выставилась, ее из бани как ремнем шлепнут, она так на коленки и села…
Бабы отбрасывают работу, мгновенно обессилев, падают лицами в колени, долго хохочут.
– Придумываешь ты все…
– Вы у нее самой поспрошайте.
– А правда. Ведь кто-то в бане есть…
Бабы страшатся своего дыхания. На полутемном полу боятся шевелить ногами. Разговоры о тайной силе и страшат, и манят их. Они любят слушать невероятные истории, верят всему. Боятся темноты, открытых дверей, ночной улицы и требуют, чтобы их провожали.
– А знаете, что с Просоловым было? Говорят, ему бластилось, и его дом пел.
– Ет когда они Митяя-то поймали?
– Ну да.
– Бластилось… Их кто-то пугал. Сам-то Еремей и догадался. Долго на всю деревню косаурился. А старуха его пластом лежала.
– Я у них пять дней отрабатывала, слышала… Старуха рассказывала и как собаки выли, и как иконы стонали. Говорит, в полночь началось. Они поснедали и спать легли. Он и пришел. Сначала жалобно так начал…
Марья Лукашенко, проникаясь боязнью, передала рассказ старухи.
Сергей пришел к Мысиным посидеть с Матвеем, самосаду намять. Он скручивал папиросу, слушал. Не раскуривая, нашел взглядом Матвея. Они посмотрели друг на друга, и Сергей, сорвавшись, пошел к ведрам с водой, стал глубоко пить из ковша, чтобы заглушить налетевший смех.
– Пойт ты к дьяволу, – уставились на него бабы. – Шалапут.
Всерьез Сергея они не принимают. Не то чтоб слыл он несамостоятельным, а знали, что за смехом его обязательно будет шутовской смысл, розыгрыш, на который они поймаются.
– И что смехом изводятся, – сказала Наталья Мысина, поглядев на Матвея. – Непутевые. У Просолихи правда ноги отнимались.
И сама Наталья не могла удержаться, наклонилась, спрятала за гребень улыбку. Она знала, Наталья, почему эти два дурака смеются.
Тогда не простил Сергей Просолову его издевку, когда Митяя по деревне завернутого в сырую кожу водили. Митяя он не оправдывал. Таких, как Митяй, Сергей сам не выносил. Но больно уж у Просолова вид был победный. Он как бы с приехавшими мужиками рядом стоять не хотел. В Митяе он их всех прикладами по улице прогонял, с дерьмом мешал.
Ночью с Матвеем Сергей прошел огородами к Просоловым. Переждали у тына, когда собака успокоилась. Моток сученых ниток приготовили, на конец жерлицу привязали.
Сергей подполз к темному окну, жерлицу воткнул в раму. Потом метрах в пятидесяти под тыном спрятались. Шнур натянули. Натерли воском. Стал он звонок, как хром заскрипел, Тронули его рукой – стекла в окнах тоненько запели, будто во всем доме голос появился. Зудящее дребезжание то ослабевало, то стонуще передавалось бревнам. Долго никакого движения в избе не было. Кто-то лампу засветил. Просолов в нижней белой рубахе стал к каждому окну подходить, в темноту приглядываться. Послушает, перекрестится. Собака стала скулить. Просолов во двор вышел, собаку успокаивать. С крыльца спустился. На могилки посмотрел (они у них за огородом на горе были). Когда луна всходила, тень от большого креста на Просоловы сенцы падала. В ту ночь луны не было, и черные кресты на светлом небе верхушками маячили. Старик на них перекрестился, посмотрел на окна, прислушался. Тишина. Зашел в избу. Окна опять нудеть начали. Старуха на пол встала. Еремей Просолов в подштанниках свет в лампе выкручивал. Потом вместе со старухой перед углом у икон на колени опустился, молиться начал. С неподвижными глазами иконы тоже тоненько и металлически пели.
Сергей трогал ладонью натертый шнур то сильней, то слабей, и дудящий звук передавался раме. Как не к добру, протяжно выли собаки. Всю ночь, до рассвета, так и простоял Просолов с женой на коленях.
Сергей видел, как с каждым прикосновением его ладони к восковому шнуру припадал Просолов перед иконами к полу, и от смеха катался по траве.
– Вот такие-то вы люди и есть. Где как…
Потом они стали срывать шнур. Он лопнул, хлестнул по стеклу. Жерлица в раме осталась.
Сергей заночевал тогда у Матвея.
Просолов жерлицу и следы под окном на свету заметил. Его братовья с ружьями три дня по деревне кого-то искали. Не нашли.
Наталья тогда догадалась, попеняла Матвею:
– Дураки-то… Ведь дети у вас… А ума…
А вот сейчас не выдержала, засмеялась.
– Прасковь, провожать тебя сегодня не пойдем. Вон с кумом пойдешь. Вам на одну улицу. С ним не соскучишься.
Наталья отправляла подружку, намекая на что-то, а та укоризненно пугалась:
– Выдумаешь.
А на улице ночь, и нет огней в окнах. Темны кусты. Согра и тишина на сотни верст до больших городов по сонным дорогам. Зимняя дорога тянется вдоль чалдонских домов.
Молчат дома, и молчат мужики.
IX
Сергей смастерил сани Матвею, Осталось только головки связать. Ему приятно вспоминать их, представлять радость Матвея, Хорошие сани получились. Легкие. И, надо сказать, было из чего их делать. Матвей в дереве толк знает. Березовые заготовки полозьев с весны нагнул, в тень под крышу поставил, выдержал на спокойном воздухе. Не разорвало их прямым солнцем, они только сизым налетом покрылись.
Копылья Сергей из сухого комля тесал, так топор даже звенел. Пока долбил в полозьях гнезда, Матвей рядом в избе сидел, не отходил, как ребенок радовался, гладил отстроганные копылы.
– Ведь посмотри. Береза, а что кость. – Подушечки пальцев его от соприкосновения с деревом лоснились. – Как стекло.
Гнули вязы вдвоем. Распаренный в печке тальник намертво схватывал шею копыла, истекал горячим соком. Сводили концы хлыстов на середине, стягивали бечевкой.
Готовые сани Матвей поднимал за головки, двигал, удивлялся:
– Ведь что?.. Игрушка. Брось с крыши – подпрыгнут.
Чем ближе подходила работа к концу, тем сильнее Матвей возбуждался. Радовались его глаза, радовались руки, и Сергей рядом с ним был счастлив.
– Легкие, как воздух. Запряги коня – не почувствует.
В субботу Сергей идет к Матвею. Матвей желанен ему своей благодарностью, умением оценить чужой труд.
В избе семилетний мальчишка из сумерек уставился на Сергея.
– Ты что, один? Сидишь, лодырничаешь? Дрова бы колол. На морозе они знаешь как колются. Поднесешь топор к полену, полено само так и разлетится.
– Мне нельзя. У меня ладонь к скобе примерзла, и кожа оторвалась.
– Это ты сплоховал. Где же все ваши?
– Папка не знаю, а мама в бане.
Вскоре в избу вошла бабка, поставила полные ведра на пол. Стенки ведер намерзли, и вода колыхалась в них, как в ледяных стаканах. От ведер расползался по полу пар. Бабка сняла смерзшиеся рукавицы, еще хранящие форму дужек, долго распутывала концы шали. Она не могла распрямить спину, была недовольна морозом и старостью.
– Что, Николаевна, по хозяйству?
– Убиралась… Ты, Сереж? – она присматривалась к его лицу, словно к пятну. – Баню сегодня топим. Сама-то с Проскуткой сейчас парится.
Она подумала о чем-то.
– Что-то я разделась. Они холодной воды просили. Вслед кричали, а я запамятовала.
Сергей вдруг представил двадцатилетних молодух в пару, в темноте бани, при чадной коптилке, их хлопотливую безмятежность, и ему захотелось войти к ним молча, деловито, обыденно, не дав опомниться, поставить ведра, поправить шапку и уйти.
Бабка уже оделась и, придерживая шаль, наклонилась к ведрам.
– Николаевна, – Сергей перехватил дужку, – дай-ка, я отнесу.
Старуха уставилась на Сергея, в глазах ее проснулось озорство:
– А неси.
Баня завалена снегом, и короткая дорожка к ней прорыта ровным срезом по стенам. Выкинутый снег высоко лежал над головой. В предбаннике, в углу, настлана солома. Из щелей маленькой двери валил пар, и близко пахло задымленными бревнами. Из отдушины над головой слышались шлепки распаренных веников.
– Мам, ты? – слышится голос Натальи. – Прасковь, ты ближе, прими ведра. Вот пар! Аж дыхание захватило. Ма, стой, мы дверь откроем.
Сергей вваливается с ведрами в колышущийся жар.
Язычок коптилки, отрываясь от фитиля, запрыгал, сваливаясь. Заходили шаткие тени на полке, на черных стенах. Резаный крик несется с лавки. Потом спокойнее:
– Ты что, очумел, охальник… Прасковь…
Прасковья стоит, не трогаясь с места:
– Сереженька… Вот спасибо. Принес… Теперь раздевайся. С нами мыться.
Она только что парилась. Исхлестанное ее тело исходило жаром.
– Ой, да холод от тебя какой добрый да какой желанный. Поостудиться хочется. Шубу-то расстегни.
Она прильнула к нему, обняла и горячее тело промокнула о его рубашку. Плотный жар под потолком уже сдавил голову Сергею.
– Наташк, плесни ковшик на каменку, – вдруг выкрикивает Прасковья, – я его подержу.
Сергей отрывается от ее рук, выскакивает на улицу. Пока идет, мокрая его рубашка мгновенно набирает холод, коробится. Бабка ждала его.
– Отнес?.. Никак, к ним заходил? Жару-то у них там много? Ну, посиди, скоро Матвей будет. Аль домой торопишься? Я пойду, их проведаю. А то они даксь побоятся сюда на огонь прийти, пока ты здесь.
Сергей шел домой, плотно запахивая на груди шубу, и улыбался. И было у него чувство какого-то беспокойства, что не он, а над ним посмеялись.
X
Мороз по утрам пахуч. Прибитый за ночь снег Сергей режет лопатой и откидывает кубами от ворот.
– Посторони-и-и-сь!
Дорога еще не наезжена. Упряжка гусем проскочила мимо. Снег от копыт глухо бьет по головкам саней. Кони, еще не успевшие вспотеть, обындеветь, не свободны, не на полном бегу. Они в постоянной неудержимой тяге. Натянутые вожжи держат, гнут им головы, будто ломают острие их бега. А стоит только вожжи приспустить, головы прямятся, тяга их движения усиливается, и кажется, будет она беспредельна.
– Э-э-э!.. – свистят полозья, и блестит санный след.
Рано, чуть свет, мчится санная упряжка на базар. Какие большие калачи у сибиряков! Белые, замороженные. Они возят их продавать в плетеных торбах.
XI
– Сереж, больше у меня ни к кому так душа не лежит. Посмотри, какой он у нас баский.
Жена держит младшего на руках, поправляет у него на животе ситцевую рубашку.
– Крестной ему не хочется брать кого попало. Пусть Прасковья Ваганова будет. Она наша, малевская. И красивая, и песельница. Мне она глянется.
Сергей вспомнил, как он возвращался ночью от Мысиных, носил воду в баню, как думал о Прасковье, как досадовал.
Жена все говорила и говорила, что Прасковья хотя и моложе ее, а подружка, и она когда еще загадала, что Прасковья им кумой будет.
Сергей давно не видел соседку и не знал, что разговор о ней будет так желанен ему.
Он целый день тискал и подбрасывал Митьку.
– Мне что… Давай… Твоя же подружка…
Радовался показной радостью и почти безразлично заключал:
– Хорошая у меня кума будет.
Крестить ездили в соседнее село. Там, на далеком яру, из-за леса видны темные купола церкви.
Вечером собрали гостей. Дуня загодя наставила капусту с конопляным маслом, шаньги с творогом, стружни. Самогону две четверти на лавке полотенцем прикрыли.
Липат, тоже малевский мужик, с гармошкой пришел. Гармошка нахолодала на морозе. От нее долго шел холод. Митька сел возле нее на лавке, трогал отпотевший перламутровый узор на планках.
Прасковью Сергей не узнал. Кофта на ней атласная, высоко на шее застегнута, как зашнурована. Длинная до полу юбка лаковым ремнем подпоясана. Незнакомый наряд этот сделал ее нездешней и чинной.
За столом Прасковья выпила, развеселилась, стала помогать Дуне, чему Дуня больше всего обрадовалась. А Сергей все помнил о ее смехе в бане, Прасковья улыбалась, догадывалась, смотрела на него и не отворачивалась.
– Да не отставляй ты рюмку, кума, – ласкалась к ней Дуня. – Ты же теперь нам родня.
А Прасковья начинала петь и вдруг, дурачась, переводила песню на шутовской лад. Она знала, что голос ее хорош, что с песней она может обращаться вольно, играя, песня будет все равно мила. Только сегодня ей, Прасковье, хочется ее вот так подать.
– Что-то я к тебе никак не подлажусь, – сокрушалась Наталья.
– Это гармошка мешает. Не туда уводит. Правда, чудно. И звонкая, и пуговиц много, а голосу не хватает.
Как на этой на долине, —
хорошо начинала грустную песню Прасковья. Когда все настроились впечатлением далекой России, Прасковья приостановилась и притворно сообщила конец песни:
На мятой траве,
На лазоре-е-ево-о-ой…
Они золоты венки вязали… вот…
Прасковья веселилась, а веселье ее было какое-то нервное, как в горячке.
– Э… Да не слушай ты их, – образумил Матвей Липата. Тот, мучаясь, подыгрывал песне на гармони. – Бабы, они бабы и есть. Они сегодня дурят, черти. Тебя как подменили, – улыбался Матвей Прасковье.
Он веселый был, Матвей. Умел хорошо смеяться.
– Кума, пойдем спляшем.
Липат на гармошке громко наяривал, а Матвей вылез на круг и топтался. Он не умел плясать, но разводил руками так, так сиял лицом, радовался, и такие при этом у него были глаза, что казалось, он заразительно и здорово пляшет. Женщины загорались и начинали кружиться вокруг него.
На Прасковье блестит атласная кофта. Вместе с Натальей она начинает передразнивать чьи-то пляски. Подпирают руками бока, сваливают головы набок, кружатся и, устав, вместе падают на лавку и хохочут.
Прасковья вдруг останавливается, удивляясь:
– Что-то сегодня со мной? Ведь знаю, когда так смеюсь, – всегда не к добру. Кума, доливай еще.
Было уже за полночь, когда зашел в землянку старик Ваганов. Зашел с недобрым лицом и, пока стоял у двери, лица так и не расслабил.
Сергей усаживал его за стол. Он не сел и стакан с самогоном не принял. Прасковья, увидев его, сразу подобралась.
Свекор нашел ее глазами, сказал:
– Ты, девка, не запозднилась? Дома ребенок не ухожен, а тебя не позвать – дом забудешь.
Прасковья встала, не поднимая глаз.
– И правда, засиделась, – сказала она и заспешила к дверям мимо свекра.
– Тебя одну и слышно. Не добро…
Старик, будто, кроме Прасковьи, никого и не увидел, пошел следом.
Сергей отставил налитый стакан на скамейку, шагнул за ним.
В темноте старик придержал его спиной, преградил дорогу.
– Осади-ка… Ретивый больно…
Старик стоял на верхней ступеньке.
– Еремеич, не по-соседски, – сказал Сергей. – Не по-соседски, Еремеич. Сам погнушался, и сноху мордуешь…
Старик наклонился, уперся мягкой бородой в лицо Сергея, строго предостерег:
– Не шали. Не вноси смуту. Пусть бабенка живет спокойно.
Сергей ничего не понял.
– Ты что, старик?
– А то…
До Сергея дошло, и он стал трезветь.
– Из ума выжил… На старости…
– Не выжил, а вижу. Не тебя, а ее. Так вот. Говорю – не смущай… За ней доглядеть можно, а… Если ты начнешь пакостить…
– То что?
Свекор подался вперед, отдавливая грудь Сергея. Больно стиснул рукой плечо.
– Осади, говорю… А то ить и помять могу за Ефима.
Отнял руку и, поворачиваясь, унизительно оттолкнул задом.
Сергей проводил его глазами до самого дома, ища Прасковью. Ее уже не было. Свекор без окрика увел ее, как на лошадь оброть накинул. Она далась и даже испугалась.
Ласковый старик… Благопристойный…
– Ладно, – сказал Сергей. – Ладно… – и мстительно засмеялся. Веселый и вошел домой.







