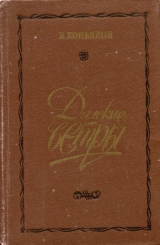
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Потянуло холодком из полуоткрытой двери. Смутно проступает угол бруса, размытые переплеты рам.
На улице загорелся закат. Свет из окна чуть трогал печку, багрово кровянил крашеную ее облицовку.
– Вот и прошел его день… и его жизнь…
II
Старик невзначай шевельнул рукой на груди, и от слабого усилия подступил к голове далекий шум. И показалось ему, что давным-давно проснулся он утром…
За деревней на рассвете пустили мельницу. Вода зашумела тяжело и полно – по всей деревне слышно. Ш…ш…ш…ш… – как лес. Деревня в росе ждет солнца, и шум кажется сырым. Речка далеко, а шум – рядом. Подпор воды гладкий, еще в тени, а внизу, за темной жердяной плотиной, толчется бучило. Вот уж и нет сумрака…
Радостно видит старик молодого себя на сосновых бревнах в расстегнутой рубашке. Горячо блестит его топор на солнце, даже зажмуриться хочется. Тревожит радость. Мстительно хочется напомнить кому-то – сколько он настроил всего: мельницу, амбары… Сколько изб… Почти всю деревню…
«А вы упрекаете…» – говорит он людям. И не чувствует своей вины перед ними, и нет уже, не знает он ни одного темного угла в своей жизни. Чиста его память. Почти чувствуется движение воздуха, он идет по улицам, видит себя в деревне, видит все дома, что успел настроить и оставить. И кажутся они новыми, с неубранной щепой под ногами. Старик вспомнил мужиков, что давно поумирали и не оставили после себя никакого следа. Сошли, как убранный хлеб с поля. Постояла жнива дождливой осенью и исчезла. А было поле… Колыхалось, цвело, зрело. Отдало себя, продержало людей мгновение и исчезло. И следа нет… Поверх – все другое. Макосов… Чухонцев… Латкин… – были председателями… «А я домами останусь…» Он трогает рукой угол когда-то поставленной им избы и вдруг вспоминает, что рядом с ней стоит уже другой дом, а его изба осыпается по углам ржавыми грудками, и он даже слышит сыроватый запах гнилой трухи и отнимает руку.
«…И я со своими избами здесь не житок… Что я на этом свете?»
Эти мысли возвращают старика к себе. Он лежит, не открывая глаз, и не знает, что вспомнить, чтобы почуять опять смутное движение радости. Мимо печки прошла сноха.
И вдруг позабытым чувством встал перед ним огород, черемуха над водой и голые ноги на мостике. Прасковья Ваганова полощет рушник в логу. В рубашке с короткими рукавами, заправленной в холщовую юбку, она будто не стирает белье, а нежит босые ноги на мокрой доске, разогретой солнцем, и качается в колыхающихся кругах воды.
Вернулось далекое утро, и ожила его память. Старик больше ничего не хотел знать, только это воспоминание. И ничего не было на свете лучше него – оно останавливало дыхание, как в давние годы, высокое и светлое, манило и не принимало упрека.
Старик полежал растревоженный, сел, свесив ноги, и, улыбаясь, покачал головой. Он вспомнил, как прошлый год осенью среди улицы перед конторой подрались они, пьяные, с Ефимом – мужем Прасковьи. В грязи возились – народу на смех. Их разняли…
– Сдурели старики… Что делите?..
Делите… Ефим все помнил… Всю жизнь… Уехал теперь с Прасковьей жить к сыну.
И Прасковья помнила… Только этого старик не знал… Когда уже собралась Прасковья уезжать, Наталья Мысина, подружка ее, провожать приходила. В темноте сидели, вспоминали все: и как в девках бегали, как в колхозе работали, войну переживали.
– И куда еду, – удивлялась Прасковья. – Дожить и… умереть бы в своей деревне. Даже земля здесь родная. Будто ее руками всю перебрала, для себя готовила. Одна по двору хожу, у колодца постою. Избу продали… А не это мне жалко…
– Ефиму-то что говорила? Как он?
– И-и… Ему про такое сказать… – Прасковья взглядывает из-под платка, глаза ее оживают девчоночьей тайной, знакомой им обеим. Она поджимает губы, мелкие морщины сбегаются ко рту.
– Я ведь помню только год… когда в полынь к Сергею бегала.
Глухой и далекий шум в ушах. Мокрое дерево свай. Луга и утренняя деревня, убаюканная шумом, – пустили на Ине мельницу. Давно это было – лет пятьдесят прошло.
III
Сергей столярничал. Много их, туляков, приехало в эту сибирскую деревню из «Расеи».
В Лесновке было двенадцать дворов. Жили чалдоны в домах, обнесенных тесовыми заборами с двойными воротами – большими и маленькими, крытыми тесом. Потемневшие крыши напоминали о дождях и долгих зимах. Ворота молчаливы и невраждебны, пускали под себя переждать свалившийся ливень. Жили чалдоны в углу над озером, затененным кустами, а невидимая с горы, в тальниковых берегах, текла Иня. Снизу подбивала деревню черемуха по крутому косогору. Несла она прохладу, а с юга, с дневного солнца, подступили к деревне леса. И крытые тесом дома с небольшими окнами, и дощатые заборы среди зелени казались единым деревянным городом красивого темного цвета. Двенадцать домов – это и была деревня Лесновка – завязанный узел крепкой жизни.
С улицы не узнаешь, что там у чалдонов во дворах. Торчат наклоненные на крыши амбаров жерди или необработанные отростки трехрогих вил.
За огородами у чалдонов на солнечных склонах к согре – пасеки. В раздолье недальних лугов – табуны лошадей без пастухов. К вечеру табуны одни возвращаются в ограды.
Приехало российских много. Они не стали жаться в углу, а разбросались со своими землянками широко, захватывая нераспаханные земли. И на лугах нарезали наделы. Отсекается земля лоскутами, становится чужой. Не знают боязни российские, не знают страха перед глухим безлюдьем – широко утоляют жажду к земле. И чалдоны стали раздвигать свой узел, расставляя вехами на краях улиц добротные дома. Принесли приезжие люди свой непохожий мир – свой говор, свою одежду. И даже в огородах их растет незнакомая доселе всякая пустячность, чего никогда не ведывали чалдоны. И народишко приехал легкий, бедный, но неутомимый в работе.
Сергей с женой поселился на краю пологой горы, покрытой зимой снегами, а летом – огоньками такой яркой расцветки, что рядом с ними даже пламя костра покажется худосочным и бледным. Солнце нехотя спускалось к ним под косогор, и оставались огоньки в затененности, в непросыхающей росе. За ними начинался кочкарник и кустарниковым прибоем – согра.
Сергей долго не мог привыкнуть к этому тяжелому слову – согра. По весне согра покрывалась листвой не сразу. Над сизым настилом кустов – то сквозной накрап березок, то яркий цвет верб. Из сырого кочкарника набрала верба такую нежную охру. Сорвешь ее пухлую сережку, положишь в рот, чуть сдавишь, и вот уже освежит тебя сладковатая влага.
Долго согра пахнет половодьем и разогретой корой. Далеко раскинулась она – не пройдешь по ней, не измеришь.
Держась за качающиеся прутья ив, ступишь на зеленую голову кочки, а она, высокая и упругая, качнет тебя в сторону, и ты бежишь по кочкам обратно, как на зыбких ходулях.
Начал жизнь в Сибири Сергей с кола. Ничего не привез с собой из Малевки. Все, что удалось продать на старом месте, дало денег только на дорогу.
Всего имущества – у жены юбка с кофтой, а у него зипун из рыжего сукна, штаны да холщовая рубаха. А здесь уже своя землянка в три окна, рядом оградка плетеная под навесом и на утоптанной земле – верстак, стружки да столярный инструмент. Сергей возьмет из темного дерева фуганок, с усилием тронет его по доске, он сам потянет за собой руку, цепко снимая шелестящую стружку. Такого фуганка у Сергея никогда не было, и он любит примерять к его ручке ладонь, чтобы ощутить под ней тяжесть дерева.
Освежает тело прохлада от земли под навесом. Жена несет из-под горы воду на коромысле. Дуня маленькая, и ведра приваливают боками траву вдоль тропинки. Сергей смотрит в лицо жены, ловит ее взгляд, а в глазах готовая насмешка.
Дуня знает, что насмешка эта будет непутева, и заранее готовится сдерживать улыбку, не слышать Сергея, не отвечать. Она не умеет принимать его шутки, заливается стыдом, отворачивается. У нее расставлен шнурок на юбке, округлился живот – скоро будет у них второй ребенок.
Вот и все, что есть у Сергея, хотя живет он в Сибири уже шесть лет.
Не все так начинают… Соседи Вагановы построились большим двором. Двор обнесли тыном, обложили от задов высоким валом навоза. А у избы от соседей по тыну поленница дров, уже потемневшая на солнце. Поленница стала почти глухой, отбрасывает тень на нижнюю половину окон. Над двором Вагановых жаркими днями колышется маревом испарина от навоза, от обожженной солнцем соломы, щепы.
Вечером Прасковья Ваганова носит из-под горы воду – поит скотину. Коровы осторожно притрагиваются носами к воде, и при первом тяжелом вздохе вода медленно уходит до половины ведра, а второй вздох уже не полой – ведра малы, и лбы коров упираются в жестяные края, стараются их раздать.
Вагановы – Ефим с Прасковьей и свекор – на рассвете уезжают на стан, дома остается свекровь.
Вечером возвращаются на конях, машину-хлебокосилку ставят во двор, кидают на ночь коням зеленку. Ложатся рано. Ни огня в окнах широкой избы, ни стука. Хрустят зеленкой кони. Спускается вечер. И кажется, сумерки начинаются от дома Вагановых, сгущаются над их двором лоснящимися под холодным небом лошадьми, а потом растекаются по всей улице.
Ехали Вагановы с Сергеем из России в одном вагоне. Пили кипяток с черствым хлебом. Сумел неразговорчивый отец придержать при себе что-то, отложить из крестьянских доходов в России, и это «что-то» буйно стало разрастаться в Сибири. Вагановы на своей пашне работали молчком, исступленно – дорвались до земли.
Растеклась деревня Лесновка от узла на четыре улицы. Забелела среди березняка первыми срубами изб, запылила проселочной дорогой к разбросанным в отдалении станам. Вечерами поднималось с низины в деревню свежее дыхание согры.
Сергей ехал в Сибирь – думал о земле, а увидел, как туляки запахивают полосы, не зная границ, недобро загораясь глазами, – к земле остыл и даже в волости на себя надел не оформил. Взял пять пудов пшеницы, заработанных в найме, отвез в Кольчугино, накупил столярный инструмент. Долго, до самых сумерек не уходит из-под своего навеса.
Вагановы приедут с пашни, сгрузят пиленые дрова, сложат в поленницу – лес даровой, никто валить не запрещает, зайдут в избу и, не зажигая огня, затихнут.
Сергей смотрит на сумеречную избу Вагановых и не может унять досаду. Он не знает, отчего эта досада, долго сидит один и уже в темноте выходит на улицу. Улица глуха. Между амбарами – отделанные резьбой ворота, за ними тесовые, цвета полыни под рассеянной луной, крыши шатром. Улица крестовых домов. Ночью деревянная резьба под навесами крыш в тени, будто у луны уж и силы не хватает высветить все. Тень глуха. Изредка помаячит узор дорогим кружевом, как скупой чекан по серебру, и спрячется, не считаясь с твоим желанием видеть его.
Сергею кажется, и чалдоны сродни этим домам – недоступного характера, без заигрывания. Какой есть – таким меня и принимай. Недостойно перед людьми собой красоваться.
И не любит Сергей бывать в их домах. И окна в них большие, с богатыми разворотами наличников с улицы, а зайдешь в дом, солнце будто не может осветить их, ломается по углам, по ступенькам, ведущим за печками в подполья, и даже днем оно худосочно, оставляет полусумрак в кути.
Передние углы горницы заставлены медными иконами – одна на одной, с тусклым блеском позолоты и недобрыми глазами. Непрогретость омедненного воздуха тяжела, будто иконы дышат металлом.
А российские привезли с собой красивых богов. Голубых, под стеклом в глубоких ящичках. Фольговые цветы вокруг головок кротких женщин.
Недобры иконы. Неприветливы люди. А не упрекнешь. Многим женщинам работу дали. Девчонок сиротских няньками пристроили. К взрослым настороже, хотя присматриваются к делам малевских. Из огородов рассаду стали брать, переносить пестроту огородов российских баб на свои грядки, перенимать хозяйство чужаков.
Сергей радуется беспечности и доброте малевских, хочется ему поймать, найти какое-то неуловимое свое превосходство. Будто кто налагал на него обязанность доказать, что люди ехали из России в Сибирь не только за хлебом, а за красивой, вольной жизнью, за работой, которая вместила бы в себя без остатка всю душу. Для себя он нашел такую работу, определил и от имени российских должен ее показать.
Сергей ходил вдоль улиц, вспоминал Вагановых, ловил приехавших вместе с ним из Малевки людей на недостойном, и горькая досада приходила к нему.
У чалдонов вечером корова домой не вернулась. Просоловы собрались с ружьями. Все молодые… Искали по лесу – не нашли. А вечером смотрят – сороки кружатся. Не с добра. Пошли в согру, а в чаще мясо кожей закрыто. Сели, стали ждать. А малевский мужик Митяй с напарником – вот он. Митяй и в Малевке пакостился. Поймали. Завернули в кожу, повели через деревню. Ружьями били, прикладами. Митяй хромать после этого стал. Скособочился. Из деревни уехал. А напарника его – насмерть.
Не забывается, как прибежал с Матвеем отбивать Митяя. Колья в ограде выломали. Митяй уже лежал в пыли, вяло вздрагивал.
Иван Алексеевич Просолов Митяя не бил, в стороне стоял. Но именно он возбуждал мстительную силу молодых.
– Что, паря, своего парнишончишку узнали?.. Изнатти хиль… Голытьбинчишка… Приехали посконью трясти… Да еще пакостить начали… А наша сарынь за это… учит.
Ему не жалко было коровы. Ему радостно было издеваться… Он победно смотрел на Сергея издалека… А этого прощать не хотелось.
Сергею казалось, что есть у него свое, недоступное другим умение. Он стал плотничать. И начали появляться в деревне маленькие пятистенники, приветливые добротой окон.
К сумрачным улицам крупных домов прибавились легкие избы струганых срубов. Первую избу Сергей ставил Махотиным. Стал отделывать косяками окна – полюбил и строганый лес, и этот дом.
Слышала деревня стук топора и шуршанье фуганка до поздних сумерек. И мужики полюбили этот дом и Сергея в нем – стали заходить к нему вечером – покурить на бревнах, посмотреть из окна, как в тени по дороге стадо коров домой проходит.
Веселый дом получился. До ночи в нем светло. Наделил плотник его своим характером.
Заходят мужики в дом и чувствуют янтарное свечение дерева, будто оно и вечером пропускает дневное солнце. Трогают корявыми руками отстроганную матицу, створчатую, с выбранными квадратами, дверь, еще не крашенную, ласкающую смоляным запахом. Пыльные мужики в отделанном Сергеем доме и сами становились светлее. Умел находить Сергей верное место окнам. Когда закончил отделку избы, хозяйка Махотина, не сознавая своей похвалы, сказала:
– На что я темноты боюсь, а в этой избе одна ночевать останусь. Ни одного темного угла для страха не оставил.
Сергей улыбнулся.
IV
Не зажигался землей Сергей. А мужики, как только переставал исходить от земли пар, солнечными утрами вешали на плечо насыпанные зерном кошелки и, широко откидывая руку, шли по своим вспаханным полям.
Оставив на минутку дела, выбегали к межам женщины, чтобы глянуть на землю, на мужей с кошелками, на утреннее действо посева, украдкой постоять, прижимая к груди руки, предчувствуя по осени горячий запах хлеба, и убежать, чтобы не застали их, не увидели за праздным бездельем мужья, к своим делам в стан, обставленный жердями, и любить его, и копаться в нем до вечера.
Летом подступит к стану, скрывая до самых крыш, подсолнечник. Он колышется поутру, ищет солнце желтыми венчиками. Не подойдешь к нему, не тронешь – шершавы разлапистые листья и ствол в жестком серебряном бархате.
И счастливы люди ждать у стана, у своей земли вечера, сумерек, не спешить домой кормить избегавшуюся по улице ораву детей и упасть в сон.
Сергея манит по вечерам синева лесов за согрой. Пугала когда-то Сибирь отдаленностью, морозами, каторжностью. А она встретила солнцем с необжигающей лаской, тяжелой росой на лозняке, щедрыми и тихими реками. Налитый, не искалеченный ветрами, не успевший покривиться, стоял березняк, и млела в сквозных бликах трава под ним.
Есть в Сибири какая-то незащищенность. Даже в мощном ее цветении что-то детское, не завязавшееся в сопротивлении со сквозняками и палящим солнцем. Над Сибирью стоит щадящая умеренность и голубизна.
И даже зимой она не сбивает сорокаградусными морозами. При неподвижности остекленевшего месяца порошит снегом, бодрит без злобы.
Доверились люди ее щедроте.
Приняли и вобрали ее покой, стали для нее своими. Развернулись. Словно скинули одежду нужды и встали во весь рост.
Вон и соседка – Прасковья Ваганова. Только перед отъездом за Ефима замуж вышла. Шестнадцати лет. Босиком в огороде коноплю дергала. Сына родила, а женщиной не стала, все, казалось, носом шмыгает. А сейчас, Откуда что взялось. Выпрямилась. Нежную незагорелость груди в расстегнутом распаде кофты не прикроет, а медленно посмотрит сквозь ресницы, улыбнется и уйдет, поправляя рукой закрутку косы на голове.
Грубый холст кофты на Прасковье как чужеродное обрамление – лишь затем, чтобы лучше подать зарождавшуюся в ней красивую женщину. А в глазах ее – непроходящая тяжелая улыбка.
Сколько раз проезжала она на телеге с Ефимом мимо крыши Сергея, где он вязал рамы для окон, находила его глазами и держала взглядом до самых своих ворот, а потом, отворачиваясь, улыбалась. Тревожила Сергея эта улыбка. Долго не отпускала. Прасковья уже зеленку руками с телеги скидывала, в избе исчезала, а Сергей останавливался у верстака, замирал и медленно избавлялся от нее, а потом твердел лицом. Улыбка Прасковьи казалась ему одного значения с ухмылкой Ефима.
Ефим любил исподтишка, как из засады, подъелдыкнуть, найти в человеке самое больное. Работал он на пашне с утра до ночи, а все, казалось, даже у себя выкроит да поленится.
Сергей на стройке задерживался, а жена ждала его в землянке, теперь уже с двумя ребятишками. Подолгу ждала…
При ожидании – не только воду из-под горы носила, но и дрова. Углубится в согру с топором, нарубит тонкого березняку – по одной вытаскивает из чащи.
Ефим у своих ворот наблюдает, как поднимается Дуня в гору – бороздят, с плохо обрубленными сучьями, березки по траве, и ждет, когда пройдет она мимо, чтобы разулыбаться. Сергей запомнил эту улыбку. Ефим с такой же улыбкой встречает теперь и Сергея, будто у него утвердилось на нее право.
– Кой-кому и лошадь покупать не надо.
И улыбка Прасковьи имеет ту же цену.
Она развешивала веники на жерди у стены избы. С лестницы через ограду видела Сергея, знала, что рядом, а все не оглядывалась, медлила.
Потом сказала:
– Видела я, как ты дом Махотиным отделал. Нарошно посмотреть ходила. Себе-то когда будешь ставить? Новым срубом или на землянку вторым этажом надстроишь?.. – сама прикусывала, мяла губы.
– Смотри… Ты и смеяться не разучилась. И голос у тебя еще есть… А то за этой поленницей тебя совсем не слышно стало.
Откуда у Ефима неприязнь к Сергею? Все старается затронуть злыдарным словом. Скрытно, без вызова. Прямого столкновения боится, знает – шутки Сергея мужикам по сердцу придутся.
V
Начала этой неприязни Сергей не помнит. Может быть, появилась она с того года, когда Прасковья Ваганова стала солдаткой. Война с Германией закончилась. Солдаты домой пришли, а Ефим не возвратился.
Свекор, неразговорчив и нелюдим, как волк, стал мало бывать дома – только по воскресеньям со стана приезжал.
А солнце все длиннее отбрасывало тень на приземистую избу Вагановых и по косогору. Беспокоящей тайной жила за поленницей молодая солдатка. Иногда осенью раскладывала срезанные шляпки подсолнуха на крыше. Сергей помнит ее с шероховатым кругом в руках, огромным, как дно у кадки.
Она разламывает его на груди, теряя крупные зерна, бросает на землю сыну.
– Минька, на́ семенные…
VI
Вечер изрезан полосами косого солнца и теней на чистой траве.
Прасковья мнет моченец. Груды снопов высятся рядом. Конопля черна от воды, обожжена солнцем, и не поймешь, почему из нее появляются в руках Прасковьи отливающие серебристым блеском волокна. Прасковья отделит пучок от снопа, положит на мялку и, протаскивая к себе, изломает его плашкой. Осыпается кострика.
Волокна конопли еще жестки. Прасковья треплет их, протягивает сквозь отполированные ребра мялки – они распушиваются. Потом скручивает их в горсти, складывает хвостик к хвостику. И вот уж она на кострике, обложена дорогими мехами конопли недоступного лунного блеска. Дорог мех нежной ковыльной мягкостью. И царит в нем женщина.
Моченец измят – можно и разогнуться. Ласкает вечернее солнце. Можно поднести руки к лицу, прохладной кожей постудить, спокойно отдышаться, запыленную косу поправить, постоять, солнце почувствовать. От солнца свежесть поднимается…
Праздность солдатки всегда заметится.
– Прасковь, добра-то у тебя сколько. – Прохожий мужик замешкается, отвлечет улыбкой. – Пригласи посидеть. Попробуем. Какой он у тебя получился. Мягкий?..
Прасковья, надевая кофту, выдержит долгий взгляд, пока на все пуговицы не застегнется. Сделает движение головой, как прическу поправит после купания, шутку не примет. Останется одна – глаза ее станут тоскливыми, а в самой что-то птичье – никого не подпустит, никому не дастся.
И сейчас еще старик это помнит.







