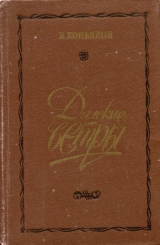
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Что смирная стала? – удивился плотник. – Не посмотришь. Силу надо иметь, чтобы вот так. Да… Я руками все могу, а вот человека показать – нет.
В кочегарке становилось темно. Андрей поднял лопату с угля. Крупинки сажи оседали на складках его рубашки. Он навалился грудью на черенок лопаты. На лицо его нашла тоскливая сосредоточенность.
А мне захотелось остаться здесь, сесть против открытой дверцы на ящик – молчать. Молчать и думать.
…Почему мне казалось, что у меня есть право судить о деревне, будто она подопытна и мои знания надо всем?
Они сами гораздо глубже меня видят истоки своей радости и чувствуют узлы своей боли.
Мне хотелось сидеть перед печкой, чтобы теплые сполохи прыгали на руках и грели колени и всю меня, как присмиревшего котенка, и чувствовать рядом Андрея, сидеть и знать, что думаем мы абсолютно об одном, молчим и перекликаемся, уходим далеко, – возвращаемся и вдруг понимаем снова, что молчим об одном.
«А зачем в этой кочегарке ты?.. В этих огромных, явно не своих ботинках с металлическими заклепками, надетых на тоненькие модные носочки?»
Но Андрей был вызывающе ироничен. И я сказала:
– Дмитрий Алексеевич, я пришла к вам кое-что уточнить.
– Вот едят тебя мухи… А молчишь.
Дмитрий Алексеич надел телогрейку, растопырил руки в больших варежках. Варежки тяжелы ему, оттягивают руки, и оттого сам он неуклюже согбен, топчется на полу в головастых валенках с галошами.
– Вот так воду и поддерживай. К утру побольше подбросишь, – говорит он Андрею. – Часам к пяти подходить будут. Заправлять.
Когда я поднялась по ступенькам, вышла, над снегом уже стояли разреженные сумерки, а у двери в кочегарку была ночь.
На вытоптанном снегу черные пучки пакли. Снег под ними подгорел. Дорога продавлена елочной резьбой шин, на которую почему-то было приятно становиться.
Дома, постучав носками валенок о порог, я вошла в избу. Юрка даже не услышал. Он сидел, склонившись над стулом, и чертил испещренную надписями схему. Под свитером у него выпирали лопатки, будто кто ладошки ребром поставил.
«План колхозных земель».
«…Костяная гривка, – читаю я. – Поддувал. Новый исток. Поскотина».
– Никак не запомню, – сказал Юрка. – Сегодня соображали, где что будем сеять… Мужики в этой топографии ориентируются запросто, понимают друг друга с полуслова, а я моргаю. Нет, этот язык до меня не доходит. Вообрази:
«– Где пшеница посеяна была…
– За хутором, что ли?
– Нет… По Окуневской дороге. Ну, где Максимов покос…
– У солонцов?
– На солоткиных полянах».
Черт те что. Какую-нибудь бабку консультантом возьму.
Я приседаю рядом. Юрка улыбается. Улыбкой хочет увлечь меня. Я молчу. Он начинает удивляться.
– Что ты? Присмотрелся внимательно:
– Ходит, мерзнет.
Я наваливаюсь локтями на его бумагу, закрываю демонстративно. Чувствую тепло его плеча под свитером.
– Весь мороз собрала.
Я поднимаю лицо. Его спавшие волосы трогают лоб щекотным касанием.
– Юрка… Юрка… Давай будем чаще говорить, что мы любим друг друга.
– Так что с тобой?
12 декабря.
«Много уважаемый редактор.
В крестьянстве сибири бываить так…»
Я хотела отредактировать это письмо и послать, только выяснить у Дмитрия Алексеевича кой-какие подробности, детали. Мне было все ясно… А сейчас я не могу избавиться от вчерашнего разговора.
«…В крестьянстве сибири бываить так…»
Почему мне нечего было возразить Самоше и я отмолчалась? Он что, прав, этот старик, со своей утилитарной мудростью?
Безграмотные крестьяне раскрывались полнее, а современники, приобщенные к высшим достижениям искусства, – пассивны…
Просто люди проявляются сейчас в более высоком качестве, в другом измерении, и увидеть надо в них не внешние, а духовные сдвиги. Сейчас… Именно в нашем поколении проснулась национальная духовная бережливость, жажда отстаивать, желать, видеть, возрождать идеалы народного духа. Сделать его гордым, познать проявление новой национальной красоты в ее высших формах и утвердить.
А образование – основа всякой культуры. И динамичности сегодняшней молодежи старику понять уже не дано – разные уровни, не на тех частотах ду́ши работают…
Я записываю сейчас эти возражения, нахожу их, но почему они приходят ко мне всегда поздно?
13 декабря.
Утром я сбежала с крыльца, бросила на снег лыжи. Ветер стих. Ночью он облизал сугробы, утрамбовал их, и валенки не проваливались, только оставались кругленькие пятачки ямок. Солнце вылезло из-за согры и, тяжелое на сером ворсе кустов, вдруг растеклось ярко на снегу.
Эй, эй! Вот она я. Солнце ловило меня на сугробе и становилось теплым на свитере. Я не могла смотреть на него, закрывала глаза, а оно растягивалось тоненькими спицами и процеживалось через ресницы.
Юрка наклонился, протиснул широкий ботинок между щечками креплений и прижал носок упругой дужкой. Поднимая лыжу, покрутил на весу свободной пяткой.
– Кончай танцевать. Иди сюда. Крепления подгоню.
Я терпеливо подставляла валенки и упиралась ладонью о его голову в красной шапочке.
Лыжню Юрка прокладывал через огород. На обвеянном снегу лыжи раскатывались, оставляя слюдяные дорожки.
Я шла следом, чувствуя легкое, чуть ощутимое скольжение. Наезжала на Юрку, прихватывая носками лыж Юркины задники. Спускалась с пологих горок.
Шли по укатанной лыжне мимо тоненьких березок. Шелестела по ногам высокая трава у кустов, торчали над снегом сухие шарики репья.
Юрка, отталкиваясь палками, далеко выставлял локти за спину, не оглядывался. Он чувствовал лыжи. На пологих спусках переносил тяжесть тела то на одну, то на другую ногу, свободно, с плавной легкостью сопрягая движение.
Красивый Юрка, здоровый Юрка… мой муж. Нужно увидеть Юрку, чтобы понять привычки человека, его потребность физической разминки – растянуть мышцы, отдохнуть в движении, стать красивее, – понять здоровую необходимость этого солнечного мороза. У кустов Юрка остановился и закрутил палкой над головой. За ракитником, плечами и заячьей шапкой-ушанкой, двигался Андрей. Увидел нас, помахал рукой. В заиндевевшем костюме он напоминал седого медведя. Утопая по колено, Андрей выбрался к нам из снега. Лыжной палкой поднял шапку на лбу. Темные волосы его изломаны и мокры, и ото лба шла испарина.
– Что-то по целику?.. – сказал Юрка.
– Наоборот… По старым местам. Вон там, за камышами, когда-то бот прятали. Долбленую такую посудину. Думал, найду. Он уже тогда у дерева ряской зарастал. А вы на озеро? – Не дождавшись ответа, сказал: – Я там еще тоже не был.
Если вчера в задымленной кочегарке Андрей был претенциозно неуместен в белой рубашке, то сегодня он прост, И на лыжах-то, кажется, не умеет ходить.
Как отличается от него Юрка упругой спортивной элегантностью!
Мы медленно идем по склону вверх, по теплому солнцу на снегу. От перекрученных узловатых березок рябит в глазах.
И отчего вон поодаль в низине березки вытянуты белыми струнами, а эти такие? Ветер ли их измял так, или коровы?
Проходим мимо леска по снежным бугоркам кочек. Андрей замедляет шаги и в густой тени деревьев останавливается.
Я тоже смотрю на лесок. И вдруг этот нетронутый, засыпанный снегом лес кажется мне мрачновато-запущенным. Только что было жарко на лыжне, но вот откуда-то пришел тоскливый озноб. Уже не хочется углубляться в чащу.
И я впервые думаю, что ничего не знаю о таком лесе, что не прочитала еще ни одной странички его и дремуче невежественна.
Лесок стоял засыпанный снегом, мелкий, неподвижный, и я робко принимала и уже любила его.
Выходим на берег озера. И опять, как в первый раз, я смирнею перед ним. Оно глубоко под нами изогнуто и уходит концами к далекому лесу, а необозримая чаща за ним в черном кустарнике – будто размытая тушь в белых берегах. И сизую черноту кустов штрихуют тоненькие стрелочки березок.
– Странное какое, – говорю я. – Откуда оно здесь?
– Старица. Бердь отошла, – говорит Андрей.
– Давно?
– Никто не помнит.
– А почему оно «Черное озеро»?
– Наверно, оттого, что всегда в тени.
– Оно глубокое?
– Мужики рассказывали, что на вожжах гирю в него спускали. С лодки. И дна не достали. Может, обманывали.
Андрей улыбнулся:
– Нам в детстве именно эта деталь нравилась. Необычностью. Сами его мы не мерили. Боялись. Слишком вода холодная, не прогревается.
Мы идем к берегу, и озеро для меня уже одушевлено подробностью.
Юрка с Андреем оторвались от меня, остановились на берегу, навалившись на палки, и смотрят вниз.
Я подъезжаю к ним боком, боясь крутизны.
– Что там? – спрашиваю я. – Заяц?
– Спуск понравился, – смеется Юрка.
Сознание с мгновенной готовностью падает вниз, сердце исчезает, и откуда-то берется тихая тоска.
– А ведь когда-то я, – говорит Андрей, – отсюда спускался.
И это звучит так нелепо, неожиданно своей невероятностью. Юрка поднимает брови, отворачивается, с издевательским недоверием смотрит на меня. Андрей это увидел и, глядя в снег, улыбался. Мне стало стыдно.
Андрей навис носками лыж над обрывом и, постучав ими, сбил козырьки снега. Они скатились, разрушаясь, и за ними долго еще ползли язычки снежной пыли.
И я не поняла, что оборвалось во мне, осталась только тошнотная легкость. Андрей рухнул вниз. Падал он под ноги черным обгорелым пеньком, падал далеко, будто убывал до самого дна. Вдруг выскользнул из-под наших ног, словно им выстрелили из снега.
У противоположных кустов озера развернулся. Брызнул тугой веер, и Андрей плюхнулся в снег. Поднялся, долго выбивал варежку о лыжную палку, а шапка торчала из снега одним ухом.
Не глядя на нас, махнул:
– Давай.
Юрка не двигался.
– Не смей! Ты соображаешь? – А сердце опять тоскливо исчезало.
Пологим склоном Андрей поднялся вверх. Шея у него мокрая, и по ней сползал за воротник снег. Он этого не замечал.
– Не удержался, – отметил он. – Здорово, черт. Какое-то состояние невесомости. Полностью отключаешься. – Он сбивает плотнее лыжами снег и устойчиво останавливается у обрыва. – Не тот я стал, не тот… – насмешливо декламирует Андрей.
Юрка старается не встречаться с ним взглядом, пружинисто переминается на лыжах и подходит к пробитому следу. Когда исчезает вниз, мне опять кажется, будто там из-под моих ног выбрасывает его гора, как натянутая тетива. Он влетает в кусты и оседает на пружинистых ветках.
«Исхлестал лицо», – думаю я.
Юрка поднимается к нам, вбивает в снег палки и вешает на них шапочку.
– Вот скорость! Воздух, как подушка, – не пробьешь. Надеть доспехи хоккейного вратаря, и можно зависнуть. Итак, – подбодрил Юрка, – я за тобой.
– Ничего, я добрый, – ответил Андрей. – Уступаю.
И пока Юрка скатывался вниз несколько раз, Андрей так и стоял без движения. А когда Юрка внизу долго искал лыжной палкой что-то в снегу, Андрей подкатился к обрыву. Меня охватила зябкая волна холода.
– Дураки, – говорю я и тихо отъезжаю дальше от озера.
Зачем нужно падать, вываливаться в снегу, ходить с мокрыми рукавицами, когда такое солнце и легко скользят лыжи. А они…
Юрка обогнал меня, замедлил шаги и ударил палкой по березке. С нее осыпалось снежное облако и прозрачно висело в солнечном воздухе.
– Я во-о-он туда сбегаю, – сказал он, показывая на далекий маяк. – Тебя там подожду. Потом домой пойдем, – и побежал вверх по косогору.
– А где Андрей? – хотела я крикнуть и увидела его у редкой кромки ветел внизу. – Э-э, – испугалась я, когда лыжи потащили меня по склону. Я не знала, как остановиться, а лыжи все раскатывались и раскатывались. Подпрыгнув на выступившей кочке, я села и скатилась к накренившимся ветлам, глубоко разметая снег.
– Теперь и нам не обидно, – сказал Андрей, – лыжи целы?
– Не знаю. Безжалостно спрашивать сначала о лыжах.
– По глазам видно, что ноги не сломаны.
– А Юрка к маяку ушел.
– Верхом? Мы его обожмем.
Андрей повернул мимо ветел на поляну с высокими, сухо бренчащими дудками. Его лыжи ломали хрупкий валежник под снегом.
Легко идти по следу. С небольшим усилием шагнешь, и лыжи накатываются сзади невесомым скольжением. Палочки чиркали по снегу. Он здесь неправдоподобной белизны. Только изредка пятнает его шелушащаяся кора засохших ветел да лопнувшие коробочки семян.
Я смотрю на паутинную вязь ракитника, на широкие и почему-то не облетевшие листья на тонких веточках и не хочу спешить. Рядом на реденьком кусту висит сморщенная ягода.
– Что это? – говорю я и трогаю симметричные вилочки с сухим отростком посредине.
– Калина, – говорит Андрей.
Я зачарованно вспоминаю, как она катилась по жирной жести.
– Почему такая? А я видела… Мерзлая она, как рубиновые стекляшки.
Я делаю несколько шагов и замираю. Навстречу серыми шариками летят птицы. Летят стайкой легко, будто качаются на волнах воздуха. Сели рядом на куст, и он вспыхнул на снегу. Снегири! Такие грязные в зоопарке, здесь, на кусту, они независимо-царственны, в первобытно ярком оперении, красногрудые, голубовато-дымчатые, с белыми полосками на бархатно-черных крыльях, они прыгают, лениво копошатся, склевывают какую-то ягоду и бросают на снег, будто с их черного клюва скапывают капельки крови.
– Доверчивые… Подойдем поближе.
Птицы негромко перекликаются. Один затопорщился и начал кричать.
– Это не снегирь, – говорю я приглушенно. – Видите, серый? Чужой… И дерется…
– Вполне естественно, – говорит Андрей, насмешливо разглядывая меня. – Это самка. Она не так красива, зато отличается сварливостью.
Я смотрю в его глаза и понимаю, что он не простил мне ту первую встречу.
– Самца держит в подчинении и вымогает у него лучшие ягоды. Если самец не сразу уступает, она злобно раскрывает клюв и принимает угрожающий вид.
– Похвальная наблюдательность.
– Ничего подобного, популярная брошюра: «Снегирь. Уход и содержание».
Птицы шумно вспархивают, серый куст сразу светлеет, и стайка, будто на невидимых струечках воздуха, взмывает кверху и исчезает в кустах.
– Яркие какие, – говорю я. – А вот в кустах их не видно. Вон они, – я останавливаюсь, – смотри. Те же самые… Только… Они горят на снегу.
Андрей молча сворачивает в сторону. Серым комочком в снегу лежал снегирь. Андрей зачерпнул его ладонью и подул на бок. Снегирь уже застыл, только от дуновения перышки его тяжело топорщились.
– Ударился, наверно, – говорит Андрей. – Об ветку. – Вдавил рукой снег под деревом и опустил птицу в ямку. Постоял молча и пошел между кустами. Ни с того ни с сего повернулся и доверительно сказал: – Заметила? У мертвого оперение поблекло, потеряло напряженность. Да? А от живых исходит свечение. Странно. Или мне показалось? Будто цвет перьев потух…
Я уставилась на него, соображая. А он, словно только увидел меня, растерялся, заспешил и больше уж не сказал ни слова. Колючее и теплое солнце ласково жгло щеки.
Когда вышли из согры, на горе у маяка увидели Юрку.
– Не успели.
В обед мы расходимся. Андрей не захотел к нам зайти.
– Нет, – сказал он сухо, чтоб уж и не пытались ему что-либо еще предложить. – Мне нужно побыть одному.
Пошел через огород мимо бани, не оглядываясь. Он не нуждался в общении с нами.
«Господи… Ну и пусть!..»
Почему-то сразу чувствую, что устала, лыжи тяжелы и до неприятного отпотели варежки. Я снимаю их и стужу руки о палки.
В избе еще тепло. Я кладу варежки на печку. Запахло талой черемухой. Юрка связал лыжи, протер их тряпочкой. Мне кажется, я знаю его за этим занятием давно – в прошедшем и будущем. В другом качестве видеть его мне не дано.
Я сажусь на кровать и отваливаюсь на подушки. Расслабленность приятна – шевелиться не хочется.
– Довольна? – смеется Юрка. Расстегивает воротничок рубашки, мягко ходит по комнате в кедах. – Это то, что ты хотела. Надо в сторону реки лыжню пробить или на луга, к стогам. Давай… Каждый день. Только вечером.
Я не шевелюсь и думаю:
«Что у меня после обеда будет? Читать не хочу. Писать?..» Я ищу, пробегаю памятью сегодняшний день, стараюсь уцепиться за неведомые вехи, чтобы найти что-то приятное для себя. Почему-то вспоминаются сумерки и широкий воз на санях. Я стою на обочине и пережидаю, когда пройдет трактор. Андрей в снегу барахтается с доярками. Как он замер, когда я проходила мимо, наверно, весь снег с головы под рубашку растаял. Доярки это заметили. Мне всю дорогу улыбаться хотелось. И все… Ведь ничего больше не было? Но почему я хочу вспоминать это и кажусь себе там счастливой. Хм… Зачем мне все это? Ведь у меня нет права.
Я не открываю глаза, и, как неясная грусть, плывет сизое марево кустов, полыхают на снегу снегири, снимаются и исчезают далеко за согрой.
– Хочешь посмотреть, как здесь именины справляют? Нас Кузеванов на субботу приглашал. «Нельзя жить в отрыве от народа».
Юрка улыбался в предвкушении общей радости. Лыжные прогулки его не утомляли.
14 декабря.
У самой двери я задержалась, сказала Юрке:
– Ну как мы сейчас войдем? Слышишь? Пьяные уже все. Не представляю, что я там буду делать.
Юрка, подталкивая меня, открыл дверь. Навстречу хлынул говор.
Я вижу, как качаются головы, как стеклянно блестит стол от стаканов.
– Штрафную им!.. Чтоб не опаздывали… Юрка наш… А Катю сюда. Побольше ей. А то она с нами не знается…
Пока мы вешаем пальто на гвозди, за столом люди раздвигаются, и нас заталкивают в широкую брешь между плечами.
Я не знаю, куда деть руки, так близко подступили ко мне тарелки.
Все ждут нас. Ставят полные стаканы водки. Юрке большой граненый, а мне такой же граненый, только поменьше.
Я чувствую, что начинаю гореть и становиться красной, как все за столом.
– Давай всем, – распоряжается Пропек и поднимается со скамейки.
– Подождем. Выпьют. Потом повторять будем…
Мне накалывают кружочек такого плотного огурца, что я смелею и, не отрываясь от него глазами, поднимаю стакан.
– Ну, что же вы. У нас так нельзя.
– Кума! Ты смотри, кума… Неужели мы ее не заставим?..
Какое это ласковое и женское слово «кума». Улыбчивое, деревенское… В юбке и фартуке. И как оно не вяжется с женой Проньки Кузеванова – Надей.
На маленькой ее голове волосы забраны на затылок. Забраны сильно, до тугого блеска, и закручены шишкой. Эта прическа растянула к вискам ее и так большие глаза.
– Ладно, – сказала она с неторопливым достоинством. – Я вам что-нибудь… Нашего. Самодельного.
Молодая хозяйка была вне общего ажиотажа. Не знаю, какие знаки подала она Проньку, только тот нашел ее у печки и наклонился ухом к ее лицу.
Из опыта своей деревенской жизни я уже предполагала, что оно такое, это «наше самодельное».
Пронек открыл крышку и спустился в подполье.
Вскоре из темноты появился лагун – я уже начинаю усваивать здешнюю терминологию, – лагун – деревянная бочка, приземистая, как усеченный конус.
Пронек стал вытаскивать из отверстия затычку, обернутую в тряпицу. Расшатал ее из стороны в сторону пяткой. Выдернул. Резкая струя хмеля ударила из круглой дырочки.
Пронек наклонил лагун, и запенилась в ведре, зашипела белой шапкой настоянная на сахаре брага.
В этом бочонке брага крепла, бродила. Появлялась в ней шибающая сила – ее омолаживали – всыпали сахар. В бочонке начиналось холодное кипение.
Пронек поставил ведро на стол. Я без насилия справилась с полным стаканом, а потом сидела и с восторгом ужасалась, как затяжелели мои ноги.
– Будя. С копыльев сбивает.
– Поди, год выдерживал?
– Он про нее не знал… Жена прятала.
– Кума, кума…
А я смотрю, как выглядывают с печки мальчишки. Еле различаю свесившиеся босые ноги.
– Пронь, дай передохнуть…
Из другой комнаты выносят аккордеон и подают рябоватому мужчине. Аккордеон огромен, как батарея отопления. От яркой отделки, перламутрового свечения стало светлее за столом. В аккордеоне много и зеркального блеска и регистров. Его много для одного человека.
Мужчина запряг себя ремнями с двух сторон.
– Аккордеон у вас мощный, – сказал Юрка. – Таких в магазине не продают.
– Немецкий. Из самого Берлина.
И он растопырил пальцы на клавишах.
Мне казалось, что из этого чудища сейчас явятся такие же нарядные звуки. А они оказались серыми, как пальцы.
Аккордеонист перекинул ноги через скамейку. Пальцы неуклюже шевелились, они походили на избитые деревянные городки, разложенные на клавишах, но как-то успевали делать свое дело.
Молодая потная женщина, прежде чем вырваться на круг, прочувствовала плечами и грудью всю мелодию и неожиданно пропела поверх голов:
Шторы тюлевы висели,
Знаю, знаю, у кого,
Знаю, знаю, кто расстраивыт
Матаню моего.
И начала колотить ботинками в пол. Дядя Иван играл громко. Знал он только одну музыкальную фразу и называл это «Подгорная». Если написать формулу его «Подгорной», то она выразилась бы так:
Шторы тюлевы висели, знаю, знаю, у кого…
Шторы тюлевы висели, знаю, знаю, у кого…
Шторы тюлевы и т. п.
С начала и до конца без модуляций.
Вот уж кто-то еще включился в пляску. Еще… Сорвало всех в один круг, и они затасовались, замельтешили каруселью перед аккордеоном, неутомимо и долго. Аккордеонист с широкими ладонями обладал незаурядной физической силой.
– Уморили… Ой… Ну хватит. Садитесь отдыхать. Садитесь за стол…
И уже было жарко от распаренного здоровья. К людям возвращалось чинное успокоение.
– Еще по одной… Перед пельменями.
Пронька торопило нетерпенье.
– Кипят, – с поспешностью сообщила Надя и улыбалась из другой комнаты.
А ребятишки сидели на печке. Среди них и широконосый двоечник, что не знал ничего о Куликовской битве. Брус мешал ему видеть стол, и он наклонял голову и все хотел разглядеть лицо каждого и боялся остановиться на моем.
Знать бы, как преломляется в этих детских глазах пьяная феерия.
И может быть, вот с такой печки пришел к нам на занятия литературного объединения косноязычный парень. Пришел со стихами:
Над лужей рассола,
Над скатертью белой и влажной,
Над четвертью с пивом,
Заткнутою пробкой бумажной,
И над плечами,
Сомкнутыми вяло и тесно, —
Я увидел всю в белом —
Старинную русскую песню…
Седым старикам,
Огрубелым и пьяным морщинам,
Пела женщина, как
«Над рекой расцветает крушина»…
С русской печки
Я свешивал черные цыпки,
Конопатый и грязный,
Я на песню смотрел
Без улыбки…
Эти стихи мы не приняли…
– Мужики, песню!
– Дядя Мить… Какую-нибудь…
Дмитрий Алексеич убрал подальше тарелки, чтобы не мешали локтям. И локтем уже осторожно отодвинул стакан.
Дмитрий Алексеич сосредоточивался. Сосредоточивался молча, не шевелясь. Ждал, чтоб и сомнений ни у кого не было, что может быть еще что-то, кроме песни. Собирался… И это вносило беспокойство.
Оте-е-е-ц мой был природный пахарь,
А-а-а я-я ра-а-аботал вместе с ним.
Голос у Дмитрия Алексеича надтреснутый, приглушен курением.
И вот уж и не поняла я, почему у меня звенит так в ушах от тишины. Оглохли стаканы. И пустота их полна взрывной тишиной.
Песня обрушилась, как стихия… Люди вступали в нее неумело, нестройно – так ветер подступает к лесу. Сначала тронет одну вершину, потом другую и зашумит стволами, расщепленным деревом и сплошными космами кустов.
Голоса пугали разнобоем, неслаженностью. И в сумбурном разгуле их рождалась сила и грация песни.
Отца родного в плен забрали…
А-а-а мать жи-и-вьем в костре сожгли, —
повторяли люди уже как свою беду, рассказывали о ней и не кричали. Они ее воскрешали, были наедине с нею. И эта стихия горя застарела в них вековой непрощеной обидой, собрала в песне. И они знали боль ее. Боль исконна. Вне времени. И знают они о ней только одни.
Наверное, они не умели петь… Но непреходящая стихия дедовской культуры вводила их песню в русло и не позволяла растекаться…
Я никогда не слышала этой песни. Я слышала хоры – большие и сильные, но не знала, что люди могут петь так… Что же это такое есть в них, какая изначальная обида пришла и в наши дни – передалась от отцов детям?
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по волнам… —
не поет, а сообщает Дмитрий Алексеич.
И Василиса Серганова сидит на лавке у ведер, прикрывает втянутые губы платком. Возбуждает и молодит ее песня. И дрожит под платком выдавшийся острый подбородок.
Дмитрий Алексеич стар, сед, шепелявит, как прохудившийся мех, и все не хочет поверить, что нет уж той силы в нем, что родила эту песню.
С сестрой мы в лодочку садились…
В Проньке ворочается что-то, его коробит. Он наклоняет к столу голову, морщится, будто перекусывает проволоку.
– Э-э-э-х, – тихо и разбойно выдавливает он, не зная, куда деть руки. И уже тесно ему в его рубахе.
– Пронь. Да что ты, Пронь…
Юрка соскочил и навалился рукой на брус. А Пронька выворачивала сила, о которой никто не знал, чем она закончится.
– …Э-э-х!..
Юрка сжал ладонью его плечо.
– Пойдем на улицу, – сказал Юрка, подтягивая его к себе. Пронек был у Юрки под грудью.
– Ты? Юрк… – Пронек обрадовался, как в лесу. – Ты не знаешь… Когда тебя за человека не считают, – откачнулся. Увидел меня. – А… Катя… За человека не считают, – опять сообщил усиленно. – А Андрей считает. Ты знаешь, кто такой Андрей? Он считает…
Ребятишки на печке подтянули под себя ноги, отползли в тень. Только двоечник упирался пятками в беленую стенку.
Надя ставила на стол пельмени в больших тарелках. Пельмени дымились горячими горками. Надутые раковинки с тугим усилием сдавливали просвечивающую начинку.
Надя оставалась, спокойной и улыбалась, только держалась у бровей вертикальная складочка, которую не могла растянуть тугая прическа.
И началось над пельменями беспечное оживление, будто и не звенели углы в избе и до горького крика не возбудился Пронек. Юрка с ним вышел на улицу.
А мне на уши еще больно давила тишина. И хотелось понять людей, какими они были только что. Что же хотят они выразить в своих песнях? И почему нет такой силы в новых?
Я зачерпнула воду из ведра. От ковша пахло застоявшимся сырым железом. Колодезная стылость долго держалась на зубах.
– Смотрю я, – сказала тетка Василиса. – На гулянке ты, а все не развеселишься. Или радость наша для тебя некрасива? Она ведь у нас как есть, на виду. Никогда не притворяется.
– Да нет… Хорошая у вас радость. Поете вы хорошо. Я никогда этой песни не слышала.
– У сибиряков научились.
– Какие песни старинные были… – сказала я. – Силы в них много. Сейчас таких нет… – и уже была уверена, что Василиса подхватит это и вспомнит что-то. Старуха помолчала и ответила неожиданно просто:
– Сейчас тоже есть хорошие… И какие еще хорошие! Послушаешь…
И все… Я поймала себя на мысли, что, желая поговорить с ней, не заметила, что искала ее убеждение и подлаживалась под него. А она, разговаривая, не боялась ошибиться и обезоружила меня своим ответом. Она вздохнула потаенно:
– Муж твой к людям быстрей прилипает. Свой везде. Вот уж и здесь его все касается. И люди его принимают, раздвигаются, место дают.
А у дяди Ивана на коленях уже ворочался аккордеон.
– Уйдем, Юрк.
15 декабря.
С чем я проснулась? Юрка спал. В предрассветных сумерках Юркино лицо и моя рука были мертвенно-бледны. Я пошевелила пальцами, боясь их цвета. В городе я никогда не просыпалась одна и не лежала так. Голова у меня была свежей. Рядом спал Юрка, а я лежала и думала: «Я счастлива?»
Вот уж второй раз задаю себе этот вопрос. Значит, когда-то у меня уже было такое состояние? Я вспомнила яркую комнату журналиста – Юркиного друга. Стены его комнаты были в беспорядке оклеены репродукциями Матисса. И даже ленточками свисали с потолка японские гравюры, прихваченные за кончик кнопкой. У двери стояла тахта, а в углу магнитофон и приемник с переносным выключателем.
Мы с девчонками нашего курса осваивали эту «технику», пока мальчишки исчезали. Они появлялись с вином. Бутылки не заворачивали и этак небрежно несли в руках.
Потом были танцы и песенки… Песенки таких талантливых ребят.
Было много смеха. Было очень много смеха. Возвращались домой поздно. Машины шмыгали, шмыгали перед глазами, месили раскисший снег на дорогах и слепили.
Мы ловили такси стенкой. Рассаживали всех. Сами шли пешком. От моих дверей Юрка уходил.
Я ложилась в постель, смотрела в подвижную темень потолка и спрашивала себя:
– Ты счастлива? Ты же счастлива…
Я вышла за Юрку замуж оттого, что он был всегда лучше всех. Был самым красивым.
Так что же мне нужно еще сейчас? И снова я пытаюсь уяснить: я счастлива?
С Василисой Сергановой я разговаривала вчера и, оказывается, говорила совсем не то, в чем убеждена сегодня. Значит, я не была естественна? Значит, притворялась? А с собой я не притворяюсь? С Юркой не притворяюсь? Я его люблю? Отчего же я все чаще и чаще с таким отчаянным усилием напоминаю и напоминаю себе его достоинства?
Вчера проходила мимо избы Андрея. За плетнем, в глубине – темные сенцы. Стенка избы близко у сугроба, и из окон падает свет. Обыкновенная изба, не лучшая в деревне. Изба, к которой я совершенно безразлична. А я думала:
«Здесь он живет…» И испугалась.
В радиоузле, когда я грела у приемника ноги, он задумчиво рассматривал меня и, когда понял, что я заметила это, больше ни разу не глянул, будто боялся дотронуться взглядом, будто нельзя. И я знаю, что себя он не выдаст даже улыбкой, чтобы я не заподозрила.
Какая здесь весна? Наверное, когда поднимается вода, вся согра в воде.
Почему мне хочется понять, о чем он думает, когда бывает отчужденно далек, понять мир его посягательств?
А ведь я знаю что-то больше его. Но оно, это что-то, какое-то не мое, заемное. Вот и не будит ни в ком любопытства. И у него…
Странно. В декабре в Сибири какое бывает теплое солнце на снегу, когда всходит. Ласковое, можно загорать. Это оттого, что его никто не задерживает, не процеживает, оно играет, прозрачное.
Может, и сегодня такое утро будет…
Так отчего же это неясное, осторожное отчаяние? Будто что-то уже большое-большое у меня не сбудется. Красивый муж спит рядом. Я знаю, что девушки хотят счастья. Для себя. Счастья моего… А чего я хочу?.. Не выходите, девчонки, замуж. Замуж лишь бы… Боязно мне. И уже есть что-то, что нужно прятать от Юрки. Если по-честному, ведь это порочно. Но отчего же так чисто желание мое думать о нем? Это же все случайно. Случайная деревня. Случайно здесь я.
Мне было весело. Мне было всегда здорово весело. А вот большого утра, единственного, весеннего – не было.
Неужели правда – есть еще какая-то любовь, кроме такой, которую я знаю к Юрке. Что же делать тогда? Как жить, если теперь мне дано узнать об этом?
16 декабря.
Вся клубная библиотека поместилась в одном книжном шкафу. Саня раскрыл замочек, и створчатые дверцы разошлись сами.
– Пожалуйста, мне не жалко, – небрежно говорит Саня. – Свободный доступ. Оберегать нечего. «Огонек» без обложек, а рассказы без картинок. Кто захочет возвратить их на место, зайдите в любую избу – все стены залеплены.
– Ну уж, – говорит Лида Бессонова. – Прошлогодние. Они и так истерлись. Таисия Марковна была, так хоть журналы выписывала. А сейчас…
Лида недовольно выпячивает губку. Она у нее так и остается, хотя Лида и окунулась в журнал.
Подходят девчонки, садятся за длинный стол рядом. Саня тоже задержался и расслабил бурый воротник пальто.
– Кто это Таисия Марковна? – спрашиваю я.







