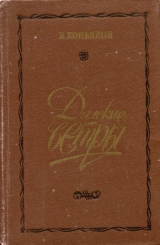
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Обнять за то, что позволил он Петьке проникнуть в тайну.
Чтобы испытать его доверчивость, Журавлев зашел сзади, уперся и толкнул Почтаря в бок. Тот переступил ногами и даже не захотел заметить такое насилие.
Если раньше конь не позволял Петьке поймать себя, надеть узду, то теперь, после этого доверчивого знакомства, легко ему давался даже в открытом поле.
В разговоре, окриках, в общении с конями было для Журавлева больше жизни и тайны, чем в мальчишеской игре в «костылки» или рыбалке с удочкой на Ине.
Он любил лошадей – сильных, беспокойных и доверчивых животных.
И лошади его понимали с того теплого утра. Давно это было: прошел целый год войны. И понимали кони Петьку, наверно, потому, что добрее людей. Ну и пусть. А в Анну Ефимовну он все равно не целился.
Димка думал: ну и что, что война. Где еще она? В Сибири ее и не слышно. Что отцы-то воюют? Что с фронта письма пишут?
Кажется, ничего в деревне не изменилось, И амбары – как стояли вокруг, так и стоят. И избы на месте, и огороды. И березки. Если войны близко нет, как она могла взрослых так изменить? Уже весна. Уже тает все, а к посевной никто не готовится.
Всегда, как только снег растает на колхозном дворе, в воскресенье устраивали весенний смотр: кто чем в посевную заниматься будет, кто как готов.
Одни мужики коней в бороны запрягут, другие – в сеялки. Поварихи на телеги фляги поставят. Выстроятся в линеечку вокруг колхозного двора, на челки лошадей ленты привяжут, ждут, когда председатель с бригадирами обход начнут: смазку колес проверять, сбрую осматривать.
Лошади удила грызут, ноздри раздувают на тепло.
Весенняя выставка! Взрослые в этот день всё, о чем думают, чем занимаются, – от пацанов не прячут. Все напоказ. До двенадцати праздник.
И пацаны к этому празднику приобщались и уж готовы с этим праздником и лето встречать. А летом – кино с ночевкой на хуторе и поздние вечерние песни женщин на дорогах.
Сейчас женщины, как старые, – все черные стали. До войны мать как пойдет в лавку, вернется и… «Димка, где ты? Смотри, какие гостинцы я тебе принесла. На тебе, Димка, конфеточки в бумажках».
А сейчас так просто конфеты не продают – только на обмен.
Димка с ребятами тоже знает, чем с продавцом обмениваться.
Весной лошади линяют.
Сделаешь из щепки расческу с деревянными зубчиками и чешешь в загоне бока лошади. Два раза чесанул – и целый валик шерсти. Снял его – и в карман. За день карман туго раздуется.
Вечером прибежишь в лавку. Достанешь начесанную шерсть – а она скаталась в кармане, как подушка, – и кладешь на железную тарелочку на весах.
Низенький дядя Федя с горбом под пиджаком и с длинными ногами подойдет и большими ладонями проверит, – ничего там внутри шерсти не закатано для тяжести? – положит на весы. А потом из фанерного ящика зачерпнет рукой конфеты и на другую тарелочку насыплет.
Подушечки громко застучат об алюминиевую тарелочку: семь подушечек или десять, обсыпанные сладкой серой пылью. Пыль сначала сухая во рту, а потом… как разойдется.
– Завтра еще приноси, – говорит дядя Федя.
– Ладно, – говорит Димка и ждет, когда его друзья свою долю получат, чтобы дорогой сосчитать, кто больше заработал. Петька Журавлев с ними лошадей не скребет: школу бросил, так, наверное, дома сидит или в конторе.
Только один раз они его встретили.
На улице было жарко. Лошади пригрелись в загоне, стояли дремотно. Головы у них тяжелые, бугристые холки шелушатся.
Сено весной кончилось, и лошадей кормят соломой.
Деревянная гребенка прыгала по ребрам лошадей, как по стиральной доске.
Димка с ребятами с утра около лошадей: пальто и штаны в линялой шерсти.
– Смотри! С одного Бузотера, – хвастал бурым клубком Шурка Юргин и еще из внутреннего кармана доставал пеструю кошму начесанной шерсти. – Это для фронта. Дядя Федор сказал. Солдатам пимы катать, – сообщает Шурка. – Видел? Это, может, как раз моему отцу попадется.
У Димки шерсти мало в карманах, а Шурка торжествует.
– Пестрые пимы на снегу заметны, – отмечает Димка. – Немцы сразу ранят в пестрых пимах. Я для своего отца буду только белую сдавать.
Димка всегда радуется своим мыслям. Они и других поражают.
– У моего отца белые пимы будут и маскхалат: попробуй на снегу заметь.
У Шурки растерянные глаза: про маскхалат он не думал.
– Я сейчас Сивуху буду ловить, – сообщает Димка. – Если хочешь – давай вместе. А эта твоя шерсть пусть другому кому достанется.
– Сегодня нам пофартило, – говорит Шурка. – Лошади стоят смирно.
Но Сивуха ребятам не давалась. Димка ее только у плетня гребенкой задел: белая шерсть с нее сразу большим клоком счесалась.
Пузатая Сивуха с прогнутой спиной от плетня отошла и к себе больше не подпускала.
Начинаешь подходить к ней спереди – уши прижимает, злую морду навстречу вытягивает и поворачивается задом. Обходишь ее с боков – она задом напротив становится, будто у нее в хвосте магнит и она за тобой следит, всегда держит, где бы ты ни находился: настороженная, собранная. Ребята останавливались, и Сивуха останавливалась: трогала губами солому, будто никого у нее за спиной не было, а сама не пропускала ни одного движения.
Димка видел вздувшиеся у нее на ляжках жилы, истертые копыта и представлял, как она может ударить в грудь, опрокинуть. Как заглохнет дыхание. А звезданет выше по подбородку – и все лицо размесит.
Сивуху и мужики в поле не могли поймать: «Немолодая, а дура».
Решил Димка Сивуху в угол загнать и увидел, что за ним из-за ворот следит Журавлев.
– Смотри, – сказал Шурка и подошел к Димке. – Вот он.
Ребята давно искали Журавлева. Хотели отлупить за то, что Анне Ефимовне лицо разбил.
Журавлев пролез между перекладинами ворот, шел к ним сам. Остановился. Насыпал табаку в лоскуток бумаги, скрутил папиросу и прикурил. Не глядя на них, сплюнул вбок.
Бросил папиросу, зашагал к Сивухе. У нее туго легли уши. Журавлев их не заметил.
– Ну!.. – громко выругался он.
Сивуха прянула головой.
Журавлев схватил ее за ноздри. Пальцы его утонули в осклизлых дырках. Сивуха болтала головой, задирала верхнюю губу, обнажая желтые зубы, а Журавлев уже трогал ее морду, и Сивуха стала смирная. Журавлев стоял рядом и мог на нее даже хомут надевать, что хочешь с ней делать.
Погладил ее и, шлепнув по спине, спугнул. Когда проходил мимо ребят к воротам, сказал презрительно:
– Позорники. Драться хотели… А у самих поджилки трясутся.
Журавлев никого не боялся. Еще в школе Анна Ефимовна накажет его, поставит к доске: он стоит спокойно и, кажется Димке, ни о чем не думает.
А Димка – его тоже иногда перед классом ставили за смех или драку – Димка думает, что Анне Ефимовне стыдно за него. Думает, что девчонки матери скажут и у нее будет горе.
У Журавлева на лице нет досады, нет раскаяния, нет страха; оно у него бессовестное. Прощения он никогда не попросит и не канючит. Анна Ефимовна назвала его один раз толстокожим.
А Димка подумал: «Правда. У него, должно быть, кожа толстая. Вон, не загорел еще, а даже зимой темный, как из черемухи. «Цыганом» можно дразнить». Но об этом еще никто не догадался, только Димка. Ребята любят, когда Димка о чем-нибудь догадывается. Услышат и долго его слова выкрикивают.
Что за человек Журавлев? И школу не боялся бросить, и колхозного жеребца верхом проминает[4]4
Проминать лошадей – проезжать, чтобы не застоялись.
[Закрыть]. Бить Журавлева тот раз не стали.
Если человека ранят, его врачи лечат. А береза сама себя может залечить. Это открытие Димка сделал недавно.
Прошлый год он у одной березы бок надрубил, а дерево вокруг надруба кору подвернуло, как края у шаньги, и теперь только сухая рана осталась. Ни у кого в деревне такой толстой березы нет. Внизу черная, в жестких складках кора: грудью прижмешься – исколет.
Один ее Димка не обхватывает.
Когда ветер поднимается, Димка не любит, как она шумит. Листьев на ней еще нет, только на мокрых ветках черные кулачки почек. Небо низко плывет. Ветки не качаются, а береза шумит, и тревожно Димке, и не понимает он, что с ним.
Всего одна такая береза на всю деревню – у Димки. Когда идешь откуда-нибудь, ее сразу над домами увидишь.
Прошлый, год из ее раны долго сок бежал. А потом, когда листья распустились, сок заплесневел.
По дороге идет тетка Артамониха в старых сапогах и клетчатом платке.
Возле Димки замедляет шаги.
– Димка, отец-то пишет? – спрашивает она.
– Пишет, – говорит Димка.
– А ты чо на земле сидишь, холод вбираешь? Земля-то еще не просохла.
И ушла.
Димка сорвался, хотел догнать ее, попросить, чтобы она, как Журавлеву, и ему разрешила верхом на Лысане прокатиться: если она его про отца спросила, значит, разрешила бы.
И когда он это понял, то приостановился. И представил сразу Лысана, и как тот однажды ограду разбил, когда к молодым жеребцам ворвался, и как на дыбы вскидывается, и подумал сразу, что он на Лысана бы не сел. Эти трезвые мысли сразу и притормозили его: он трус…
Хорошо, что он об этом только один знает. Пусть думают, что он такой же, как Журавлев, по нему же не видно. Это он внутри только… Не будет просить Артамониху.
Тревожно шумит береза. Низко плывет тяжелое небо над ней. И Димке тревожно… Неужели он хуже Журавлева? А может, нет?
Может, просто Журавлев ни о чем не умеет так думать, как он, представить, как все получится, и поэтому ему легче?
Но эти мысли не утешают, и сознание неблагополучия омрачает Димку.
А как же люди на самолетах летают? Какие же они, эти люди?
Бригадиру Ивану Андронычу шестьдесят лет, а он все еще хвастается своей силой. Увидит, что какая-нибудь женщина навильник сена не поднимет, возмутится:
– Эх, неловка.
Мужики до войны звали его «Иваном Муромцем» за норовистую похвальбу.
Когда Иван Муромец ругается с бабами, кричит:
– Пигалица! Свиристелка! Посмотри… Ты посмотри! У меня грудь! А рука! А у тебя гузка с кулачок!
Хвалится, а сам на бричку уже залезть не может. Животом на перекладину навалится, а ноги перекинуть – сил не хватает.
Бабы смеются, ждут, а потом уцепятся руками за его плечи и помогут к себе на бричку перевалиться. Пока он умащивается, молчат, грустными становятся.
Колхозницы его не очень слушаются, а председатель перед ним как виноватый молчит.
Вот и сейчас счетовод за столом председателю бумажки готовит. Левой руки у него нет, и он никак в присутствии председателя на бумажках свою подпись поставить не может. Пером водит, бумажка за пером по столу елозит. Председатель ее пальцами прихватывает, ждет и морщится.
И Иван Андроныч смотрит, на стол наклонился, свой веревочный истрепанный и грязный бич на председательскую раскрытую папку положил и с нетерпением досадует, что его еще не дослушали, а пустяками занимаются.
Председатель собирает подписанные бумаги, замечает на папке бич, бережно откладывает его в сторону. Иван Андроныч спохватывается, сгребает его и вместе с ним опять наваливается кулаком на бумаги.
– Пойми ты в нашем деле, – упорно настаивает Иван Андроныч и заставляет себя выслушать. Нарымский смотрит внимательно. – Пойми в нашем деле. Какой раз я тебе об этом. Промедлим…
Нарымский снова слушает бригадира как виноватый.
– Молодняку-то хватит гулять. Подошел… На четвертом году его всегда в хомут ставим. Объезжать надо. К сенокосу… На старых конях сеноуборку не вытянем.
Заметил, что поставил председателя в тупик, решил, что можно дать ему немного одуматься, пожалеть.
– Завтра я и начну. Табун завтра выгонять не буду. А ты кузнеца Максима сними с работы – ловить поможет. Их ведь и держать надо, а он еще в силе, Артамонову пристегнем. Да я. Неделю на это надо.
Умолк.
– Давай-ка подумаем, еще кого? Это дело для нас сщас первостепенное.
Иван Андроныч смотал вожжи, на конце петлю сделал, другой конец в нее просунул, готовое лассо на руку повесил.
Кузнец Максим наблюдал за ним, стоял рядом. Табун молодняка, оставленный утром, косяком метнулся в дальний угол загона, когда Иван Андроныч зашел в полуоткрытые ворота. Его пугнул обратно Петька Журавлев. Разматывающееся кольцо новых вожжей метнулось навстречу.
Молодой беснующийся конь все хотел свалиться в сторону, но глухая петля сдавливала его шею.
Короткими вожжами держали его Максим и Артамониха, а председатель, когда скользили у них ноги, тоже схватывался за оставленный конец.
– Ты сдержись, сдержись, парень, – отстранял его Иван Андроныч. – Не горячись.
Бригадир перебрал руками остаток вожжей, схватил голову коня уздой. И захлестнул металлическую барашку на зубах. Конь ошарашенно грыз цепку. Артамониха, как ребенка, успокаивала норовистого коня.
– Ну, ну, ну… Ну, ну, ну, – просительно причитала она.
– Поостерегайся, Андроныч, – наставлял Максим. – Дикий он. Какие мы теперь держаки.
– Сколько я их объездил… Как прихвачу, присмиреет… – Иван Андроныч этими словами себя взбодрил. Подтянулся на поводе к коню, за гриву рукой поймался, в ладони перебрал.
Конь не трогался, только внутри у него все ходило и что-то металось под кожей.
Петька Журавлев слез с телеги. Он отмечал уверенную цепкость старика и видел, что бригадир не просит, как женщины, а требует от коня понимания, договаривается с ним и умело усмиряет, и это вызывало у Петьки благоговение.
Иван Андроныч, не предупредив, не насторожив остальных, мгновенно прыгнул на спину коня животом и завис.
Коня обожгло, и он стал поддавать задом: раз, раз…
Иван Андроныч отскакивал от крутой спины коня, как от резины.
Раз, раз…
На третий раз он был сброшен на землю. Конь дал свечку, увлекая всех за собой через оглобли. Обжигая руки, держали веревку.
Иван Андроныч вскочил, ругнулся. Хотел опять к коню приблизиться, но тот ошалело мотался из стороны в сторону на леске, волок всех и к себе не подпускал.
Иван Андроныч сокрушенно винился:
– Ляд меня возьми. Грузноват стал. Ладно, не убил, дьявол.
Его сапоги и штаны были в земле, На небритых щеках пыль.
– Не егозись, – рассудительно сбивал Ивана Андроныча Максим. Он уже тоже старый был; с непривычки руки нарвал вожжами – молоток и то помягче. – В хомут его надо. В оглоблях наездить.
Конь боялся хомута, его растопыренных гужей, не давал голову.
И когда Иван Андроныч надвинул хомут на глаза, конь упал на колени, подмял Ивана Андроныча.
Председатель кинулся к нему, конь вскочил и убежал с хомутом к загону.
У председателя билась рука.
Артамониха усадила его на оглоблю.
– Опять не утерпел. Опять…
Боясь смотреть на его вспученную воронку на голове, бережно придерживала его руку. Сидели без движения. Иван Андроныч причитал самому себе:
– Вот беда, так беда… Как из положения теперь будем выходить? Никакой такой напасти не было. К бабам не обратишься…
Он сидел, согнувшись широкой спиной, и не мог взглянуть на столпившихся вокруг мальчишек.
Они стояли молча поодаль.
Летней ночью Иван Андроныч увидел в переулке лошадей, обругал Артамониху:
– Опять не всех собрала.
Пошел к избе Поздняковых. Нашел во дворе хозяйку. Она ждала, когда картошка в чугуне сварится. Между сложенными на земле кирпичами догорали головешки. Когда проходил мимо брички, распряженной у ворот, беззлобно чертыхнулся: «Хомуты не занесла. А как ночью дождь…»
Чтобы не напугать женщину в темноте неожиданным появлением, от ворот окликнул:
– Хозяйка спит, нет?
Позднякова оглянулась.
– Ты что, работница, лошадей-то на ночь на дороге бросила, в табун не свела? Не сама – парнишку бы попросила. У лошадей бока к утру западут. Так они у тебя бороны до обеда не потянут. Я Артамонову ругаю. А она их по деревне за ночь не соберет… Ее тоже надо понять: со слезами живет, и права, что обижается. Давай-ка, думай…
Ушел. Не стал ждать оправданий.
Утром посоветовался с председателем.
– Давай поставим конюшить парнишку.
– Какого?
– Я тебе сказывал… Авдотьи Журавлевой малого. Справится. Что ему на коне… Проскочил верхом, собрал табун и на луга. Что ж, что ночью? Сейчас одна заря не ляжет, другая занимается – стемнеть не успеет.
– Избоится ночью… Нельзя такое узаконить. Безответственно это. Не гуманно… Как что случится с ним, кто нам простит, взрослым?
– Мягкотелый ты, председатель. Дальше своей жалости загляни. Что за ней? Коней заморим – чем убираться будем? И хлеб не с тебя одного, а со всех нас спросят. Пошлю я малого – в этом выход.
– С Артамоновой еще поговори.
– Сам говори. Меня на ее порог ноги не поднимают. Посмотри, она малую девчонку на ночь одну оставляет. Вот где гуманность…
А вечером председатель сам ходил к Журавлевым, с Петькой разговаривал. И Петька погнал колхозных лошадей пасти в ночное.
Деревня словно ожила, как при хорошем дожде. Угнетала сушь, давило пыльное небо – и разрешилось дождем. Можно и передохнуть, и отдаться дождю, и поверить в его добро, и понять, что еще все будет хорошо.
Так и восприняла Журавлева деревня, топот его коня.
Он наполнил улицы детским возбуждением, радостной руганью, хлопаньем бича и тем давно привычным, летящим гулом копыт, которого не хватало для полного дыхания взрослых. Даже окрики мальчишек, брошенные коням на темных улицах, непонятно когда и от кого усвоенные, одарили мимолетной радостью.
Его фигурка на коне, проносящаяся меж темного частокола плетней на вечереющем небе, как налетевший ветер, заставляла оглядываться, чтобы хлебнуть свежей струи.
Обременительная и ответственная обязанность взрослых – ночная пастьба лошадей – была для Журавлева не работой, а ненасытной игрой. Доброе внимание взрослых возбуждало в нем азарт.
У Журавлева был теперь свой конь, за ним закрепленный, узаконенный решением правления. Журавлев лелеял его. Не отпускал целыми днями от себя, пас в огороде на пырее, который раньше мать выкашивала корове на сено.
К узде нашил бляхи, вырезанные из консервной банки. Начистил металлическую оправу на старинном седле. Бич выпросил у старухи Новоселовой: плетенный из шестнадцати ременных лент, тяжелый, круглый, с металлическими кольцами. За это ей с колхозного двора навоза привез для грядок. Бич с гладкой ручкой и волосяным концом. Стоит хлестнуть им, он, пробежав по траве, лопается оглушительным хлопком, и долго оседают мелкие волосяные хлопья.
Как только садилось солнце, Журавлев выходил к своему коню, привязанному у ворот. Выходил в старых ботинках на голую ногу: ноги в неполно зашнурованных раструбах ботинок болтались, как цыплячьи. Из-под кепки, напяленной на голову, выбились волосы, будто кепка была надета давно и из-под нее проросли упругие патлы. В расстегнутой рубашке. Садился в седло – и конь задирал голову, выскакивал на дорогу.
На задах огородов уже собирались лошади, остывали от седелок и хомутов, хватали траву и мотали головами. Нехотя трогались, заслышав Журавлева, сбивались и сворачивали на дорогу. Стекали по крутому спуску за деревню в луга, через исток, в сумрак крушины и тальника. Затухал глухой топот табуна далеко у Ини, блестевшей в кустах.
Потом долго в деревне ничего не было слышно.
Димка проснулся, выскочил на крыльцо – все на улице было свежим, ничего не успело нагреться. Сразу ушел сон. Димка похлюпался у жестяного рукомойника, прибитого на стенку сеней, и побежал под крышу.
Начинался день, и Димка переполнен радостью, которая всегда его ждала. Каждый день что-нибудь ему приносил.
Надо успеть. Скоро придут друзья: они от него всегда ждут выдумки.
Удивляется Димка неожиданному озарению, рождавшемуся так просто в нем.
Как же он этого не знал? И никто не знал… Не подсказывали, а само вот только сейчас пришло. Оно было около, в воздухе. И сейчас живет перед глазами. Только сделать…
Отпилить чурбачок. По краю канавку сделать для шнура, как на втулке у сортировки, а по четырем сторонам вдолбить лопасти, выстругать их все одинаковые.
Димка видит, как тонкие, почти прозрачные, деревянные лепестки, вращаясь, всасывают ребрами воздух, а сзади упруго заваливается трава. Как от настоящего самолета…
А Ленька Ларин выскакивает под струю, хохочет и ловит ее лицом и руками. Рубашка облепила живот, трепещет сзади.
– Чинно, – выкрикивает он. – Не могу устоять!
Крутить лопасти будут они железным колесом от конских граблей. Когда его прикатили от колхозной кузни, Ленька Ларин руками и ногами распирал колесо изнутри, уцепившись за спицы, а Димка катал его по двору. Ларин в нем переворачивался как распятый.
Колесо от граблей между столбами надо поставить. Рукоятку закрепить деревянными клиньями. Натянуть шнур. И зашелестит пропеллер: только ветряной круг обозначится.
Если колесо один раз прокрутить, сколько оборотов лопасти сделают? Сто?.. Или тысячу?
Димка не знает, как это высчитать. Может, втулку вокруг обода прокатить? Или одну лопасть чернилами пометить и считать, сколько она оборотов сделает, пока колесо один раз провернется?..
Только это не проверишь… Втулки нет…
Одному начинать работу не хочется. Леньки Ларина нет. С ним всегда другие ребята к Димке прибегали.
Солнце припекает голову, и прибитая земля на дорожке уже теплая, а трава прохладно ласкает босые ноги.
А если столбики с колесом и лопастями на деревянной раме укрепить? С колесами. Беседку приделать… Кабину… Раскрутить колесо, как веялку. Пропеллер зашелестит и – Димка понесется!.. Люди сбегутся…
А как отворачивать? Руль еще не придуман…
Димка садится на бревно.
Ленька не пришел. Вчера вместе с ним чистили наждаком грабельное колесо. До самого вечера. Ленька сильно старался. А когда увидел Журавлева верхом, чистить расхотел, убежал к другим ребятам.
Димка напился молока в погребе. После погребного холода солнце припекло, и свою ограду он увидел как бы заново: полынь у тына, между крученых корней полыни копошатся куры, мелкая трава и резная тень от плетня на ней.
Димка любит читать или лежать, раскрыв перед собой книгу, и мечтать.
Все, что он узнал из книг, над этим думали люди, в строчки внесли, а вот о том, что приходит к нему, никто не знает.
Даже Петька, хотя все ребята теперь только за ним и бегают.
Пусть на своих конях носится!
Анна Ефимовна рассказывала на уроке о Менделееве:
«– Дети, представьте себе, он впервые… Понимаете?.. Единственный во всем мире… Первый!.. Открыл…»
Петька это даже не слышал – его уж и в школе не было.
Впервые…
И Димка чувствует, что существуют у каждого человека только свои мысли, а у других они не повторяются.
Наверно, никто, никто не думает сейчас так о том, как приходит солнце в его деревню…
Далеко за согрой, на пологом скате, деревня Портнягино.
Там сплошная зыбкая зелень все лето, а осенью обозначится она желтыми лоскутками колхозных полей. Над ней полощутся дожди. И утрами поднимается оттуда мокрое солнце, смаргивая длинные лучи.
За рекой Червяковская гора. Ниточка дороги по ней и березовый лес. Над ним собираются тучи и ползут на Озерки. Чернеет лес. Березки запахивают белые ноги. Громыхает гром и катится к ним.
После гроз Червяковский лес четко виден; каждая его березка с расстеленной тенью на траве. Кажется, близко, а попробуй – дойди.
Надо спуститься от деревни под гору. Пройти мимо ветел, выросших из старых кольев. Дорогу пересечет исток, затрамбованный хворостом с просочившейся грязью.
Рядом озеро с илом и ракитником. За истоком дорога к Ине раздваивается: одна на Курейку, другая к Поварне на галечные перекаты. А за Иней над омутом ивы, смородиновые кусты и тополя. От реки Червяковская гора все еще далеко, только четче дорога за ней, заросшая полосами пырея.
Вдоль Ини нижние луга, и в дальней дали Захаровой дубравы, заслоняющей от закатных лучей луга, деревня Лебеди. И в ней не лежит, – думает Димка, – никто на траве и не рисует свою улицу, как сейчас он.
Димке выбегать и смотреть не надо, какая у кого изба: под тесом у Чегодаевых с сухой березкой, у Маланиных с низкой крышей. Рядом черемуха с пыльными листьями. Димка каждый столбик ворот помнит, даже металлическое кольцо на отполированных руками досках.
Бумага продавливается на траве, Димка пристраивает на колени дощечку, и карандаш прыгает по неровностям дерева.
На мгновение ему кажется, что это никому не интересно видеть нарисованным и сам Димка никому не интересен. Все меньше приходит к нему друзей и без особой охоты радуют своим вниманием.
Димка сознает, что и для него самого интересней стал Журавлев, и работа его, и кони.
Ленька Ларин вчера сразу убежал, как Петьку увидал.
И учились с Журавлевым вместе. В коридоре за вешалки прятались, пальто срывали. Журавлев сильнее Димки, а Димка главнее был, выдумывал больше, и все его окружали. А сейчас… Сместилось все. Но главное не это. Главное – он горько и потаенно чувствовал, что Журавлев не думает о страхе.
Мутное небо. Ни луны, ни отсветов заката. Кони в углу огорода за крапивой. Почему-то они перестали есть. В глазах росный блеск. Напряженные головы. Никакого движения нет, а рядом кто-то присутствует. Кони кожей слушают. Этот кто-то здесь, везде, перед Димкой.
Димка такую картину, «К ночи», у одного художника видел: кони и багровые всплески на чертополохе.
А Журавлев об этом не знает. Налетит верхом, вспугнет коней, накричит и угонит на луга под гору.
До прихода матери в избе нечего делать. Без огня темно, а с огнем скучно. Мать у Димки доярка, и пальцы у нее жесткие, отвердевшие. Димке хочется прижаться к ним щекой и так посидеть.
Сегодня мать идет с работы почему-то медленно, будто забыла, что Димка один. И голос у нее незнакомый, и руку она к его голове не протянула.
– Не холодно босиком? – спрашивает она.
– Тепло.
– Днем-то тепло было. Корова пришла?
– Пришла. А она ворота сама рогом открывает.
– Огурчики-то еще не выросли? Не смотрел?
– Смотрел. Одни пуплятки.
– Пойдем поищем. Я один утром приметила, когда поливала. Под листиком.
Ворота в маленький огород тяжелые, заплетенные мелким хворостом от кур.
Огуречные грядки в темноте укрыты широкими листьями.
– Где-то он спрятался?.. Ты только выбирай, куда наступать, плети не ломай.
Мать присела на середине грядки, запустила руку в шероховатую зелень.
– Вот он какой!
Огурчик с белой мордочкой, колючий. Когда Димка подержал его в ладони, колючки исчезли.
– Давай и морковки нарвем. И луку.
Димка ходит за матерью между грядами, ступает след в след.
Мать вытирает морковь ботвой, подает Димке и не говорит ничего, а ему кажется, что ей его приласкать хочется.
– Мы огурец в избе на половинки разрежем.
– Ешь, сынок, – говорит мать, – все ешь. – И она прижимает Димку к животу. – Для нас это все растет, пока живы. Поедим. Ты спать ляжешь… А я к Авдотье Журавлевой схожу. Им, сынок, похоронку почтальонка принесла.
…Димка лежал на кровати и думал, как тепло под пальто, и руки между коленками можно спрятать, и по сторонам в темноту не смотреть. А как Петька один на лугах? Что он сейчас делает? И Димке захотелось делить с ним неуют, ночной холод, темень и не оставлять одного.
Ему было жалко Петьку, и он думал, что будет теперь с ним вместе пасти, что-нибудь рассказывать и тоже не бояться темноты. Он представлял Журавлева в ночи, в большой траве и не засыпал.
На другой день, чуть свет, он увидел Журавлева, когда тот шел по дороге с уздечкой. Телогрейка у Петьки была в росе, как в изморози, седая. Можно на ней пальцами буквы писать. Мокрые ботинки и пугающее непохожестью Петькино лицо. Такое оно, наверно, бывает, когда про отца узнаешь.
Петьку Димка не окликнул и не сказал тех хороших слов, которые придумал ночью. Стоял и чувствовал, что просто так смотреть и молчать – легче.
Спустившись с горы, лошади двигались тесным табуном. Поодиночке отбивались, бегло щипали на обочине траву и, заслышав напористый Петькин крик, напоминавший хлесткую боль, подбирались к дороге.
На пастбище в ракитнике, не разбредаясь, опускали головы к земле, наполненной вечером, начинали жадно и неотступно щипать траву.
Журавлев без понукания подворачивал увлекшуюся в кустарниковый прогал[5]5
Прогал – проем, чистое, пустое место.
[Закрыть] лошадь, некоторое время сидел верхом. Ему приятно было чувствовать под собой удобное, подогнанное седло.
На коне он был как бы в закатных полосах неба над кустами, а лошади, его колени и разреженная темь – ниже его, на земле, в другой половине, отрезанной от мерцающей синевы, в которой он плавал.
К полуночи начинала уставать спина, и он слезал с верха в темноту, разнуздывал коня и отпускал.
Сразу же привыкал к темноте, и казалось ему, что он каждую травинку различает в смутном и мягком очертании, – все сверху только казалось на земле темным.
На небе высыпали звезды. Мерцала и таяла через все небо полоса Млечного Пути.
Журавлев подкладывал под себя потник, одергивая пониже штаны, прикрывая оголившиеся ноги над ботинками, обхватывал коленки запрятанными в длинные рукава телогрейки ладонями, некоторое время сидел и думал.
На небо он не любил смотреть. Со множеством звезд в далеком мерцании, оно уносило его, манило в неуют холода от живого и понятного тепла земли.
На одну лошадь он привязывал ботало, она ходила в кустах, и оттуда раздавался мелодичный короткий звук. Ботало гнуто из медной пластины, запаяно, и поэтому звучание его не тяжелое, как в литых колокольчиках, а нежно-бубнящее.
К утру лошади наедались и дремотно стояли у кустов, мотали головами, качая налитые сном тела. Поднимался из-за алюминиевого ракитника рассвет, трогал их спины. Спины и трава седы, только от следов жеребца вокруг табуна зеленые полосы. Жеребец при шорохе вскидывает голову, прижимает уши, отчего голова становится хищной, перемещается на другую сторону табуна и, пофыркивая, ущипнет под кустом траву и успокаивается, а голову высоко над спинами лошадей держит.
Ползет туман от озерка к ногам прозрачным настилом. Мокнет седло на лошади. Настывает телогрейка. Оседает на траву мелкой пылью роса, а на телогрейку – туманной холодной сыростью. Все затихает. И не хочется поднимать голову с коленок. Она тяжелая и чужая.
Свежий рассвет окатывает глаза, но они снова уходят в теплое, дремотно счастливое небытие.
Надо гнать.
Журавлев поднимается, узнает по седлу в табуне своего коня, идет его ловить.
Как только оказывается в седле, лошади начинают шевелиться. Так заканчивается пастушечья ночь.
А в дождь надевал старый отцов дождевик. Башлык шатром нависал вокруг картуза, и дождь сливался с него далеко от лица, чем доставлял наслаждение. Брезент не промокал, только грубел, и от него медленно подступал через телогрейку холод.
Иногда дождь заряжал на всю ночь. Тогда Журавлев оставлял у куста коня, садился ему под брюхо.
Дождь мыл спину коню, стучал по кожаной обивке седла. Конь переставал тянуться к траве, опускал голову под ветки, с листьев стекала вода на глаза, а он, в бережливой неподвижности, ее не замечал и, чувствуя сонную теплоту человека под собой, отдавался дождю на всю ночь.
Недавно к Петьке на луга приходили ребята: Шурка Юргин, Ленька Ларин. Их Димка сманил. Картошки с собой приносили, хлеба. Ночью костер на берегу озера развели, сушняком обложились и сидели, печеную картошку ели.







