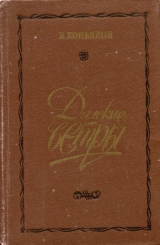
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
К утру все устали, вялые сделались.
Димка говорил, когда солнце встает, не надо костер жечь – птиц пугает. Нужно их без костра ждать.
И еще рассказывал, что на пасху солнце не играет, это у него протуберанцы. Димке сестра всякие книжки привозит, когда на каникулы из техникума приезжает.
На озеро смотрели: в нем играла рыба. Выйдет из глубины, клюнет из-под низу по самому стеклышку – и раскатываются по нему в разных местах круги. И глаза у ребят, как озеро в ракитах, играли.
Солнце прокараулили, оно, неохватно большое, плыло над кустами.
На другую ночь Димка один пришел: остальных не смог уговорить. На третью и Димки не было. А что ему с Журавлевым одному делать? Много у Журавлева восходов было, но так, как тогда со всеми, он ни разу не видел, и ему об этом некогда думать. Утрами он собирал и выгонял на дорогу коней.
Ребята, что приходили на ночь, удовлетворили свое любопытство, полюбовались восходом и, вспоминая о неуюте туманов, остались дома. А Журавлеву надо быть с конями всегда. На короткое мгновение ему показалось, что все восходы его, собственные, что он сам подарил их ребятам.
Прошло лето.
Сметали сено на лугах, и вокруг стогов поднялась мягкая, без цветов, отава.
На сеноуборке Димка работал на конных граблях, от рычага правая ладошка его затвердела и шелушилась сухими мозолями.
Уже поспела рожь, и сизые, еще не успевшие очернеть скворчата сбиваются в стаи и зыбкими клубами то скручиваются, то раскручиваются за огородами.
Все Димкины одноклассники сдали экзамены, перешли в пятый класс. Только один Журавлев – нет.
Анна Ефимовна ходила к нему домой, уговаривала:
– Подготовься, Журавлев, ты способный, и мы тебе поможем перед экзаменами.
Анна Ефимовна просила, а Журавлев губы сдерживал, чтобы ничего не говорить, и смотрел в окно.
– Документ за четвертый класс тебе нужен обязательно.
– Я и без документа за четвертый класс знаю, – в окно сказал Журавлев. – Не запла́чу.
Пока Анна Ефимовна говорила, он от окна так и не повернулся.
Димку мать послала записываться в пятый класс в Промышленную. Он будет там жить на квартире и учиться дальше. До Промышленной восемь километров. Из деревни с Димкой больше никто не пошел. Записали Димку на улице, возле школы.
Ребятишки бегают, кричат, знают друг друга, задаются.
Димка постоял около стола, поогорчался, что его так просто и так быстро записали – даже в свидетельство не заглянули, а там было много «отл.», – положили свидетельство в стопку. «На перекличку тридцатого августа», – и все. И родными показались Димке свои ребята, и важной жизнь, которой они будут жить без него.
Квартиры у Димки в Промышленной еще не было, и он пошел к себе в деревню.
Стояла обеденная жара. Улицы Промышленной пыльные, и паровозная гарь лежала даже на подсолнухах в огородах.
Курам некуда было деться от жары, и они закапывались в сухой, изнуряюще безветренной тени оград в пухлую пыль, и от пыли были белые, толстые, войлочные. Даже встряхиваться ленились. Дорога пекла. Только за Промышленной на горе, в мареве воздуха, почувствовалось слабое движение прохлады.
К вечеру жара начала спадать.
Димка подходил к деревне, когда солнце было уже низко. Он не спешил, и у деревни усталость у него прошла.
Он даже подумал, что можно свернуть к мелкому березняку и нарвать боярки, – наверное, поспела.
Но поодаль от дороги, у Чистой ляги, он увидел табун лошадей и ребят. Ему махали, кричали.
Димка остановился – закричали еще сильнее. Тогда он повернул к ним.
Ребята стояли вокруг Журавлева – человек десять.
У озера, с вытоптанным копытами берегом, кучей стоял молодняк. Табун был напуган и сбит, как подсолнечные зерна в кругу.
– Петька коней обучает, – сказал Димке Юргин. – Уже на одном как хошь садись. Его Ленька во двор отвел. За каждого обученного коня Петьке пять трудодней записывают.
Журавлев стоял в центре. Коленки его штанов были озеленены раздавленной травой, клеенчато лоснились. А в одном месте запеклось бурой коркой, наверно, кровью намокло и засохло.
Журавлев этого не замечал, и Димке показалось, что он не похож на других. Петькино лицо, хотя он и был на улице днями и ночами, не лупилось, не слезало лоскутами, а было чистое, как обвеянный камень, и лоснилось перекаленной синевой.
Петька держал перекинутую через плечо узду. На ободранных костяшках пальцев выступили капли мутной сукровицы, и рука его мелко дрожала.
Ребята говорили, возбуждались, но крики, весь шум их не оставались в Димкином сознании. Журавлев молчал. И ребята как бы оправдывались перед Димкой за Петькино молчание.
А Журавлев ни на что не претендовал.
– Чо, записался? – спросили у Димки.
– Ух, ты! Когда так вырос? Я же тебя каждый день видел.
– Выше Петьки…
Димке это понравилось. Он тоже заметил, что Журавлев ниже его.
Но тут же опять сказалась и засосала тоскливо и больно та, неизвестная другим, его тайна.
И его осенило. Вот он, Димка, будет читать книжки, все узнавать. Будет учиться… А Журавлеву не надо учиться. Ему никакая школа не нужна, чтобы знать, что ничего нет в ночных кустах, что можно не бояться человека и говорить ему, если он плохой, об этом прямо в глаза, и чтобы жить среди других самым главным.
Что вот так ничего не бояться – это самое главное, и только на это надо учиться. А Журавлев родился такой, и у него все это уже есть. Всем надо учиться на Журавлева. Только никакая школа на это не выучит, если внутри у тебя всего этого нет…
Вон и коленка у него в крови, штанина изнутри смочена и пальцы сбиты, а он не выставляет это напоказ, сбиты и сбиты. И видно, что об этом даже не думает.
И глаза у него не моргают зря, а спокойны и не боятся солнца, полны уверенностью и силой, от которой хочется радоваться и кувыркаться в траве.
И Димка подумал, что, наверно, все так же любят Петьку, как он. Хочется жалеть сбитые Петькины пальцы, и держать уздечку, и бороться с ним, и не сваливать этого парнишку.
– А кто велел обучать? – спросил Димка.
Ребята не знали, кто велел. Они над этим не думали и начали смотреть на Журавлева.
– Никто и не знает, – ответил Журавлев. – С ними лучше не связывайся.
– Иван Муромец на коня залезть не может.
– У него сапоги тяжелы… – вставил кто-то обрадованно. – Книзу тянут.
И все захохотали, вспомнив, как, зависнув на коне, пыхтел бригадир. Журавлев неодобрительно сказал:
– Он уже старый.
Снял узду с плеча:
– Пошли, что ли.
Журавлев сел на коня. Ему подали шест с петлей. Вытянув его перед собой, он направился к табуну. Табун закружился, как жернов. Объезжая его кругом, Журавлев никак не мог зацепить голову молодого Воронка. Тот вдавливал корпус в груду лошадей. Воронок догадывался, что идет охота за ним, и не поднимал голову.
Но вот Журавлев ухитрился накинуть петлю, и ребята схватились за конец вожжей, а Воронок, с блестящими вытаращенными глазами, забился на веревке. Петля перехватила горло, и казалось, глаза с подсиненными белками выскочат, как облупленные яйца.
Журавлев соскочил с коня, подбежал к ребятам.
Он знал, что нельзя сейчас бояться. Неуверенное движение вспугнет коня. Только сила охладит его, примирит с ладонью.
Журавлев огладил голову, больно и уверенно сжал ладонью губу и, давая привыкнуть глазам лошади, сзади, от ушей, поднес узду, стал надевать.
Сбоку просунул металлическую цепку в угол рта и, не дав осознать ошарашенному коню, что с ним произошло, закрепил барашку. Взнузданный, с разинутым ртом, конь лязгнул металлом и испугался незнакомого звука на зубах.
Его голова мотнулась, но, охваченная сеткой ремней, не могла сорвать повод, и конь заходил на узде.
У смирных лошадей глаза кроткие, а у Воронка они безжалостные и окровенелые.
Журавлев подал ногу в Шуркины руки, очутился па Воронке.
Непривычная боль в углах рта осадила коня на задние ноги. В обморочном страхе он вздыбился, упал на передние ноги и подкинул зад. Журавлев ударился о голову Воронка и перевернулся в воздухе.
Освобожденный конь отбежал к табуну. Журавлев шевельнулся в вялой корче, гримаса пробежала по лицу и угасла.
Шурка Юргин тронул его, рука Петьки отвалилась на траву. Глаза стеклянно стояли в щелях ресниц.
Маленький Комаренкин закричал и припустил в деревню.
Стояли подавленные.
Журавлев открыл глаза, но не шевельнулся, хватил открытым ртом воздух: маленькой дозой. Потом еще, еще… Воздух Журавлев только хватал, а выдыхать не мог, будто у него там внутри шарик заклепан.
А когда выдохнул, то сел, свесив голову между коленками, а руками придерживался за землю.
Ребята оживились, загалдели наперебой, услужливо выкрикивая:
– Нужны они!..
– Еще за них попадет…
– Никто нас не заставляет обучать, правда же, Петь?
– Мужики пусть!
– А у Воронка кровь во рту была и пена зеленая. Ты, Петь, больше на него не залазь. И так проживешь, как все. Правда же?
Журавлев хотел встать и не мог.
– Я что-то… – трудно выговорил он. На него смотрели, ждали.
– Не проходит?
Журавлев смачивал языком сухие губы. Боль проходила по его лицу, и на глазах собирались слезы.
– Отпустите коня-то, – сказал Петька.
И Димка сообразил, что у Петьки сейчас что-то не получилось. Самое главное не получилось. Он понял, что Журавлев обучал коня не из-за трудодней вовсе, а хотел доказать взрослым, что пацаны, которых ну замечают они у себя под ногами, смогли сделать то, что взрослым не под силу. Хотел видеть обескураженность мужиков и торжествовать.
А ребята не знают об этом, не прониклись его радостью и предают.
И понятна Димке эта Петькина отчаянность.
Что-то приходит к Димке и пугает его мгновенным холодом. Яростное торжество заворочалось в нем.
Ничего не пропало. Они не могут, а он, Димка, возьмет и сможет.
«У вас поджилки трясутся», – вспоминается ему насмешка Журавлева.
А он сможет! И Димка для себя уже все решил.
Когда подтягивались на веревке к Воронку, Димкин живот поднимался к груди, и все внутри было каким-то легким.
Стали снимать узду, и Димка неожиданно для себя сказал?
– Погоди… Я сяду.
Он стоял от коня вполшага. Руки независимо от него перебирали замусоленный ремень повода, осторожно тянулись к холке. Вздутые вены пульсировали на шее коня. Димка говорил шепотом, боясь отвлечься:
– Как за гриву поймаюсь, подсаживай. За ногу…
И Димка не помнит, что с ним было. Его подбивала спина Воронка, вертелась. Он падал лицом на гриву. Жесткая метелка гривы хлестала по щекам. Ноги уползали по крупу. Мгновенно он оказывался на шее и почему-то на своих руках, уцепившихся за гриву. Спина трепала его, как вихляющийся мешок. «Вот и все… И все… Это бывает так… Так, – мелькало в просветах сознания, – падают…»
Руки, нога его еще за что-то цеплялись… Ополоумевший конь заваливался набок и вдруг, осознав, что кроме возможности биться, он умеет бегать, вымахнул на простор.
Димку хлестнул тугой ветер. «Треплет, треплет, треплет. Когда же кончится?.. Когда же?..» Спина коня несла ровно. В безразличии к тому, что будет с ним, Димка расслабился и, не понимая, почему так податлив конь, стал натягивать повод. Бег коня все слабее и слабее. Он уже тяжело дышал. И вскоре пошел шагом. Димка повернул его и поторопил коленками.
Далеко, у кромки воды, маленькой грудкой стояли ребята. Они ждали. Димка подъехал к ним шагом, слез. Конь смиренно, по инерции, проследовал сзади.
У Димки взяли повод. Его окружили, ему кричали:
– Как ты? Мы думали, у тебя голова отвалится. А ты ничего, усидел.
– Крепкий!
А Димка знал, что он не крепкий. Он помнил то мгновенное чувство страха и обреченности, в котором пребывал в короткие минуты просветления. Он слушал восторженный говор и не отвечал на него: радовался тому первому порыву в себе, который толкнул его подумать, что он сможет. И сразу вспомнил, как нехорошо лежал Петька и как его перекручивало. Он посмотрел на него. Журавлев все так же сидел на земле, и Димке показалось, что ему еще и сейчас больно. Штанины у Журавлева были короткие, и над ботинками ноги исцарапаны сухими будыльями. «Он, наверно, на свою боль никому никогда не жалуется…»
Журавлев повернул голову над коленками и из-подо лба рассматривал Димку.
Димка догадался, что Журавлев все о нем знает.
…Так и запомнился этот вечер Димке. Белая пена на боках коня, Петька, ребята рядом с ним и счастливое чувство победы. Легкое и неповторимое. И всю жизнь ему мерить себя этой мерой, подниматься до Журавлева.
Над деревней стоял запах хлеба. У пекарни погрузили на тележку горячие булки и повезли в кладовую. Запах перемещался за тележкой.
Женщины ждали у предамбарника. Выдавали первый хлеб нового урожая.
Кладовщица разрезала буханки, и горячий пар забивал дыхание. От запаха кружилась голова.
Женщины прижимали горячие краюшки, шли домой, чувствуя тепло на груди. Их лица были озарены этим теплом и задумчивы. Шурка Юргин тоже получил хлеб. Только отошел от амбара – отломил корочку, а пышный мякиш отщипнул сестренке Нюсе.
Она была в длинном платье без пояса и босая. Пока ела хлеб – отставала от Шурки, а закончив, быстро догоняла брата.
– Ты больше так не гляди, – говорил Шурка. – Про другое думай. Смотри, сколько осталось.
А Журавлев шел домой и свою пайку даже не тронул. Гордый.
До самой темноты расписывались колхозницы в ведомости и несли домой хлеб. И из трубы пекарни, как только исчезал дым, ложился запах подожженного помела и хлеба.
А поздно вечером уборщица тетка Ульяна вызывала женщин в контору. Председатель, с потными волосами, прилипшими ко лбу, сидел за столом.
Иван Андроныч топтался в конторе, прокашливался, встревал в председательский разговор и уходил.
На колхозном дворе были запряжены подводы. Иван Андроныч обходил их, распутывал вожжи, перетягивал супонь, плохо завязанную женщинами.
Молодой Воронок заступил задней ногой за постромку. Это его беспокоило, и он бился в бричке, тревожа смирную кобылу. На колхозном дворе у амбаров было сумеречно, брички темны, кони сливались с темнотой, смутно мерцали их глаза.
Иван Андроныч все не мог подступиться к натянутой постромке: того и гляди, меринок задом вскинет.
– Дядь Вань, – услышал он чей-то голос, – вы его погладьте. Он привыкнет и ногу сам даст. Он понимает…
Не успел Иван Андроныч сообразить, как Петька Журавлев сел на коленки у задних ног Воронка.
– Ногу, Воронок! Ногу!
Конь чувствовал слабые рывки ладоней и тяжело стоял. Потом рывком согнул ногу, вырвал из рук, переставил, с тщетной попыткой высвободиться. Постромка была натянута высоко и еще больше сдавила колено.
– Ногу, ногу! Кому говорят? – требовал Петька и сдавливал Воронку щиколотку.
Воронок расслабил ногу, приподнял и на Петькину ладонь даже не опирался, ждал, когда веревку перенесут через копыто.
Освобожденный, Воронок опустил ногу, оперся на нее, подбирая удобную опору.
– Но, затоптался! – уже отчужденно обругал его Петька, забыв, что только что зависел от его норова.
– Ты давай-ка, – строго сказал Иван Андроныч, осторожно наблюдавший эту сцену, – Давай-ка остерегайся с ним. Прыткий какой.
Покашлял, полез за кисетом:
– Это хорошо, что ты коня не боишься. А береженого бог бережет. Бойкий, сам налетит. Не погнал сегодня?
Иван Андроныч давно узнал Журавлева.
– Запрягли почти всех.
– Ну, ты домой иди. Мать поторопи.
– Она знает.
– Пусть поспешит.
Иван Андроныч пошел в контору. В конторе женщины поодиночке подходили к столу, садились напротив председателя на скамейку. Остальные замолкали.
– Агафья Семеновна, собирайся на ночь. Хлеб сдавать везем. И тебе поехать придется.
– Дак куды мы денемся. Бабы – главные грузчики теперь…
– С кем ребятишек-то оставишь?
– Одни побудут. Уже привыкли.
– Тогда к двенадцати подходи. Мешки еще надо насыпать.
С другой колхозницей Нарымский иначе беседовал:
– А ты, Нюсь. Что так-то… в одной кофтенке? Потеплее оденься.
– Я, председатель, никогда не мерзну… Ты-то с нами поедешь? Нет?.. А на какой подводе?
Женщины все сразу начинают смеяться. Забытым светом оживают лица, будто смех их сквозь черствую корку пробился. И лицам их больно и страшно. Женщины своего смеха пугаются. А что смешного?
Но Журавлев догадывается о тайном смысле их смеха, и ему хочется его слушать и затаиться за печкой в темноте. У ног женщин Петьки не видно.
Когда все уходят из конторы, с председателем остается Иван Андроныч.
– Сколько подвод-то набралось? – спрашивает председатель.
– Пятнадцать.
– Тебе тоже с ними надо… С конями одни женщины не справятся. Последи.
– Поеду, – говорит Иван Андроныч. – Комбайн сегодня хорошо шел. Надо отправлять. Центнеров сто пятьдесят к утру сдадим. «Новый строй» уже пятьсот сдал. Вчера его обоз видел. Сводку-то в газете читал? Не погладят нас по головке. Завтра уполномоченные нагрянут. И спросят: первый бункер себе смололи…
Иван Андроныч соскакивает со скамейки, суетится вокруг стола.
– Рысковый ты! – восхищенно поднимается его голос. Он воодушевляется от безрассудства чужой силы, чувствует себя независимым и мужественным, И видно, что он умеет оценить чужую смелость и восхищаться ею.
Но в короткое время никнет, снедаемый сомнением, и старается показать деловитость:
– А все ж ты без опыту…
Видя безразличие председателя, переключает себя:
– Об чем говорить!.. Фронт, он не такому еще научит!
Нарымский при этих словах морщится, жалеет этого сильного пожилого человека и досадливо кривится. Молча надевает брезентовый плащ. И, зная, что Иван Андроныч тоже идет сзади, направляется к двери.
Что-то заставляет его обернуться и присмотреться к печке.
Он наклоняется и осторожно приседает. Тусклый свет лампы выхватил обшарпанный ботинок и толстый козырек кепки Петьки Журавлева.
Привалившись спиной к стенке, Петька крепко спит.
Погасшая папироска лежит на коленях.
Нарымский внимательно рассматривает его лицо, подбирает папироску, машинально трет и раздавливает ее между пальцами.
– Сынок, – зовет Нарымский.
Петька заваливается головой и председателя не слышит.
– Сынок, – повторяет Нарымский и осторожно поднимает Петькину голову на вялой шее. – Ну, просыпайся… Просыпайся…
Ивану Андронычу кажется, что Нарымский сейчас будет гладить Петькино лицо, оберегая большими ладонями.
Петька открывает глаза, мутные со сна, поводит ими и, проснувшись, недоверчиво подтягивает под себя ноги.
– Ну, мужик, выспался, – грубовато говорит Нарымский. – Я все хочу тебя похвалить и никак не встречу. Всех коней-то обучил?
– Шесть осталось.
– Теперь справимся… Ну, выручил ты нас, скажу я тебе…
Вдруг как-то растерянно увидел измятый жгут истертого табака в пальцах, медленно произнес:
– Целый обоз собрали… Только, – Нарымский застеснялся своих слов, – только ты не кури, а…
Петька поднялся, глубоко натянул кепку, руку не отпускал, чтобы его лица председатель не видел.
Он понял, что на этот раз из конторы его не выгонят, улыбнулся и заспешил к выходу. Закрылась дверь.
Со щемящей горечью смотрели ему вслед мужчины, словно мальчишка все еще был перед ними.
– На отца-то похоронку получили, – сказал Иван Андроныч. – Полтора месяца не прошло.
Журавлев этого не слышал. Он чему-то радовался; он не умел еще жить горем взрослых.









