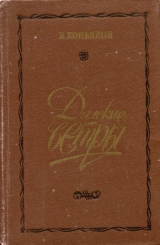
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Я молча скинула боты, сняла мокрые чулки, осталась босиком. Подошла к окну, повернулась и сказала Юрке тихо и обреченно:
– Я не поеду. Я остаюсь здесь, а ты уезжай… Один. Так нужно. Так лучше.
У Юрки изменилось лицо, собралось, будто дул на него сильный ветер. Он сдержался и твердо сказал:
– Не дури.
– Ты ничего не знаешь… Я остаюсь здесь. Мне это надо… Уже решено… Я не знаю, зачем это я говорю тебе… Но я не могу больше быть с тобой, понимаешь, Юрка. И от жизни здесь мне труднее отказаться, чем тебе. Ты должен знать это… Я хочу быть честной с тобой… И больше не могу… Пока уйду жить к тете Шуре.
– Не дури… – сказал Юрка, зачем-то зажимая рукой щеку и медленно выходя из себя.
Сел на кровать, долго молчал, рассматривая стенку. Нехорошо засмеялся и вышел на улицу.
Я увидела в окно, как он поскользнулся на дорожке в своих ЧТЗ, и расплакалась.
24 апреля.
В лице Юрки появилось что-то антрацитово-черное. Сгустились на щеках тени. Он будто еще вырос, и все у него стало выпирать: подбородок, локти, плечи. Исчезла спортивно-мальчишеская округлость, и стали спокойно-отчужденными глаза. Мы разговариваем с ним, но разговор у нас какой-то необязательный. Отжато из наших слов все, чем жили мы до этого, что было дорого нам обоим.
Вечером он пришел решительный, стал выдвигать чемоданы, беспечно насвистывая, будто меня не было в комнате.
Я видела всю его деланность и ничего не могла сказать ему, ни слова утешения. Все во мне пусто, нестерпимо легко, а слова были неповоротливы и тяжелы.
Юрка перестал суетиться, остановился передо мной, спросил с небрежением:
– Ты хорошо подумала? Со мной такими вещами не шутят.
– Я не шучу, Юрка.
– Не шутишь?
Мне казалось, позови он сейчас, чуть смягчись, я прижалась бы к нему головой, чувствуя привычные руки на плечах, полная покоя и жалости.
– Я уйду сегодня.
– Можешь остаться. – У Юрки каменеет подбородок. – Я завтра уезжаю. А ты оставайся. Будешь принимать. Или с некоторыми товарищами ночами за сеном ездить. На сене экзотичнее…
Ох, я не могла ничего сказать. Так, наверное, задыхаются. От безоружности, от бессилия.
– Адрес свой тебе оставить? Я не бегу… В любом случае на алименты можешь рассчитывать.
Я качала головой. Знала, что глаза у меня открыты, но я ничего не видела.
– Значит, не надо? Сжигаешь все мосты? Смотри! Будешь звать, обратно я не поплыву.
– И ты мой муж…
Я как-то вся замерзла.
28 апреля.
Весенний ветер влажен. За окном длинные нити березы тяжело раскачиваются, нехотя отдаваясь ветру. На темных почках собираются капли. Ветер сбивает их, и они глухо бьют по стеклу. На подоконник натекла лужа.
Я лежу на кровати, накинув на ноги шубу, не шевелюсь, равнодушно отмечаю, как неуютен весенний вечер, как сгущается темнота. Я не поднимаюсь и не включаю свет.
Юрки уже нет.
Какое тихое бывает одиночество и отчаянье! Я не плачу, только чувствую свои соленые губы.
За окном сибирская деревня. Андреева, а не моя. Она сложнее и значительнее моей. От сопричастности к ней что-то уже полнится во мне сильным и отчаянным упрямством.
XI
Сначала они шли втроем: Прокудин с трактористом Ерохиным и Пронек Кузеванов.
Прокудин с Ерохиным перебирали мотор в мастерских, а Пронек взвешивал выбракованных коров на ферме. Поравнялись на развилке дорог за огородами. И уже в деревне встретили Павлю.
– Ты даже не знаешь, куда мы идем? – шалопаисто уставились на нее. – К Уфимцевым. Картину смотреть. Андрей Пронька там изобразил. Ну! Пошли, нечего маяться. Поди, тоже еще не видела? А то он ее скоро увезет.
Меня не было в избе, когда они вошли. Я сколачивал под крышей на верстаке футляр из фанеры, чтобы упаковать свою картину: мне не хотелось снимать ее с подрамника и сворачивать в рулон.
Рамку для картины я закажу в багетных мастерских художественного фонда.
Я успевал к выставкому. Если картина получит одобрение – попадет на республиканскую выставку.
Эта последняя моя работа не отпускала меня, преследовала, как неотвязная обременительная радость.
У меня был диплом, сотни этюдов, портреты заводских парней, экспонированных на всесоюзной выставке. Но все это, казалось мне теперь, было подступами, постановкой художественной воли. К этой я проламывался в полную силу. В других работах я что-то искал, в этой на художнике в себе настаиваю.
Я впервые легко написал картину. Родилась она быстро, и мне нужно было от нее опомниться. Я представлял выставочную комиссию и спешил в город, к друзьям.
Я складывал на верстаке ящичек с гвоздями, ножовку, молоток. Мать еще не пришла с работы, и я не торопился в избу. Думал, что картину придется отправлять багажом, а из-за размеров железнодорожная почта заартачится. При перегрузках фанеру могут проломить, холст порвать (я видел, как разгружаются на товарных станциях посылки), хорошо бы напроситься в почтовый вагон сопровождать картину.
Был вечер. Задумавшись, я прошел через сенцы. В другой половине избы за раскрытой дверью разговаривали. Мой приход не заметили. Не приближаясь к двери, издали я увидел мужиков. Прокудин сидел на табуретке возле незакрытого этюдника, Ерохин с Кузевановым на кровати, за ними, прижавшись спиной к повешенным на стенку пальто, – Павля.
При мягком, падающем из окон свете лица мужчин были холодны. Я не знал, как освещалась при этих сумерках картина, я видел только людей.
– С чего ты взял, что ты такой? – не поворачивая лица, говорил Прокудин. – Смотрю и соображаю… Сколько лет жил рядом с тобой и думал, что ты дурак дураком. Ну-ка, глянь на меня, – обратился он к Проньку и кивнул на картину. – Ведь не он на тебя, а ты на него похож. Здесь что вышло… Андрей вроде снял с тебя всю дурь. Не обижайся… Я ведь так. Насмотрюсь и после этого еще больше тебя зауважаю. Надо же… Он – как? На тебя смотрел и рисовал? Ты шевелился или как?
– Свободно, – сказал Пронек. – Разговаривали. Только он замолкал когда. Вроде отключался.
– Глаза у тебя! Как свет сквозь воду. Ты хоть смотрел когда на себя в зеркало? А Дмитрий Алексеевич… Ну дед! «Ах, едят вас мухи». «Драгоценные мои люди!» И зуб в точности. Ишь, ашширяется. Выпить приглашает… Хоть раз бы взглянуть, как у Андрея это получается… Я свинью с ним колол, разговаривал… А он ничего про себя не рассказал…
Замолчали.
Пропахшие бензином мужики сидели без циничных подначек, без ерничанья. Рядом с ними девочка замерла, остановилась на полувздохе и не проронила ни слова. Не встревал с разговорами шалопаистый Кузеванов. Все были сегодня моими гостями.
Сколько раз я напрашивался к Прокудину на комбайн, и он, подавая руку, поднимал меня, еще студента, на сиденье и, облепленный осотовым пухом, протягивал очки. «Все учишься?» – спрашивал, наклоняясь. И не догадывался, что́ я видел оттуда.
Я помню его ночью на гусеничном тракторе в сполохах огня, гудящего в ведре. От трактора шибало железным морозом – лицо каменело, – сорокаградусный мороз у деревянных стен был терпимей. А он готовил трактор, жег солярку. Мы, собравшись ехать за дровами, ждали, когда трактор заведется. Прокудин не искал сочувствия, не чертыхался, не снисходил до просьбы помочь. В своем деле он был над нами. Любая работа в колхозе для него – непреложность. В деревне Прокудин был надежен.
Ерохин, многосемейный флегматик, равнодушный ко всему на свете, кроме своего трактора, с глубокой отрешенностью сидел перед незнакомым видением и не слушал, что буробит Прокудин. Эти мужики вызывали во мне доверие. Они не знали, что такое поза.
Мне не нужны уже были отзывы о моей картине. Я видел лица людей перед нею, и мне хватало их молчания в сумеречной комнате.
– Тебе не жалко ее отдавать? – спросили у Пронька. – Здесь же ты. Это как-то неправильно… Вроде ты себя отдавал, отдавал… Получился… А тебя без спроса увезут. Неправильно… – повторил, не соглашаясь, Прокудин. Наклонился к этюднику, взял тюбик краски. Он показался ему тяжелым. Повзвешивал его на ладони, стал откручивать колпачок. Повернулся к Павле.
– Э-э… ты вроде испуганная, Давай губы намажу. Сразу кому-нибудь понравишься, Я знаю, с кем ты провожалась…
Павля тяжело посмотрела на него, и Прокудин отстал. Громко удивился:
– А что это Андрея нет? И дом нараспашку. Наверно, сегодня кочегарит?
– Мужики, об отсутствующих не говорят.
Я шагнул к ним.
– Мы тут расположились. Без спросу.
– Андрей, ты колхозник и колхозник. За дровами ездишь, сено возишь. Кочегаром заделался… Что-то тут не то! Что-то непонятно. Ты притворяешься, выходит? Теперь у нас разговор есть…
– Сначала разденемся, – сказал я. – А если мы чуть мать подождем? У меня кой-какие запасы есть.
– Подождем. Вот что скажи… – Вся инициатива была у Прокудина. Пронек держался отчужденно. Мне казалось, что он старше других.
– Так что сказать? – готовый к ответу, спросил я.
И присел на подоконник.
XII
Шоферы еще не пришли, когда я сдал дежурство Дмитрию Алексеевичу. Было раннее утро. Свежее колебание воздуха над землей холодило лицо. С тяжелых от работы рук сходила усталость. Я отдавался весне и впервые никуда не спешил.
Навстречу мне в тени плотной ограды шла Катя Холшевникова. Чтобы не ступать в грязь, она перехватывалась руками за колья, осторожно выбирая протоптанные следы на бровке. Разойтись было невозможно, и, уступая дорогу, я сполз ботинками в грязь.
Катя остановилась в неожиданном замешательстве, не готовая что-либо сказать. На ее лице под нахлобученным платком лежала милая нежная измученность.
Затянувшееся молчание пугало.
– Ты картину свою уже закончил?
– Да. Я ее отправляю.
– Отправляешь? А я хотела Колю Портнягина к тебе прислать. Посмотреть. Он успеет?
Мы оба понимали, что совсем, совсем не о том сейчас говорим. Но чтобы я не думал так, с неумолимой недоступностью потребовала:
– Ну, я пойду?
Она пересекла переулок, постояла у дощатой веранды школы, неторопливо выдавливая каблуками сапожек узоры в оттаявшей земле, и, будто опомнившись, взбежала по высоким ступенькам.
1968
ДАЛЕКИЕ ВЕТРЫ
I
Старик медленно шел вдоль плетня. Он всегда ждал прихода весны, любил мягкие сумеречные дни без теней и солнца. Ступал он валенками по снежной хляби безразлично и отрешенно.
От снега и прогретой земли поднималась теплая сырость. Внизу под косогором в отяжелевших кустах черемушника четок каждый штришок мокрых веток – так прозрачен воздух.
Старик отвел исходящую паром доску ворот и подумал, что руки его совсем высохли, а еще чуют прохладу. Он неловко вытянул из дверной дужки проволочную закладку.
В избе неуютно и холодно. Потоптавшись, он разделся, повесил полушубок. Шапку оставил на скамейке у печи и забыл.
Старик не вспомнил, что с утра ничего не ел. Ему не хотелось двигаться, думать.
Он безвольно посидел и полез на печку.
После валенок ноги показались легкими. Он закинул их, лег. Увидев себя, неподвижно вытянутого, забеспокоился и беспощадно осознал, что скоро его не будет. Подумал, что не будет именно рук, и стал прислушиваться к ним, ждать ощущения, что их уже нет! И пришел к нему холодный покой. Таким он еще себя не знал, был всегда полон силы, крепок здоровьем и в семьдесят девять лет не думал о смерти.
Он тронул руку, она шевельнулась – старик обрадовался, как проснулся.
И вдруг он вспомнил крыльцо, вереницу людей на дороге, закрыл глаза, чувствуя, что веки его шершавы, горячи и давно не знают желанных слез.
Еще в избе до обеда он услышал первые звуки музыки, не понял их, встревожился. Когда догадался, что это несут Мысина, заспешил. Он слышал, что хоронить Матвея приехали его сыновья из города, дочери, музыку наняли. День был жаркий, сырой. С крыльца старик смотрел на людей – они проходили молча, скользя и размешивая снег.
Старик понимал, что это хоронят его последнего дружка, но не мог думать о Матвее как о неживом. Он говорил ему тихо и доверительно:
– Ну… пошел, Матвей? Значит, пошел?
А мимо шагали, не разбирая дороги, чужие люди, духачи в ботиночках, пальто, с желтыми блестящими трубами на груди, как в хомутах. Духачей привезли из районного клуба.
У ворот один выдернул из трубы мундштук, слил тягучую струйку, вставил и, колыхнув развернутым зевом, заторопился. Загудела музыка. Была она в этот день чужой, безжалостной, тяжело опускалась на мокрые деревья под горой.
Музыканты тыкались в снег размягшими, как сыромятными, ботинками. Ноги их были по колено мокры. Старик спустился с крыльца и пошел сзади на кладбище за огороды.
Его никто не замечал, от этого было легче. Никто не навязывался, не лез с разговорами. Хотелось понимать все одному и никому не мешать.
У могилы на желтых буграх глины толпились люди, а он стоял в стороне у приготовленной и еще не собранной оградки из штакетника…
Всего неделю назад ходил он проведать Матвея. Получил пенсию, купил бутылку белой – может, полегчало ему, выпьем.
В светлой горнице Мысиных никого не было – бабка по хозяйству ушла.
Старик сел на табуретку рядом с Матвеем, вглядываясь в его лицо, спросил:
– Какая она у тебя, болезнь-то?
– Дышать тяжело стало. А терпеть можно, не так больно. Вот живот напух, закаменел, трогать нельзя.
Матвей осторожно касался ладонью рубахи поверх живота, морщась, прислушивался к боли.
– Ни с того ни с сего заболел. Выпил неладно. Зашел к соседке, она подала кружку пива, а оно старое, должно было, застоялось. Пришел, лег на печь, живот и стало разносить. Теперь затвердел… Врачи говорят – печень. Не положили в больницу. Да я и сам рад, что не в больницу. Старуха молоком отводится. Поправлюсь.
– Я выпить принес. Беленькой. Может, сможешь?
– Нет… Не могу. Не ем ничего. Полмесяца скоро…
Отказался. Никогда до этого не отказывался.
– Да… Вот и не знаешь, с чего навалится. Ноги не держат, – тихо говорил Матвей в потолок, удивленно качая головой. – На улице-то сейчас как?..
На улице тепло. Грели свежераспиленные рейки оградки, качался выстроганный крест – его держали у края могилы. Закричали, изнемогая, женщины, когда стали опускать на рушниках гроб. Старик поднялся на глиняный бугор и увидел, как внизу двое мужчин высвобождали рушники и, упираясь спинами в стену ямы, забивали в крышку гвозди.
Там лежал Матвей, к которому старик ходил говорить, выпивать, сидеть долго, которому был нужен. Старик все смотрел и смотрел в холодный сумрак, на зачищенный и еще не засыпанный угол ямы, наклонился к кому-то из мужиков и спросил тихо, будто у себя:
– А что… Если ему бутылку водки туда поставить… В голова… Нераспечатанную… И посмотреть когда-нибудь… Отопьет он ее, нет?
Мужик стал заглядывать ему в лицо, округляя глаза.
Тогда старик пошел домой. Люди еще оставались на кладбище, разбредались по сырому, не сдерживающему снегу к крестам и оградкам, а старику уже нечего было там делать. Когда вспомнил, что отсюда ему теперь со своим горем не к кому идти и поговорить, заплакал…
На печку не попадал свет из окон – он высвечивал пол и упирался в крашеную облицовку, но на печи оставался желанный уют. Печное тепло и с утра, и ночью никогда не обжигало, а проникало через подостланное пальто, медленно доставая до самой далекой точки усталости и недомогания, мягко ласкало и утешало. А что отогревать? Высосана из него жизнь, утянуло тело, выпирают только твердые узлы суставов.
Сухи глаза – смазки не хватает, – думает он. Ушло и ничего не будет впереди. Похоронили Матвея. Теперь пойдет только он, больше некому.
Старик некрасив. Густые волосы его путанны, рыхлы. То ли седы они, то ли выцвели. Лицо темное, бескровное, и жив на лице только нос, напряженно налитый багровостью. Он велик для этого лица, бесформен, как березовый наплыв.
– Деда дома. – Пришли внуки – Ленька и Мишка. Ленька в зимнем пальто с короткими рукавами, из которых выглядывают тонкие руки в мокрых шерстяных варежках. Варежки отяжелели, спустились на кисти. Обнажившиеся запястья рук – обветренны.
Мишка в телогрейке с подвернутыми рукавами, подпоясанной солдатским ремнем.
Леньке десять лет, Мишке восемь. Они не похожи друг на друга. У Леньки мягкие белые волосы, как осотовый пух, синие глаза с созерцательной задумчивостью. У Мишки темные волосы, темные глаза.
Раздеваться они не умеют. Они вылезают из своей одежды, как с лесины кору счищают, остаются в ситцевых рубашках.
Внуки бросают у порога кирзовые сапоги, шерстяные носки, портянки, мокрые, как невыжатая половая тряпка. Голые ноги их сразу замерзают.
Чтобы согреть их, они пробегают к столу, становятся коленками на табуретки и отдают ноги воздуху. Солнечный свет из окна находит их и тихо ласкает через стекло.
Мальчишки смотрят на огород, на неподвижную воду, подступившую к самой стене избы. Они каждый год ждут этого весеннего дня. Сегодня тяжелый, набрякший водой снег, еще белый в низине перед окном, стал набухать. В самой середине лога проглянуло темное окно воды. Оно стало полниться, захватывая снег, и вот уж, меняя формы, ушло далеко, подступило к тыну, касаясь неровных кольев. Зовет неподвижная вода, подойти к ее краешку, заглянуть, увидеть, как в темном зеркале, свое плотное колыхающееся отражение на фоне бесконечного неба и далеких облаков. Но не подойдешь, не всколыхнешь рукой ледяную гладь. Ступишь на снег, ухнешь обеими ногами, и начнет с сапогов заполнять тебя вода – не вылезешь.
Вот уж вода просочилась через тын и все ближе, ближе к согре. Скоро начнет стекать. Ждут этой минуты мальчишки с первых теплых лучей. Но еще держит воду наезженный гребень дороги. А лог полон, перенасыщен силой, ушел далеко к чужим огородам. Стоит перед глазами, пугая и знобя.
Но пробил, дорогу ручеек, и потянулись по воде прошлогодние стебли травы. Теперь только лопатой помочь, пробить корку дороги, и зашумит неудержимый поток. На пути своем он смоет снег до травы, до глины. У самого склона низвергнется глубоко под снег, а внизу вырвется снова, играя слепящими бликами, разливаясь по кочкам, по красноталу.
Куда исчезает вода? Вымытый прогал широк. Можно спуститься под козырек снега на обледенелую ступеньку и держаться за скользкий выступ. Если упасть в исчезающую глубину, будет сначала крик, мелькнут сапоги и все уйдет под снег в неизвестность, как дощечка, как палка, брошенная только что Ленькой. И ничто там, в согре, из-под снега не появится, как не появилось ни разу, сколько ни бросай.
От холодной пыли мокры лицо и одежда. Вылезли братья из прогала, когда у них замерзли ноги.
А теперь сидят Мишка и Ленька на табуретках, облокотившись на стол, смотрят, как уже убыла вода, оставив травяную бахрому на тыне.
Скучно на огороде. Жалко, что уходит большая вода.
– Если бы ручей долго бежал, – говорит Мишка, – он бы стал речкой. Галька бы появилась. Правда? Я уже видел несколько штук… И песок…
Ленька ничего не отвечает. Глаза его живут другим, наполненным синевой отражением рам, солнцем.
Мишке скучно молчать, больно коленкам, и он соскакивает на пол, попадает в яркий сноп света, пылинками обозначенный в воздухе. На свету, изменившись, не узнавая себя, крутит перед глазами растопыренными пальцами.
– Свет течет. Гляди…
– Свет не течет, – говорит Ленька, – а светит.
– Да уж… – не соглашается Мишка. – А в кино? Посмотри назад… В темноте… Из окошечка течет…
Ленька смотрит на него, соображает. Леньке холодно. Воздух в комнате стыл – Ленька чувствует его ногами. Ему хочется есть.
– Деда, – зовет Ленька. Осекается, смотрит в лицо деда – оно сегодня кажется Леньке непривычным. – А что обедать?
Дед не шевелится.
– Ну, деда!
– А то мы в школу опоздаем, – с угрозой сообщает Мишка.
– Открой печку, посмотри… Мать что-нибудь оставила.
Ленька знает, что это относится к нему, открывает заслонку, всматривается в печь, подхватывает цаплей край сковороды, закрытой чашкой, и тянет волоком по поду вместе с золой.
– Деда, на стол поставь, а то она горячая.
– А тебе сколько лет?
– Десять.
– Де-е-сять, – обидно повторяет дед. – А ложкой рот не найдешь. Сопли. В шко-о-лу опоздаем… Опоздай… Вот мать придет, она вам покажет чижа паленого.
Мальчишки едят, выбирая из картошки кусочки зажаренного сала. Без хлеба остекленевшее сало невкусно, и они откусывают сморщенные хвостики «любимки», а сало бросают на стол. В последние минуты, начав спешить, набивают портфели затертыми книжками, уходят в школу.
Старик не поймет, почему стало неуютно. Догадался – ушли внуки. Вот только что Мишка мельтешил на полу, как бабочка на солнце, что-то доказывал Леньке.
«Свет течет», – вспоминает старик и улыбается.
Ему кажется, что весна снова коснулась его. Он вспоминает, что грубо разговаривал с внуками, обидел их – они молча снесли грубость и ушли из избы теплые и солнечные.
Давно он не был ласковым. Нет у него добрых слов. И сыну Семену ничего хорошего не может найти, чтобы сказать. Так – молчание и ничего не значащие слова. Семен мотается со своей «летучкой» с утра до вечера из деревни в район, в «Сельхозснаб» за цепями к комбайну да за шестеренками. Весь день без обеда. Придет, машину заглушит у двери, гремит рукомойником в углу, а руки так и не отмоет: на стол их положит – черные, как из чугуна.
Старик стал вспоминать, как сын ест один, жена на работе, ребятишки бегают. Семен ест сосредоточенно и зло, желваки ходят на скулах, а он смотрит в одну точку, живет еще разговорами, что оставил на работе.
«Один он у меня остался, а было четыре. Дочери не в счет. Дочери всегда уходят».
Ему стало жалко Семена и жалко себя.
«И я у него один, а скоро и меня не будет», – думает старик.
Ему опять представилось, как сыновья Матвея сдерживались, чтобы не плакать.
«Придет сейчас, – думает старик, – медовухой угощу. Достану, зачерпну корец… Давно с ним вместе не выпивали. Медовуха уже подошла – два дня назад пробовал, подмолаживал, четыре килограмма меда докладывал».
Старик обрадовался, что пришла такая хорошая мысль, и ему сейчас же захотелось попробовать медовухи, вспомнить ее вкус, уточнить, чем будет угощать Семена, и он слез с печки.
Кровать его в маленькой полутемной комнате. Там же фляга с медовухой, его медовухой, которую готовит для себя из своего меда. У него семь колодочек пчел. Летом был хороший медосбор, куда мед девать? Всю зиму старик варит медовуху. А сыну не нравится… Даже от меда отказался и детям не разрешает брать. «Почему обиделся? Я же мед не прячу… Но и у меня что-то свое должно быть, чем-то самому распорядиться. Это же моя работа, мной сделана. Разве на нее у меня прав нет? А почему на пенсию не выпить, не купить пол-литра? Пенсия тоже моя, хотя и небольшая».
Старик садится на кровать у фляги, оттягивает защелку замка, она пружинисто прядает, и сквозь влажный холщовый положок, закрывающий флягу, с шипеньем пробивается газ. В открытой горловине зашевелилась, исходя прохладными брызгами, медовуха. Старик зачерпнул. Янтарный настой закипел в ковше. И кипение, и знобкую его дрожь чувствует рука. Дрожит ковш, ходит и дрожит фляга. Вскоре успокаиваются. Старик пьет и не ждет, не хочет конца ковшу, так освежающе желанен бродящий напиток. Вскоре старик начинает любить жизнь, Семена, внуков. Умиротворенный, он сидит и стойко ждет сына. Семена все нет. Старик зачерпывает медовуху еще, потом еще… Он уже не замечает, что пришла сноха.
Сноха машинально скидывает телогрейку, еще ничего не видя. Энергично умывается, вытирая руки, останавливается и начинает видеть первостепенные дела и детали дома.
Сноха подхватывает с пола разбросанную одежду. Чувствуя липкий холод портянок, она тихо ужасается. Заглядывает в комнату старика, взывает к нему:
– Папаш, они что, сапоги в школу на голые ноги надели?
Она представляет, как сидят в школе ее ребятишки, поставив сапоги на подножку парты, а ноги их полнятся ознобом в размягшей слизи сапог (через верх зачерпывали).
Она будто сама на мгновение перехватывает этот озноб и уже требовательнее спрашивает у старика:
– Ты ничего сухого не дал на ноги навернуть?
Старик поднимает голову. По лицу его и расслабленной позе сноха догадывается, что старик пьян, и не выдерживает его молчания. Не дождавшись ответа, оглядывает стол, видит почти не тронутую сковородку с картошкой.
– Они хоть ели что-нибудь?
Открывает на лавке крынки с молоком и, убедившись, что они не тронуты, от досады на усталость, одинокость в этой неотопленной избе, на равнодушие свекра, не садясь, не заглядывая в печь, оставленную детьми незакрытой (там все давно выстыло и погасли угли), лицом к стене она начинает медленно плакать. Все сильнее и сильнее раздражает ее старик, обстиранный, ухоженный, а все недовольный чем-то, все что-то свое отстаивающий. Свою пенсию, свой мед. «Почему свой мед? Разве у нас не все вместе? Почему старику хочется самому этим медом распоряжаться, самому продать на водку, самому медовуху сварить, будто мы ему из своих денег не покупаем, что надо. А он даже за внуками не присмотрит. И что, я им всем четверым нанята? Что я, сама не работаю?»
Тоска наваливается на нее.
«В колхозе двадцать коров обхаживаю, да здесь четырех мужиков. Будто только для этого и родилась, только это и ждала в жизни. Да провались оно все…»
Ей не хочется затапливать печку. А через два часа – на вечернюю дойку.
«Семен придет, пусть все решает. Не могу я так… Если его отцу не нравится у нас, пусть идет к дочери, там поживет, а то обходит, как свою прислугу. Себя за человека считает, а… Ведра угля не принес. Опять напился… Пусть Семен сам с ним говорит… а я больше терпеть не буду».
Она уходит в свою комнату, ложится на диван, головой на твердый валик, поджав под себя плотные и аккуратные ноги. И спина, и вся фигура ее выражают обиду…
Семен заглушил машину у крыльца. Выхлоп газа испугал крутившуюся около собаку, она спряталась под сени и глядела оттуда с нетерпеливым ожиданием.
У Семена сегодня удачный день. В «Сельхозснабе» механика с «Зари» обошел. Кладовщица Маруся три полотна для комбайнов ему отпустила, а тому не досталось. Правда, Семен не мог догадаться, почему она отпустила именно ему, то есть он никакой инициативы сам не предпринимал, а Маруся, тайком, сказала: «Вон на тех стеллажах отложи себе, пока стоишь. Такой длины полотен только три. Да не показывай виду, а то догадаются».
Сычев с «Зари» выписанной накладной перед лицом Маруси махал.
– Убери руку, – строжилась Маруська. – Расходился, как перед женой. Подписи мне твои, знаешь… А я и не отказываюсь тебе выдавать. Получай вот эти… Дома метр приклепаешь… А то и таких не будет… Губами прошлепаешь…
Маруська смеялась в лицо механику. Сычев отошел, когда она ему по накладной все остальное полностью отпустила.
Только по дороге Семен вспомнил, что он когда-то довез кладовщицу до колхозной птицефермы, она там у птичниц корзину яиц купила.
В «летучке» Семен собрал раскатившиеся запасные части, достал из-под полотен и выбросил на землю плиту, новую почти, на хуторе нашел, из мусора вытаяла. Летом в ограде печку складет. В магазине такой плиты не купишь…
Старик слышал, как остановилась машина, встал с кровати и пошел к выходу, но вернулся, зачерпнул медовухи и поставил ковш на флягу.
Клава шевельнулась на диване, но, о чем-то подумав, не стала вставать.
Так ее Семен и увидел. Он сразу заметил ее обиженную спину и, догадываясь о причине, мельком глянул в комнату отца. «Неймется ему, – подумал неприязненно. – Живет на всем готовом, ест наш хлеб, молоко, что получили на трудодни, Клавины огурцы, а сам ничего не сделает по хозяйству, ничего не признает, а Ивановы, старшего брата, офицерские брюки, что тот прислал в посылке, ценит, за добро считает. Хотя бы брюки новые, а то штопаные-перештопаные… И гимнастерка такая же… «Иван прислал…» А я для тебя ничего не делаю. Мы все новое тебе покупаем… И телогрейку, и кальсоны, да и… Что же мое ничего не замечаешь… Твоей пенсии – на конфеты не хватит. Что же ты ни разу не сообразил предложить ее в общую семью? Хоть бы раз ребятишек с нее угостил. На пол-литра тратишь».
Семен чувствует запах хмеля. Старается обойти отцову комнату, тянет, чтобы не начинать разговора о том, что, хотя это и его дело – мед, к нему он не касается, куда дед хочет, туда пусть его и изводит, а пить – не в коня овес…
Семен не ел с утра. Нужно еще запчасти на склад сдать, машину в гараж поставить…
– Я что, сегодня святым духом сыт буду? – говорит он жене в спину.
Клава не шевелится, не отвечает – она налита обидой.
– Я вам тоже не заводная. Иди вон на отца своего полюбуйся.
Старик босиком, в измятых пимами штанах, несет к столу кастрюлю очистившейся от пены медовухи. Он поглощен делом, предчувствием налитых стаканов, встречей. В его сухих, подавшихся вперед плечах и наметившейся улыбке что-то детское, неиздерганное.
– Сень, – сказал он, найдя глазами сына, – давай перед едой попробуем, как она дошла.
Семен повернулся к столу. Губы его непривычно сжаты.
– Я смотрю, папаш, у тебя это никогда не закончится. Хоть говори, хоть не говори. Ты только о себе думаешь. Лишь бы самому хорошо было… Ты и мать так в могилу свел…
Старик, казалось, его не слушал. Сидел неподвижный, нахохлившийся, как птица, был равнодушен. Все стало ненужно ему: ни он сам, ни этот пасмурный день, ни кастрюля на столе. Расстегнутый воротник рубашки обнажил его тощую грудь. Когда слова сына стали доходить до его сознания, он сразу потерял интерес, которым только что жил, обмяк.
Но Семен говорил, и в старике поднималось напряжение, накалялся, оживал взгляд. И сын увидел знакомую усмешку – она всегда выбивала из равновесия. И именно эта улыбка подготовила Семена к безжалостному разговору.
– Нам от тебя ничего не надо. Только живи спокойно, разлад в семью не вноси, жить не мешай.
Отец смотрел прищурясь.
– Эх, – сказал он, – лапша!.. На что ты годен, если тебя на отца могут науськать.
С сожалением поднялся, ничего не тронув на столе.
– Друг от дружки заводитесь… – Старик поднялся на печь.
– С отцом бы я выпил, – сказал сын, оправдываясь.
Старик не возразил, и Семена стало заносить.
– А какой ты отец? Если мать тебя простила – мы не простим… Думаешь, это так все проходит? Бесследно? Уходил к другим, а на печку домой…
Клава слушала их перебранку, казнилась и плотнее прижималась головой к валику дивана.
Старик положил руку на грудь, закрыл глаза.
Семен обрадовался, что наконец-то нашел оправдание своей обиде. Знает вину отца перед матерью, которой тот принес столько обид и слез, перед ним, перед женой.
– О семье вспомнил, когда на печку залезть приспичило. В общем, ты давай не наводи здесь свой порядок.
Старик уставился в потолок. Семен посмотрел на корец с брагой, вспомнил деда Матвея, что приходил к отцу посидеть, пригласить к себе, к своей бабке, вспомнил его похороны. Появилась жалость к отцу. Она не нужна Семену, мешает жить. Он не умеет глушить ее. Поднявшись, Семен выпил брагу, забываясь от ее насыщенной крепости, и вышел.









