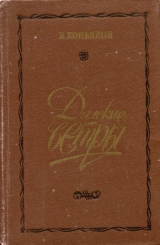
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– Она сама задачки неправильно решает… – напряженно доложил Ленька.
– Что? Что?
– Всегда по-длинному учит. Во всех задачках. Вопросы… ответы… А можно сразу – ответ. Остальное и так все понятно, в уме.
– Ты будешь делать так, как положено.
– И не буду…
– Как? – Семен опешил. – Ты что? Выпрягся? А? Я тормоза ослабил?
– Не буду по ее…
– А по-моему? – Семен опять приблизил свое лицо к Леньке.
– Не буду, и все.
Семен осторожно взял пальцами доверчивое Ленькино ухо. Сильно потянул его книзу, больно потрепал.
– Может, с этого начнем? – спросил Семен. – Чтобы твой ум встряхнуть.
Ухо у Леньки загорелось, как красный фонарь.
– Все равно не буду.
– Что не буду-то? – Семен растерялся. Он не знал, что требовал, но видел, что сын пренебрег его силой. Он опять поймал погрузневшее ухо и, уже сильнее, болтая голову, потрепал ее. – А сейчас?
У Леньки кумачовым стало лицо. Но он затвердил:
– Не буду…
У Семена все зашевелилось в душе.
– А… – он хотел сказать: «сейчас» и стал выкручивать ухо, но оно, как засаленная гуттаперча, вырывалось из пальцев. Оно для Семеновой руки было мало.
Старик искал босой ногой приступку печи и не мог найти. Его мятые штаны дрожали. На пол он опустился неслышно. С угловатой проворностью старик поймал Семенову руку, оттянул вниз. Семен не ожидал, поэтому рука его была слаба. Вдруг старик уцепился Семену за ухо – не удержал, а только больно оцарапал.
– Ты что, сдурел? – опомнился Семен. Старик прижал спиной Леньку к столу. Тогда Ленька заплакал.
– Сломать хочешь? – Старик был темен. Он не ниже Семена. Но все в нем провисло: рубашка, пояс штанов. – А?.. Кого ломаешь? Зачем? – Старик отпихнул Семена до самой стены.
– Ты что? Ожил, что ли? – трогая оцарапанное ухо, Семен удивился и рассмеялся. – Распетушился.
Клава стояла в оцепенении.
Ленька смотрел в стол. Из его полуприкрытых глаз текли слезы. Щеки мокры. Плач его был горек, без жалобы. Клава развернула Леньку за плечи и, подталкивая животом, увела в комнату. Оттуда быстро прошла к лавке с кринками, независимо возмутилась:
– Завоспитывался… Ум просто наружу лезет…
– Ты бы помолчала… Вас всех… пора на место поставить.
– За год ни разу в дневник не заглянул. Вот и довольствуйся… Ползарплаты в школу отнесешь.
– Ну, это мы еще посмотрим.
Он снова заглянул к детям.
– Так ты понял? С тобой я еще не разобрался.
Клава, оставив кринки, вернулась к детям.
– Заступаться, что ли? – насмешливо спросил Семен. – Как тигрица…
Семен уступчиво стал ждать улыбку Клавы.
В старике как-то все сразу погасло, и он полез на печку. И уже не слышал разговора Семена с Клавой, не заметил, как они, после незлобивых препирательств, ушли. Было еще девять часов.
XXI
О чем передумал старик за этот день? О избах, потрескавшихся, хранящих каждым обветренным пазом его прикосновение; о людях, приехавших с ним на эти земли, полных жизни, не знающих предчувствий небытия, веселых и красивых. Они грустили, улыбались и сеяли хлеб. Сколько пашен, сколько осеней, сколько хлеба. Звенящий шелест колосьев, на которые ложилось по утрам теплое солнце восходов. Для чего жили? Ничего не осталось. Прошло… И дни, как тогда, – идут. Все, что сделали, – пройдет. Кому останутся эти дни, эти радости? Каким людям?
Старик хотел поправить пальто под головой и заметил, что рука его опять неподвижно лежит на груди, что она суха и стыла. И он подумал: почему днем так испугался этой неподвижности, а сейчас принял ее неминуемость и не пожалел себя?
Был вечер… Лагутин… Семен… Разговор их и… рядом ничего не было значительного… И старик горестно подумал, что этих людей оставлять ему не жалко.
Ему захотелось на улицу. В черной рубахе, в калошах на босу ногу, он вышел на крыльцо. Постоял, и по доске, брошенной на землю, прошел к плетню. Колья были черны и мокры: даже ночью не застыло. Стояла оттепель. Еще не растаявший снег медленно накалял калоши. Намокшим холстом провисало небо над избами, и не было признаков света, фосфорным сиянием обозначившим очертания изб. Весна чувствовалась даже ночью. Где-то скапывал снег в лужу. Пахла весна талым лесом до вязкой горечи на губах. Хватает этого запаха на всю Сибирь, и никогда он не кончится… Что же, как же будет потом?.. Какие весны? Чем полна весна? Каким движением? И почему слышны в ней далекие, далекие ветры?
Старик долго шарил рукой по двери, искал скобу, и еще в сенцах услышал музыку. И в избе она не исчезла: шла из темноты комнаты. Комната слабо дышала светом экрана и невообразимо далекой нежностью.
Что это? Что же это? – старик даже боялся думать, чтобы не потерять наметившиеся чувства. И звучание не проходило. Он не умел слушать музыку: оркестр раздражал его. Он всегда слышал каждый инструмент отдельно, разлагал музыку на составные элементы, и звуки ничто не вызывали в нем, поэтому он не улавливал никакого строя. А сейчас такое непонятное что-то и так незнакомо говорит и говорит, будто упрашивает кто-то кого-то.
Старик, не сняв калош, пошел на свет экрана и, не отпуская его, сел на диван. Глаза настроились на четкость, и тогда он увидел людей: сотни людей… Сплошную стену лиц, лиц… А перед ними, взявшись за руки, в плавном движении, влекомые песней, на льду – он и она. Ласкала их музыка. Подпрыгивало, трепыхало при крутом движении круглое крылышко на литых бедрах девушки. Нежны и сильны ее ноги в белых, высоко зашнурованных ботинках с коньками. Незнакома она в девичьей силе своей. Бережен он к ее гибким рукам, и умеет она почувствовать все малейшие движения его души, его желания. Она отдает себя музыке, ему и всем, поворачивает к нему лицо и улыбается оттого, что молода, что счастлива, что горит и светится голубой и ярчайший их мир. Небо ли с ними там, солнце ли там? Откуда льется этот свет? Где наметилась эта девушка, из какого далекого мира явилась в наши дни? Что за люди смотрят на нее? Каким спокойным, задумчивым и незнакомым светом полны их лица? Из каких они будущих времен? Почему он еще не видел их, этих людей? Синий, синий свет за экраном…
Старик даже не заметил, когда подменилось его сознание. И кажется ему, что уже давным-давно его нет. Лето и яркое марево коснулись его холмика. Колышутся стрельчатые перья травы, прорастают из прошлогоднего настила прели. Далекие и солнечные ветры идут над ним. А он из своего бездыханного мрака проглянул сюда, в этот мир, который невообразимо светел. Он подсмотрел его оттуда, из-под своего ветхого холмика, на котором истлевали в зелени травы темные грудки креста. Прозрел солнечную толщу лет.. Люди сосредоточенно внимали прекрасному празднику. Старик погостил у них… Сознание вернуло его в темную комнату – озябли ноги. Старик не двигался. На душе его было светло, и он подумал: совсем другие люди наросли… Когда он их просмотрел?.. Среди них он обязательно сейчас узнает своего Леньку.
XXII
Уже спали Семен с Клавой, внуки. У старика сна не было: он воспринимал все приглушенно, в полузабытьи, как в воде.
Ленька в одних трусах пробрался к нему, поднялся на приступку печки. Старик лицом почувствовал близость его губ.
– Деда, – прошептал он. – Ну, деда.
– Что тебе?
– Я решил.
– Что? – старик ничего не мог сообразить.
– Задачку.
– Какую?
– Про мужика и про камни. Ну, деда!
– Ну… – старик проснулся, память его прояснилась.
– Один пунт камень, три пунта…
– Фунта, – поправил старик и стал рукой искать Ленькину голову… – Ну…
– Девять… и двадцать семь… Деда, проверь. Все составляется… От одного до сорока…
Волосы у Леньки мягкие, как пух ковыля. Старик пригнул его голову поближе к своему лицу и сказал:
– Ночь, а ты не спишь. Вот отец встанет, тебе поддаст.
– Деда…
– Ну?.. Лезь сюда.
– А я приемник не своровал. Это мы его временно разобрали. Втроем… Будем катушку перематывать.
– Какую катушку?
– Ну, там… В схеме. Он будет больше станций брать.
– А березку ты правда срубил?
– Это мы на мачту, деда. – Ленька покаянно вздохнул. – У нас мачта мала, а мы хотели высокую поставить.
– Зачем высокую-то? У вас уже есть. – Старик окончательно проснулся, ощупывал тощенькую спину Леньки.
– Деда… А мы в яме живем.
– Это что?
– Ну… Местность такая… Везде высоко, а у нас – блюдце. Волны над нами пролетают. А если к одной березке другую березку привязать – дружка на дружку – и поставить, вершина в самые волны вонзится.
– Как ты ее удержишь?
– А растяжками.
Старик надолго задумался.
– А какие они у радио, волны-то?
Ленька помолчал.
– Деда, знаешь… А я не знаю…
Ленька смотрел в окно. Глаза его ловили тайный ночной свет. Старик долго молчал.
– Какую березку-то срубил? Их всего три было. Самую высокую? Тоненькую?
– Тоненькую, – признался Ленька.
Ленька не шевельнулся, а по телу его прошел нервный трепет, отмеченный рукой деда.
– Березку-то… Прежде чем ставить, вы потешите.
Старик бережно стал слушать ладонью беспокойное тепло худенького тельца.
1972
ДИМКА И ЖУРАВЛЕВ
Когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой, я сказал:
– Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
Он нахмурился:
– Как не солдатская? Очень даже солдатская! Ну, вот…
Из А. Гайдара
Как он мог забыть? Вчера загадал сходить за удилищем в согру – на реке тальниковые, короткие, а в согре, между кочками, недавно видел тонкие березки с коричневой кожицей. Ветки на них только на вершине. Такие удилища до середины Ини достанут.
Димка весь день строил самокат. От березы отпиливал большие, тяжелые, с бледными кольцами колеса – на жаре от них ладошкам прохладно. Крепил коленчатую ось скобками. Катался на самокате в ограде. И вот… вспомнил. Отрезал от булки горбушку, нашел ножик-складешок и выскочил на улицу.
Подходили сумерки. Луна еще где-то далеко, за лесом. Димка знал, как она появляется. Небо, и всё в деревне, уже ждало ее.
Димка мысленно проследил, как он перебежит дорогу, у школы завернет за угол огорода. Спустится вниз по тропке мимо зарослей репейника с молодой крапивой.
В самом низу, у кочек, за непролазным камышом и дудками, высокий частокол березок.
Димка согнет стволик одной березки у самого комелька, резанет по горбику, березка и обмякнет. Останется только ее жилки дополоснуть. И с нею по просеке в камышах – на гору.
Но Димка не сходит с крыльца. За низкой далью согры в осветленном небе показался горячий краешек луны, и сразу на мгновение на землю свалились сумерки. Луна росла, тек по согре свет. Димка знал, что еще не спит деревня, но не было в ней ни звука, ни движения – оцепенение. Димку притягивала безбрежность согры. За серебристыми кустами и крышами колхозных амбаров согра сияла оранжевой дымкой.
Димка что-то ждал, что-то предчувствовал.
И тогда в тишине над деревней раздался он, этот хохот. За лето уже второй раз. Именно в это время между вечером и ночью.
– Б-гы, – неожиданно начинал кто-то в согре бараньим блеянием. Голос нарастал, растекался.
– Ха-ха-ха-ха! – падало на всю деревню раскатистое и жуткое. Ликовал хохот, замирал мгновенно и… слушал темноту. Казалось, он был везде, и тишине после него не хотелось доверять.
Минут через десять хохот опять повторился.
Матери все не было – она доярка на ферме. У Димки сжималось сердце и становилось холодно голове.
Он вспомнил, что уже темно в сенцах, а через них нужно проходить. Там прорези в стенах светятся глазами.
Димка не может уяснить для себя, чего он боится в темноте. Если представить четко виденные лицо с полузакрытыми глазами и застывшие руки покойника, страх уменьшается. А неопределенность темноты полна страха.
На дороге раздался топот коней, мальчишечья ругань и хлесткие удары бича.
– Куда, куда, бестолочь!
В темноте по краю неба, мимо кольев, носилась фигурка верхового.
– Куда! – кричал Журавлев, сбивая коня с бега, запрокидывая ему голову, накренясь, хлестал бичом по траве, перехватывая лошадей.
И топот уносился в переулок за огороды.
Раньше, когда мужики не на фронте, а дома были, они лошадей сами на луга отводили. Сейчас женщины распрягут кое-как и тут же на дороге бросят. Журавлев верхом собирает их и угоняет пасти в ночь. Один. Димка садится на крыльцо.
А ведь Журавлев весной с ним в четвертом классе учился.
Анна Ефимовна объясняет задачу. Журавлев ее не слышит. Журавлев смотрит на картину над классной доской: «Сибирская тайга». Деревья в снегу. Охотник в желтом полушубке целится в черную птицу на ветке, и рядом рыжая собака с открытым ртом подняла морду.
«Попадет или не попадет?» – всегда думает Журавлев.
Все ему кажется, что ствол ружья чуть-чуть выше птицы поднят. А далеко в глубине леса золотые стволы деревьев. Охотник прошел, а следов нет: все белый снег и снег. Наверно, до пояса. Ни разу такого леса Журавлев не видел, а тоже в Сибири живет.
Он лег подбородком на руку. Вторая рука на тетради. Мятый рукав рубашки задрался, и сразу видно, что Журавлев снегом умывается, – ладошка чистая, а выше темная полоса в заветренных цыпках. Поэтому у него всегда и тетрадки грязные.
Его сосед Сережка Грудцын крадучись достает из кармана кружочки сушеных яблок и, прежде чем положить в рот, намеренно задевает Журавлева. Сережка размягчает яблоки во рту до резиновой мягкости, потом жует и проглатывает.
Журавлев не обращает на него внимания. Сережка нащупал в кармане самый большой кружок с завернутым ободком, протянул его под партой Журавлеву.
Журавлев давно хотел попробовать, они сухо и сладко пахли рядом, и намерился кружочек взять, но Сережка отдернул руку, положил кружочек в рот, поулыбался и сжевал. Затронув Журавлева локтем, вытащил сморщенную, в глубоких складках грушу, протянул в сторону Журавлева, держит на весу.
Журавлев посмотрел Сережке в лицо, взял с парты непроливашку и ткнул ею Сережке в губы. Тот хлюпнул и упал лицом в парту.
Анна Ефимовна остановилась, долго не могла выговорить слово.
– Это не Журавлев. Это садист. Ты… – от возмущения Анна Ефимовна забыла все слова. – Ты не человек! Ты чурка, – сказала она, – чурка с… глазами.
И именно то, что он чурка и с глазами, больше всего поразило Журавлева.
– Сейчас же выйди! Выйди, Журавлев!
Анна Ефимовна сорвалась с места, взяла Журавлева за руку выше локтя и, извивающегося, провела через весь ряд к двери.
Журавлев вырвал руку, собрал книжки, независимо обошел учительницу и удалился, не закрыв дверь.
Мартовский снег сбивался в ладонях в оледенелые комки. Журавлев кидал снежки в полукруглое окно в дощатых сенцах школы. Комки бухали о доски, разлетались. Журавлев ждал перемену и Сережку.
В дверь на перемену первыми выломились ребята, сбежали с высокого крыльца. Выскочил и Сережка, глянул на Журавлева, боком отступил за дощатую стену и высунулся в окошко.
Журавлев этого и ждал – пустил в него тяжелой льдышкой. Сережка юркнул вниз. Журавлев с новым комком караулил его лицо. Когда оно показалось, Журавлев метнул в окошко свежий комок. Из окна – брызги.
С крыльца высыпали девчонки, уставились на Журавлева и онемели. Анна Ефимовна откачнулась от окошка, стиснула ладонями лицо, побрела в класс. Приткнувшись к печке, долго не отнимала от лица платок и в класс никого не пускала. Вызвала Соловьеву, пользующуюся ее особым доверием, и та объявила, что занятий не будет.
Когда разбирали сумки, Анна Ефимовна, в шали, надвинутой на глаза, старалась повернуться к ученикам спиной, долго что-то искала в книжном шкафу. Из-под шали не было видно ее глаз, только нос, незнакомой формы. Всем хотелось увидеть Журавлева, но его у школы уже не было.
Дома Журавлев скинул снег с крыши. Намял в чашке картошку, она осклизло продавливалась между пальцами, шелуха налипала сверху. Покрошил курам. Послушал, как они, вытягивая шеи через деревянную решетку из-под лавки, часто стучали носами по полу.
В марте на улице тепло, можно в одной рубашке бегать. Солнце яркое, а в избе выстывало. Одному сидеть в избе не хотелось, и Журавлев пошел на улицу. Наколол дров. Охапку занес в избу, бросил у печки.
Солнце уже за стену зашло, не бьет в окно. Журавлев не раздевался, сидел в телогрейке. Он проголодался. Нашел хлеб на лавке. Булка синяя и плоская. Мать подмешивает в тесто натертую картошку. Поэтому хлеб внутри мокрый. Когда ешь его с молоком, он во рту тяжелеет и становится тошнотворным. Журавлев поел, и ему пришло в голову, что теперь не нужно выполнять домашние задания. Он вспомнил, какое было веселое лицо у Анны Ефимовны в окошке, увидел, как летел снежок, и то, что он, опрометчиво метнув, уже не мог ни приостановить, ни вернуть его, и как охнула учительница.
Чтобы облегчить это воспоминание, ему хотелось, чтобы кто-нибудь сделал ему больно. Но его только знобило. Он спрятал руки в рукава телогрейки, сцепил замочком, положил на стол и лег на них подбородком. Пимы с калошами чуть сползли с ног и уперлись в пол, ногам от этого было теплее: сухие голяшки не настывали.
Он стал ждать мать. Придет – печку растопит, корову пойдет доить. Что она сегодня на работе долго так?
Авдотья Журавлева сортировала с женщинами в завозне[2]2
Завозня – сарай, где хранился сельскохозяйственный инвентарь.
[Закрыть] семена. Вот уж свет из широкой двери в угол сместился, а они ворох пшеницы никак не добьют. Осталось-то чуть. Можно бы и бросить, домой бежать; зерна еще на десять дней. Да зайдет завтра председатель, увидит, что с этой стороны крохи не довеяли, и ничего не скажет, а устыдишься.
А у Авдотьи что-то в спину вступило, на поясницу как тяжелый валик положили: ни согнуться, ни разогнуться.
Она сняла с головы платок, отряхнула об юбку – пыль остро запахла пшеницей, – скомкала его в карман, пошла к веялке. Тут ее и окликнула от двери школьная сторожиха.
– Поди-ка, Авдоть, – сказала шепотом. А всем женщинам громче: – Что-то вы запозднились? Коровы-то дома заждались. Авдоть, – наклонилась заговорщицки сторожиха к лицу Авдотьи, – твой Петька-то что наделал. Чуть Анну Ефимовну не убил. Лицо раскровянил. Меня за тобой послали. Исключать его будут. Давай-ка пойдем.
Авдотью уже не раз вызывали из-за сына. То уроки дома не делает, то «он у вас запущенный», «давайте вместе, Журавлева», «вот вы расписываться не научились и сына на полдороге оставите», «надо общими усилиями», «пусть начальную школу закончит, последний год», «вы его контролируйте».
Только уйдешь – опять девчонок присылают: «Зайдите в школу».
Уж лупила. Он что… Насупится как волчонок. «А… – отчаялась Авдотья, – что хотите, то с ним и делайте. Мужа на войну забрали, нас не спрашивали. А что здесь спрашивать?»
Авдотья на вызовы в школу и ходить не стала. И теперь вот…
Снег за день осел, коркой взялся, а набитая дорожка гребнем высится, ноги сползают. На крыльцо еле поднялась. На крашеном полу, хоть и при керосиновой лампе, а заметила Авдотья, сколько пыли на ней: вся как в войлочном пуху.
Анна Ефимовна присмотрелась к Авдотье, заторопилась табуретку подставить. Авдотья не помнит, как и опустилась. Учительница будто чего испугалась: стоит, трепещет вся, а лоб перевязан. И, ни с того ни с сего, Авдотья заголосила…
Поговорили они с Анной Ефимовной. От сердца отлегло. Домой вроде спокойно шла, а в избу уже бегом вбежала.
Петька в фуфайке и шапке за столом сидел, в руки уткнулся.
– Петьк, – нетерпеливо окрикнула Авдотья, – ай притворяешься? Ты что это, неслухьян, наделал? Всю мне душу сокрушил. Никакого терпежу с тобой нету.
И дневная усталость, и вина перед учительницей безрассудно взорвали ее. Она сорвала с головы Петьки шапку:
– Что ж это ты делаешь со мной, а?
Петька поднял голову, спросонья крикнул:
– Ну, мамка! Что ты! Как спятила, хватаешься. – Петька соскочил на ноги.
– Хватаешься! – Авдотья начала хлестать его ладонями по щекам, по губам. Чем больше, тем сильнее. – Хватаешься!
Петька откачнулся за стол в угол, обежал его с другой стороны, выскочил в дверь.
Авдотья приходила в себя. Почувствовала, как у нее дрожат руки, опустилась на лавку. Увидела, что дверь настежь, заторопилась. Зажгла лампу: долго не попадала в щелку горелки. Огляделась: «Что же это я, очумела: ни корова не доена, ни ужина нет. Печку затапливать надо…»
Увидела принесенные дрова, присела перед ними. Рукой к ним притронулась, и опять – вот они, слезы.
А в ладонях ее все горело Петькино лицо.
Теперь Журавлев пережидал, когда все ученики проходили в школу. По пустой дороге он прибегал на колхозный двор, где пахло на солнце вытаявшим навозом и старым мазутом от конных граблей.
Между двумя амбарами под навесом в тени нетерпеливо переминался жеребец Лысан. Если у рабочих коней к весне обозначались ребра, сухими чешуйками шелушились холки, то широкая спина Лысана отливала черным шелковым блеском. Когда Лысан чувствовал приближение человека к жердяной перегородке, беспокоился, и у него нервно дрожали ноздри. Он начинал переступать задними ногами, и копыта его выдавливали мокрые следы на деревянном полу.
– Но, потанцуй, – грубо одергивал его Журавлев. – Застоялся!
Журавлев копировал чей-то голос.
Жеребец тянулся к сену. Он уже выел кормушку перед собой, и привязанный повод сдерживал его. Жеребец шевелил вытянутыми губами. Журавлев протиснулся между жердями. Жеребец прянул головой, посторонился.
Журавлев залез в кормушку, стал подгребать сено с краев под морду жеребцу. Тот доверчиво подпустил мальчика, захрустел сеном. Журавлев потрогал его челку.
«Вон какие глаза у тебя, Лысан, красивые. Как мыльные пузыри».
В радужном и влажном их блеске ломалась бревенчатая стена.
Журавлев опустился на пол, погладил шею жеребца. Его тянуло потрогать круп, но жеребец при каждом прикосновении нервно передвигал кожей, сбрасывая ладошку, и недобро отстранялся.
Журавлев не услышал, как пришла Артамониха. Как война началась, так тетка Артамониха за жеребцом ухаживает – мужиков нету.
Артамониха всмотрелась в полусумрак стойла: после солнца ей казалось, что у Лысана холодно и темно.
– Ты зачем там, неслух? – испугалась она. – Ведь убьет.
– Не, – сказал Журавлев. – Он понимает.
– Ну-ка живо.
Артамониха открыла воротца.
– Устал, устал, – запричитала она, – сейчас я тебя повожу. Ишь тянешься. Повожу… Да разве тебе в поводу за бабой ходить? Тебе верхового надо. Да чтоб огрел тебя, дурака, плетью. Вот бы ты и заиграл, разгулял кровь. Ну, пошли…
Артамониха вывела Лысана, он почувствовал простор, раздул ноздри, чуть не выдернул поводом руку. Артамониха увидела на подамбарнике Журавлева.
– Опять ждешь? Укараулил?
Она трогала морду жеребца, успокаивала:
– Вот тебе и мужик. Вот тебе и наездник. Ну, Журавлев, иди. Только смотри, сдерживай!
И чуть помедлив:
– С ума мы с тобой сходим, парень. Решишь ты меня. Давай-ка подсажу.
Спина у Лысана круглая. Журавлев с руки Артамонихи забросил себя, сел верхом – от жеребца тепло по всему телу.
Лысан прянул вбок, но, вздернутый удилами, присел, сбивчиво прошелся на задних ногах и вынес мальчика на скорый бег. Разбрызгали копыта жидкий снег. И чувствует Лысан ногами сладостную тяжесть прикосновения к земле, режущее дыхание ноздрей да знакомую и удобную ношу на спине.
Пьянящая свобода силы! Прохлада, влажный цокот. И уже нет его в этом мире. И человек – только попридержал, и сам напрягся, и отпустил.
Артамониха отряхнула с фуфайки брызги снега и не то с упреком, не то с восхищением сказала:
– Вот, батя родимый.
Журавлев не ходил в школу. Домой заявлялся в двенадцать ночи. Весь день проводил на улице, а вечером, когда собирался народ в конторе, терся между людьми. Он всегда старался захватить то место у стены, недалеко от угла, где когда-то сидел его отец.
Отец мостился на лавке, отваливался спиной. Одну руку клал на коленку, а другой, скособочившись, шарил в кармане, искал кисет и смотрел в пол.
Когда Журавлев захватывал это место, ему казалось, что он походит на отца. Только у него нет кисета и не пахнут руки табаком.
– Пацанчик, – заметил Журавлева председатель, – что так поздно? Ну-ка марш домой.
Председатель Нарымский раненый. Приехал из Белоруссии. Его две дочери – Таська и Тамара – ходят в худых пимах. В школе тоже не учатся: в деревне пятого класса нет. Председатель пимы чинить не научился, а фронтовик. И громко разговаривать не умеет. Когда колхозницы на работу не выйдут, он на них и накричать не может. А женщины на его яму на лбу боятся смотреть: там под тонкой кожей все дышит.
Журавлев только вид показал, что уходит, а сам за печкой на пол сел.
В конторе лучше всего вечером. На столе лампа десятилинейная. Ее люди окружат – лампу не видно, а за головами свет, и на потолке и стенах – тени.
За печкой темно. Пол пимами истоптан – досок не видно. На нем «бычки» от самокруток.
Журавлев подобрал один, еще не загашенный, докурил: горечь все во рту связала, а от пальцев долго пахло, как из кармана отца.
На другой день у себя под крышей Журавлев нащипал табачные листья – там еще два пучка после отца висели – и, пока матери дома не было, насушил на сковороде в печке, намял в карман телогрейки. Скрутил папиросу, искурил. Когда заходил домой, все плыло перед глазами, как стеклянный туман. Нечеткое было, шаталось.
Журавлев на кровати полежал вниз лицом, с закрытыми глазами, но все равно кровать из-под него уходила.
В этот день он ходил по улице неторопливо, представляя себя взрослым.
Парили мокрые плетни. Ручьи из-под сугроба размывали дорогу.
Журавлев смотрел на них, как сторонний. У него в кармане лежала бумага, сложенная в размер самокруток.
Он думал, что мятый листовник в его кармане не табак, а пыль, труха. Табак у мужиков светлый, крупитчатый. От такого, наверно, и голова не болит. Он сейчас «бычок» развернет, посмотрит, какой другие самосад курят.
Отец его тоже у печки курил. Сядет на цыпочки, откроет дверцу, дым полоской в печку втягивается. Отец пальцем нагоревший пепел сбивает и тоже слушает, что мужики говорят. И в шапке этой же отец ходил и в углярку сплевывал. Журавлев развернул захолодавшие мокрые окурки, ссыпал в бумагу, свернул папиросу и, выкатив из дверцы жаркий уголек, прикурил. Табак в папироске трещал.
Над ним кто-то тяжело засопел, Журавлев оглянулся.
– Ты чей? – спросили его.
– Журавлев.
Председатель поднял его за руку.
– Я тебе уши оторву, Журавлев…
– Они не ваши, – сказал Журавлев… – У своей Таськи косы отрывай. Они у нее длинные болтаются.
– А я вот… – озадачился Нарымский, – сейчас тебе по губам, а твою мать ремнем. И не спрошу: мои или не мои. Так и сделаю. Ну-ка… – Он вынул из рук Журавлева папиросу, брезгливо бросил. – Так и скажи матери.
И Нарымский выгнал Журавлева за дверь.
Мать трет картошку к завтрашнему хлебу. В ведре сырая каша. Как она руки в нее опускает? На дно оседает крахмал. Без воды он скрипит. На языке растекается, и остается сыростный вкус.
– Ты совсем избегался, пустодом. Где шляешься? – сокрушается она незлобиво.
Журавлев выпивает кружку молока, залезает на кровать под тулуп.
Из конторы он шел по дороге, а когда глянул в огород на снег, остановился. Слюдяная корка его подмерзла, блестела и была предзакатно багряной. За березовый колок скатывалось солнце. Лес мрачнел, будто отдал все краски, а за ним небо в зеркальном холоде разогревалось, как раскаленное устье[3]3
Здесь – устье печи, топка.
[Закрыть].
Журавлеву казалось, что солнце уходит далеко к войне. Он него, от этого леса и красного снега, на который он встал, падает к отцу. И лицо у отца там, на войне, горит таким же снежным стеклянным цветом. По целику мальчик шел, как по спекшемуся насту, не оставляя вмятин, а у плетня провалился.
Спать лег Журавлев не раздеваясь; всегда в чем ходит, в том и спит. Он не заметил, что штаны его ниже колен мокры – холодный обруч вокруг него под тулупом уже нагрелся.
– Куда пимы забросил? – спрашивает мать. – Давай сушить положу. И где опять так лазил?
Журавлев не отвечает матери, знает, что пимы она уже нашла, а спрашивает так, лишь бы что говорить.
– Учительница приходила. Ждала тебя. Упрашивала. Давай завтра в школу иди.
Это сообщение Журавлева не радует, рождает недоброе чувство к взрослым.
«Ходят… И не понимают, что главная жизнь не в школе, не здесь, а где-то далеко, куда садится солнце».
«Склонение…», «спряжение…» – язвительно воспроизводит он голос Анны Ефимовны. – И председатель контору пожалел…»
Журавлев долго не может уснуть. Он не скучает по школе, потому что у него мало связано с ней приятного. И к ребятам он не тяготел и не умел играть в детские игры, что занимали их на улице.
Все летние дни он проводил с отцом в вагончике. Отец работал учетчиком в тракторном отряде и домой приезжал только на воскресенье в баню.
В тракторном отряде и кормили лучше, чем в полевых бригадах. И сливочное масло, и мед давали в алюминиевой чашке. Макаешь – облизываешься. Но больше всего Петька любил в отряде утро.
Отец запряжет коня, в березничке намашет травы (литовка там у него на березке всегда висит), бросит на телегу – валяйся, Петька, – и едет к далеким полосам ночную пахоту измерять. Лежи себе на траве – цветы выбирай: медунки, молочко. Цветы у молочка и медунок синие и разные. Какой цвет лучше – и не определишь.
Иногда попадалась в траве пучка. Снимешь с трубочки толстыми лентами кожуру и откусывай мякоть дольками.
Отец останавливался под кустами на краю межи, распрягал мерина Почтаря, привязывал к телеге, а сам с саженем уходил по краю пахоты. Жди, когда вернется.
Петька ищет саранки под березами или закапывается на телеге в траву.
Отец ему ничего не наказывает – занимайся чем хочешь.
Утром в одной рубашке прохладно. Петька ждет отца и спит на телеге в траве, пока солнце не нагреет.
Почтарь низко склоняет над Петькой голову, хрустит зеленкой. Глаза у него полуприкрыты ресницами, под ними водянистая дремотная глубина. Почтарь наткнулся в траве мордой на Петьку, насторожился, плотно притронулся губами к его животу и послушал.
Петька выпростал из травы руку. Почтарь отдернул голову, а потом разрешил тронуть нос и Петькину ладошку послушал: долго, как доктор. Что-то для себя понял и опять захрустел травой – безразлично и медленно, будто никого уже рядом не было.
– Почтарь, – поразился Журавлев, – Почтарь… Ты понимаешь… Ты человек… Вон какая у тебя голова большая. Даже больше, чем у человека.
И Журавлев понял, что с конем можно разговаривать обо всем.
Журавлев гладил голову Почтаря, трогал глаза, конь смаргивал ладонь и беспокойства не испытывал, будто Журавлев был ему давно ясен, безобиден и обращать на него внимания больше не стоит.
– Вон ты какой умный, – ласково радовался Журавлев своему открытию.
Он слез с телеги и начал бить ладошкой слепней на холке Почтаря. Прихлопнутые, они оставляли на шерсти капельки крови и скатывались в траву.
Бока Почтаря на солнце горячие. Журавлев прижимался к ним щекой.
Ему хотелось обнять Почтаря за безмолвный этот сговор, за то, что позволяет тереться о шею, безбоязненно задевать задние ноги, которые всегда вызывали страх и при неудовольствии вскидывались и могли сбить.








