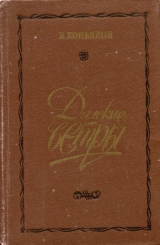
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
II
Я сижу перед новым загрунтованным холстом. Я боюсь его, боюсь смотреть на свои старые работы, потому что не сказал на них ничего точного. Я все придумывал. Сколько же лет я не жил в деревне? Армия. Учеба. Работа… Иногда летом наезжал сюда с этюдником, увозил чемодан картонов. В институте ребята завидовали: «У тебя неиссякаемая тема. Ты знаешь деревню». Я тоже так считал… Я знал деревню памятью семнадцатилетнего…
В летнюю жару на лугах я метал сухое сено. Оно сыпалось на распаренное лицо, на мокрую спину, кололо и разъедало. От солнца болела голова. А помню я только, как прыгал в неподвижную воду и долго не появлялся, расслабившись, отдыхал и наблюдал за своей тенью на просвеченном сквозь толщу воды песчаном дне. Течение тихо несло меня, неподвижного, распластанного. После обеда с ребятами отнимал черемуху у девчонок. Они кричали, вырывались.
– Ой уж! Вечно…
Смирялись, когда оставались без черемухи, обижались притворно. Но мы знали, что им все равно приятно. А потом в тени кустов, лежа животами на вянущем пырее, объедали с веточек ягоды. Язык делался вязок, неповоротлив, и чернели губы.
У тех девчонок теперь по трое детей.
За окном по укатанной дороге медленно громыхали два трактора. Передний бойко выкидывал в трубу упругие, долго не исчезавшие колечки – они падали за плетень в снег. Другой, прицепленный сзади, катился на безжизненных гусеницах. Тракторист подавал на себя рычаги, и трактор заносил массивный перед то в одну, то в другую сторону.
Я накинул телогрейку и пошел к стайке бросить корове сено.
Овцы испуганно смотрели из своего угла мне в глаза. В неподвижной дремотности стояла корова. На ее заострившуюся спину намело снег. Она его не чувствовала; наверное, так стояла с ночи, прислушиваясь к тугим сквознякам с огорода. На ее лбу заиндевела шерсть, и за белесыми ресницами чуть видны глаза – водянистые кроткие льдышечки.
Серый зимний день. Я опираюсь на черенок вил и не шевелюсь. Не понимаю, откуда взялась какая-то неясная тоска во мне.
В отверстия метет снег, струится по ветреному гребешку на черных будыльях объеденного сена, стоит корова в мерзлом затишье.
Так отчего же я остановился? Мне бы подняться по лестнице на крышу, скинуть навильник сена, а я смотрю, как свисает с крыши картофельная ботва. Я когда-то это уже видел… Стылую притихшую тоску. Это уже было. Было у меня, в моем детстве. Было в искусстве – у Коровина, у Серова. Серый снег. Серые лошади… Искусство уже переболело этой русской тоской. Оно к нему больше не вернется, не заглянет в деревенские дворы, где неуютно гудят на ветру скворечники по углам изб. Искусство ушло дальше… А жизнь…
Наша живопись давно ли видела эту жизнь, а играла в снежки, в белых халатах доила колхозных коров, перебирала клавиши в сельских клубах и не задумывалась, почему на зимней проселочной дороге оброненный клок сена вдруг заставит деревенского жителя замедлить шаги и перевернет все думы его. Что он будит в нем, какой является вехой? И я не помню этого чувства и сейчас стараюсь спугнуть его, как чужеродное и несвойственное мне, будто научился бояться его.
Я стою перед забытым миром и не знаю, чувствует ли то же мама, возвратившись с работы, увидев, как кружится над темным двором метель, или это для нее рядовая обыденность?
Начали замерзать руки. Я перехватил вилы, и отполированный черенок в сухом инее чуть не выскользнул из ладони. Залез на крышу, надергал сена из прикладка, сбросил вниз.
Корова оживилась, набежала на сено, отмахиваясь головой, старалась поддеть овец рогом. Я раскидал сено по углам. Ветер уже стих. Из молочного неба пробивалось солнце, затеплилось на строганых стенах домов. Ново и непривычно видеть высокие шиферные пирамиды крыш в своей деревне.
Деревня отстроилась. Новые дома с верандами выдвинулись к оградкам из штакетника, а за ними остались старые пятистенные избы. Стены их выцвели, поседели, а сами они будто ссохлись – так стали малы. Их не ломают – продавать некому. Так и стоят они, тараща слепые окошечки. Вот и наша изба сразу как-то отодвинулась от дороги. У нее пересохли пласты на крыше, ветер выдувает землю, и на углу обнажаются концы осиновых жердей. Изба – моя ровесница, так говорила мама. Только сенцы набраны позже из старых построек.
Когда-то здесь в углу стояли мои самодельные лыжи из осины. Я проделывал стамеской узенькие канавки, чтобы они оставляли за собой след, как от настоящих, фабричных. Такие лыжи я видел у одного красноармейца, прибывшего домой в отпуск. А крепления к самоделкам отец вырезал из своего ремня.
Нет тех лыж. Нет отца.
Я захожу в избу, раздеваюсь, сажусь на табуретку перед холстом. Так к чему же я готов? Что я знаю?
Моя деревня за окнами. Возит сено тракторами. Все школьники после четырех классов живут в районном городке в общежитии, и каждую субботу выезжает за ними колхозная машина. А я, единственный в те давние годы окончивший десять классов, ходил в школу каждый день пешком… Учился… Неужели чтобы скидывать корове сено?!
Так что же я думал об искусстве?
От ручек кистей пахнет краской. Тощие тюбики подняли хвостики кверху.
Мне нечего наносить на нетронутый холст. Проникнувшись тоскливым шелестом соломы, написать человека с вилами у заиндевевшей коровы, его одинокую обособленность? И остаться анахроничным.
Для него заснеженный этот двор давно уже имеет другую значимость. Мир, заряженный напряжением мысли, уже давно коснулся самых глубоких закутков его души, раздвинул границы его потребностей.
Нарисовать человека, забытый двор, изобразить внешние атрибуты жизни, – о, это было бы так просто! А время требует от живописи ответить, что я думаю по поводу этого двора, что думаю по поводу этого человека. Что думаю по поводу…
Вернулась мама с работы – перебирала картошку в овощехранилище; достала из печки щи и, прежде чем налить себе, долго грела о чугунок руки.
– Что ты сидишь над своими рамками? И не рисуешь ничего. Смотришь, смотришь… Может, ты заболел?..
– Завтра пойду на работу. В колхоз. Меня примут в колхоз? Ведь я как бы и не исключен… Не огорчайся, мама… – Я подошел к ней. – Не горюй. Мне бы только на краски заработать.
5 декабря.
Саня принес нам с Юркой пригласительные билеты в клуб. В заклеенном конверте сложенный листок из тетради.
«Дорогие товарищи! Приглашаем Вас в клуб на торжественное чествование скотника Подзорова Матвея Ивановича. Начало вечера в семь часов.
После чествования концерт».
– Любопытно… Ты видела здесь самодеятельность?.. Нет, ты не видела здесь самодеятельности. Я тоже. Помнишь, как подала это районная газета? «Новые формы работы сельского клуба».
Саня с баяном – портрет большим планом.
«…никогда не потухает яркий огонек клубной жизни в Речкуновке. Далеко виден он и зовет к себе людей потому, что работа в клубе проходит с выдумкой, с молодым задором. Есть чему поучиться у заведующего клубом Александра Равдугина».
– Сходим? Только валенки надевай, а то там опять, наверно, волков морозить.
Ночь темная, с оттепелью. У раскрытой двери клуба толпа мальчишек. Свет выхватывает их головы в нахлобученных шапках. Пританцовывают девчонки в скользких выбоинах луночек. Клуб полон. На лицах веселое нетерпение, расположенность к торжеству. Меня смущает мгновенное всеобщее любопытство – глаза все на дверь. Мы пробираемся между рядами. Юрка оживляется:
– Смотри, – продвигается он к стенке и, оставляя мне свободный стул, садится. – Андрей… Все в сборе, Вот это посещаемость…
В глазах Андрея насмешливая снисходительность. Я смотрю в зал. Первый ряд стульев завешен красной материей. На нем бодро выделяется старик в шубе. Один на весь ряд. На сцене стол с бархатной зеленой скатертью.
И начался маленький шарж на все большие собрания, какие я знаю.
– Товарищи колхозники!.. – учитель Александр Данилыч встал и, чтобы придать значительность своему сообщению, отпятился к барьеру сцены. – Товарищи колхозники! Мы собрались сегодня чествовать старейшего нашего колхозника Подзорова Матвея Ивановича. – Александр Данилыч помешкал минуту и не сказал, а провозгласил поставленным голосом: – Для ведения торжественного вечера нужно избрать президиум. У кого какие будут кандидатуры?
Саня подался от двери и выкрикнул с отработанной готовностью:
– Я предлагаю Подзорова Матвея Ивановича – лучшего нашего скотника.
Старик поднялся на сцену, сел за стол. Один. Почему-то неловко всем: и старику и людям в зале. Саня спешно шепчется с учителем.
– Сейчас… – Саня сообщает это скороговоркой. – С характеристикой товарища Подзорова выступит секретарь партийной организации колхоза.
– Ты смотри! Не знают, что делать, – крикнул кто-то.
Подзоров моргает часто, на шапку руки сложил, спохватился и снял ее со стола.
– …Тридцать два года проработал в колхозе на одном месте товарищ Подзоров. Ухаживал за коровами, пас колхозное стадо, а сейчас добросовестно работает в кошаре, хотя ему уже семьдесят…
Учитель не смотрит в зал, читает с листа. Заканчивая фразу, поднимает голову, бросает последнее слово и окунается в текст, чтобы не потерять новой строчки. Машинально оставленный хвостик предложения означает как бы контакт с аудиторией.
– …хотя ему уже семьдесят, – тут Александр Данилыч снова поднимает голову, и свет ловит его лоб и кончик носа, – пять лет. Товарищ Подзоров…
Александр Данилыч уже чувствует, что затянулась его речь, что ожидание спало и никто не слушает его, он вдруг обрадовался сам и вышел из-за кафедры.
– Поблагодарим товарища Подзорова за хорошую работу на благо нашего колхоза и нашей Родины.
– Вот отработано! Будь здоров, – шепчет Юрка.
– А теперь попросим Матвея Ивановича сказать что-нибудь о своей работе, труде своем.
Старик, побуждаемый ответственностью, значимостью минуты, понимает, что не волен отказаться, вылезает из-за стола. Колеблется и за кафедру не заходит.
– А давно работаю, правда… Я ня так чтоб кидался. Как уцаплюсь, так на одном месте и есть. Мои товарищи уже дурака валяють, а я… сяду дома и ня знаю, что делать… Ну и… что рассказывать? Нечего…
– Ну дед! Отчубучил. Теперь тебя товарищи встретят в проулке…
Не могу себя убедить, что мне нравятся люди, к которым я приехала. Если признаюсь в этом, какое негодование я вызову!.. Но я не могу найти, за что любить их, этих людей. Перед собой я хочу быть честной.
Я должна благодарить деда Подзорова за то, что он добр, наточил мне топор. А я смотрю на него, на его черную шубу и желтую табачную бороду. Шуба уже не черная, облезлая овчина на груди блестит каким-то сырым лоском. Я даже чувствую ее липкую слизь, и это вызывает во мне брезгливость.
Я поворачиваюсь к Юрке. Он улыбается, хочет что-то сказать Андрею.
Тот отклонился на спинку стула, сбычился. Лицо неподвижное, страдальчески напряженное, словно у него болит зуб и ему трудно сдерживать боль. И не слышит он, что шепчет Юрка. Странное у него лицо – неподвижное, а живет. Хочется его разглядывать и боязно, будто за чем запретным наблюдаешь. Он, кажется, всерьез принимает эту примитивную инсценировку…
III
…Что рассказывать? Нечего? Старик… Что же ты? Тебя чествуют. А тебе рассказать нечего. А ты расскажи, вспомни, старик…
Новые пимы на тебе, новые стеженые брюки. Они толстые, и узкие голяшки пимов собрали их в тугие складки над коленками, как на скафандре космонавта.
Забыл?.. Весеннюю оттаявшую слякоть и стылые колеи по утрам. Ты выгнал колхозное стадо на согретые косогоры. Выгнал рано – не хватило в ту зиму сена в колхозе. Коровы тыкались носами в твердую прель, дичая, взбрыкивали и бежали. А потом… Помнишь, старик, как все было?
«Куда? Стой, стой! Идрит… твою…»
Пыльный кисет выпал из рук. Коровы, теснясь и сбивая друг друга, входили в лог, Они помнили свою прошлогоднюю дорогу. Помнили голодом и инстинктом. Снеговая вода, медленная, неумолимого весеннего разлива, подхватывала их на глубине.
– Да что вы, дуры… да милые… – Ты бил их палкой по глазам, шеям, отталкивал руками мягкие нахлынувшие бока, они теснили и обтекали тебя. Ты хватался за выпиравшие мослы, за хвосты – ссохшиеся упругие метелки.
И вдруг перестал всхлипывать и отрезвел, когда увидел, что коровы, обманувшиеся, прибитые течением, бились в кустах и тонули…
Ледяная вода захлестнула ноги и… ах… шуба еще секунду держала тепло, ах… ах… – ты почему-то только захватывал ртом воздух.
Верхушки ракитника дрожали, качался в воде клок черного сена.
Рукава шубы легко держались на воде, намокали, и поднять руки уже не хватало сил.
Морда коровы наваливала куст, а затонувший ее зад двигался, отдавливал тебя в сторону.
«Ах… а-а… ях…» – хрипло выдыхал ты, спешил и падал подбородком на воду. Подминая путаные кусты, схватился за теплые ноздри, сдавливая сопящую слизь, задрал морду, завернул на себя. Корова била по ногам, наваливалась шеей, а ты оттягивал и оттягивал ее за собой. И корова уже понимала, что можно не биться, а плыть, и она, вырывая морду, плыла. Когда коснулась ногами дна, отвердела и вырвалась. Ты уже не мог двигаться. Чем больше выходил из воды, тем тяжелее становилась шуба. Она давила на плечи, словно к полам ее все навешивали и навешивали груз. На берег уже выполз, и когда понял, что остальные коровы, растягиваясь по берегу, выбредают из воды, упал.
Так мы тебя и нашли…
«Дед Подзоров коров утопил… Коров утопил… В ло-гу-у…» – кричали мы с отчаянной радостью в деревне.
Поднялся ты сам. Вода хлынула через галоши, сквозь пришитые брезентовые мешки.
Женщины вытаскивали тебя из шубы. А там, где утонули коровы, был придавлен ракитник и вода кружила мокрую шапку.
«Сколько их там?.. Сколько?..» – кричали женщины.
«А я… Нишь… знаю…»
Солнце уже грело, а с тебя текло, как с невыжатой дерюги, и лиловая, облепленная воротником шея дрожала. Потом месяц болел и год расплачивался за двух коров. После отчетного года еще остался должен колхозу.
Кате вспомнился Маяковский:
«…Самое страшное видели, – лицо мое, когда я абсолютно спокоен?..»
Шарф у него в порядке… Модерновый. Поэтому он тогда в расстегнутой телогрейке приходил. Юрка интеллигентней… А он?.. Вот видно, что родился здесь, зимой, в березах. Весь здешний какой-то… И откуда эта претензия? Я их сравниваю?
Не помнишь? Ничего не помнишь, старик. Ты зашел в контору, а из набрякших чуней выжималась вода, из дырявых задников торчала трава щетиной. Тогда привезли и давали трактористам кирзовые сапоги.
– Дед… Это только пахарям… Ты что, пахарь?
Не получил ты кирзовых сапог. Я помню… Я видел, как ты уходил на ферму, а на мокрой земле отцеживались следы. Помню… и не понимаю твою непритязательность.
Торжественная часть закончена. Закончена?
Слышишь, хлопают тебе, дед… Ты молчишь бесхитростно. Сейчас пойдешь домой. И не понял ты, что произошло. И учитель не понял – никто, что домой радости ты не уносишь.
– Нет! Смотри…
– Сегодняшний концерт мы посвящаем скотнику нашего колхоза Матвею Ивановичу.
– Давно бы так…
– Тупо, скупо…
Это кричат из зала.
– Сейчас наши девки опять забазлают…
– Нюська плясать начнет.
– Своей задницей пол толочь…
Парни руками раздвигают сомкнутые плечи женщин, перешагивают через скамейки и вываливаются из клуба.
За занавесом передвигают столы, дребезжат ножки.
– Вытерпим? – спросил Юрка, наклонился, подул на отбившийся локон. – Андрей предлагает музыку послушать у Сани в радиоузле. После концерта.
– Конечно.
Саня крутил эбонитовый кружок. Из железного корпуса рвался треск, затихал, и где-то далеко-далеко в эфире клевали стеклянные петушки.
В приемнике ни шкалы, ни мигающего глазка, но в глухом ящике клокотала магма. В отштампованный ряд дырочек бил свет. Лучи дробились на стенке, на большом барабане в углу.
Катя спрятала руки в карманах синтетической шубы под дымчатый каракуль. На голове у нее шерстяной платок кульком, стянут небрежно на подбородке. Лицо матовое, юной морозной свежести, в редких веснушках.
Рассеянный луч растекся у нее на подбородке и на губах, а глаза в тени. Они большие и ленивые. Она смотрела на белобрысую Санину челку. Под ресницами жили влажные огоньки.
– Ничего нет, – сказал Саня. – Бывает, на одном миллиметре десять станций друг дружку перебивают, а сейчас…
– Ладно. Слушай, Саня, – спросил я, – что это за труба на шкафу? Твоя?
– Да нет… Тут до меня заведующий клубом был… Уехал… Так эта труба после него целый год самогоном воняла. Он играл…
– А ты давно здесь?
– Ну да…
– Головастый ты парень. И когда успел все освоить? И баянист и киномеханик. Учился?
– На киномеханика. А остальное сам, самоучкой. Я посмотрел, завклубом только сорок рублей платят, ну и… Мне вообще-то это дело нравится. Вот только бы ноты понять. А то все на слух подбираю. Я говорил председателю – пошли учиться, а он смеется: «Вас образование портит. Я, – говорит, – посылал одного. Кузнеца. Был человек как человек. Работал хорошо. Что ни заставишь, то сделает. Поехал, поучился. Теперь работать стал хуже и дополнительные какие-то требует». А вообще-то он не возражает. Только учиться негде.
– С юмором председатель. Откуда он?
– Директором завода работал. Когда приехал, вот юмор был… Сейчас привыкли. Сядет на своего «козлика», выедет чуть свет за огороды, а там гуси на пшенице пасутся. Гоняется, гоняется за ними, а разве поймаешь? Чьи? Приедет в деревню дознаваться, увидит какую-нибудь женщину у ворот:
«Чьи гуси?» – «Не знаем». – «Как не знаешь? Не знаешь, кто гусей держит?» – «А если не знаешь, почем знаешь…»
Ну, злился. Белел. Вот юмор – на всю деревню. Он тогда с шофером поехал. Пораньше. Взял прут и гонит гусей по улице. Машина за ним следом. Не торопит. Гонит до самых ворот. Гуси свой двор покажут… Первым погорел гусак Пронька Кузеванова. Подошел к плетню, продел шею в лаз и боками туда-сюда, туда-сюда, протолкнулся в ограду. Ну и остальные к себе домой привели.
Председатель тогда вечером на заседании:
«Давайте вместе убытки подсчитаем. Я измерил – двадцать гектаров всходов уже стравили. Черно. Каждый гусь за день тысячу головок ущипнет, и тысячи колосков нет. В каждом табуне их двадцать. Каждый колосок весит… В переводе на зерно получается… Получилось – совсем юмор». – «Вот так гусь. За день сколько умял! Больше слона». – «…Переведем хлеб на деньги… И эту сумму… Я предлагаю удержать с хозяев». – «Да нам за это год работать. Соображать надо…» – «А вы за чей счет своих гусей кормили? Теперь эту кормушку досыпайте». – «Мы жен на работу не пустим. Пусть гусей караулят». – «Я ваших жен на работу посылать не собираюсь». – «А ты сильно не тяни – заузга разорвешь…» – Пронек тогда кричал: «Ничего, они у меня крепкие».
– Ну и удержал?
– Удержал… У него не заржавеет.
Катя улыбается, покусывает губы, молчит. Сидит она близко у приемника, и тугой свет из отверстий падает на ее ноги. Они проявляются в полумраке. Катя их не прячет, и они, в серых чулках, пепельно-розовы.
В деревне о Кате с Юрием говорят:
«Агроном у нас бойкий, а жена его форсистая и строгая. Идет, поздоровается ласково, но идет, будто она на свете одна такая. И на это не обидишься».
Юрия я почти не знаю. Представляю его в институте. Высокий, красивый, независимый с преподавателями и необходимый на студенческих вечеринках.
Катя смотрит пристально перед собой, и ее ресницы вздрагивают. Чтобы не рассмеяться, она наклоняется.
Когда-то натурщица вот так же вытянула перед собой длинные ноги. Я смотрел на них и думал: «Почему они кажутся красивыми?»
Потом наметил первые штрихи. На холсте появились линии, а передо мной были объемные ноги. Я хотел почувствовать их форму линией. Я ее искал углем, а линия была жирна и скучна – не было объема, не было пространства за ней. Я начинал злиться.
Я мысленно брался за ноги, переставлял, разворачивал. Они не давались, грубели. А потом… Вылепленные тенями, пойманные, прочувствованные, они лежали на холсте, и я мог держать их в ладонях. Они уже были объемны и черны, и исчезло перед ними неясное первоначальное благоговение.
А сейчас в полутемной комнате греет от радиоприемника ноги женщина – доверчиво и наивно. И не догадывается о мыслях моих – они неожиданные и грустные. Я уже знаю, что никогда не отметят меня, не засияют беспечно мне своими глазами девушки вот с такими детскими губами. Они теперь будут вечно чужими.
Я смотрю на Катю, на ее глаза, ноги. Мне не хочется быть художником, думать, чтобы не потерять робкие и бережные чувства.
– Саня, – говорит Юрий и смотрит на меня. – Где вы такие картины достали? Сколько ни смотрю – все не пойму, что там происходит. Какой-то кретин без шеи стоит у трактора, женщина с хищной челюстью на коленках меряет что-то палкой. Перед ней меня берет оторопь. Саня, ты скажи, кто такую вещь выдал? Где ты ее достал?
– Городские приезжали хлеб убирать. С шахт. Один художником объявился. Все на поле работали, а он в клубе рисовал. До обеда рисует, а после на речке рыбачит. За полтора месяца только три картины успел. Я их сначала тоже испугался, а потом повесил. У нас совсем ничего до этого не было.
– Платили ему?
– Он на трудодни согласился. Как все.
– Только три картины успел… По-моему, он был тихоход. Андрей, как находишь?
– Он не ленился. Хлеб свой заработал. Картины же большие.
– Саня, – говорит Юрий. – У тебя тоже перед ними оторопь? Знаешь что? Ты их выброси, пока ночь. Мы с Андреем поможем. Мы сильные.
– Это можно. Только пусть еще повисят… А вот вы мне объясните, почему художники всех людей за дурачков считают. Я в городе зашел в один магазин – там картины продавались. Дай, думаю, приценюсь. Висит вот такая – с нашу. Три тысячи пятьсот рублей. Я чуть не сел… Пячусь, запнулся обо что-то. Глянул – голова скульптурная. А на ней бирка – две тысячи пятьсот рублей. Ну, думаю… вот бы разбил… Нет, надо сматываться.
Художники себя ценят дорого, а других нет… потому, что заелись. У заведующих клубами оклад сорок рублей, а они что, меньше художников есть хотят? Да если бы я не получал за радиоузел, да за кино, я тоже давно бы ноги откинул.
Моргнул свет. Раз, два…
– Предупреждают, – всполошился Саня, – сейчас выключат. Уже двенадцать.
Мы вышли на улицу. Мотор электростанции сбился, и свет в окнах затухал толчками и исчез. Глаза привыкали к темноте. На краю деревни лаяла собака одиноко и гулко, как в пустом доме. Небо сдавило влажную оттепель, отсосало белизну снега, и снег сиял лиловыми сумерками. Коненковские избы нависли над дорогой. Темные окна не впускали, гасили воображение.
– Саня неподражаем. Кладезь житейской мудрости, – сказал Юрий. – Свои возможности знает. Катя мне доказывала как-то… Знаешь, что она отстаивает? Деревне нужен врач-психолог, как в бразильской футбольной команде. Некоторая духовная единица, которую колхоз должен оплачивать. Чувствуешь, до чего договорилась? Хочет секретаря партийной организации колхоза подменить или надстроить третий этаж.
– А… Ты не понимаешь, – с досадой возразила Катя. – Он же отсюда. Тоже ничего не смыслит… Взяли и оскорбили сегодня старика. А побуждения, наверно, были добрые… у секретаря. Но ведь и ему кто-то должен сказать, что в основе этих побуждений должен быть смысл, а не издевка, не фальшь неумной инсценировки. Ведь убито что-то настоящее. Ну разве можно людей ставить причиной насмешек.
Симпатичные девчонки долбили ботинками в пол, как марионетки, – кто кого перестучит. Выбили всю пыль из досок. Но ведь людям этого уже мало. Они допущены к телевизорам, кино, радио. Они научились отбирать, оценивать, сравнивать. И кто-то должен приобщать их самих к настоящей культуре. А они не дали, не выделили места этому кому-то. Его нет, этого места в деревне, оно не оплачивается. Я говорю не о смене завклубом, а о серьезной переоценке всего устоявшегося.
Я знаю, что мои домыслы уязвимы. В других деревнях, наверное, есть учителя, неравнодушные, заинтересованные, и всю общественную работу берут на себя. Но учительская инициатива сезонна. Нахлынула, отхлынула. А учитель – если он не случаен, не ленив, должен честно делать свою работу. У него слишком много дел в школе. Только равнодушный к ребятам человек находит для себя побочные занятия.
Да и учителя…
– Давно собрались бежать, – сказал Юрий.
Катя отстранилась от него, отстала. Казалось, была она недовольна своей горячностью, словно проговорилась, допустила стороннего к своему интимному спору. И, будто вспомнив что-то, с вызовом вздернула голову, и я почувствовал: если она ответит сейчас что-то, то слова ее будут полны насмешливого скепсиса.
– Ну и что же сельский психолог заметил в современной деревне?
– Пьют много, а… праздников нет…
Это за нее ответил Юрка. Катя сокрушенно вздохнула.
– Вывод у нее оригинален, как у всех женщин: водка и меня погубит.
– Юрке очень легко жить.
Вдруг она повернулась ко мне.
– Хорошо, что его однажды притащили. А вы его как, на руках?
Катя свернула домой.
– Заходи к нам… – сказал Юрка. – Что дома сидишь?..
6 декабря.
Плохая я хозяйка. Ничего Юрке вкусного не приготовила. Ни разу. Пойду сейчас к тете Шуре Королевой и принесу капусты на ужин. Картошки нажарю, со сметаной. Я видела, как здесь готовят: сковорода шипит, а края миски прыгают над густой жижей. И запах в комнате…
Хорошо, что еще не стемнело.
Я взяла бидон и вышла. Тети Шуры в избе не было. Никого не было. Я не знала – уходить мне или подождать. Остановилась у двери.
Вскоре послышались шаги в сенцах. Вошла хозяйка, поставила ведро с морковью на скамейку.
– Ой, здравствуйте. Я ведь и не пойму, кто это, сослепу.
Присмотрелась ко мне:
– Доченька… Что в темноте сидишь? Огонь зажги. А я в погребе там копаюсь.
Остановилась передо мной, сцепив пальцы, разогревала настывшие руки и из темноты морозной шали смотрела участливо.
– Тетя Шура… Какая морковка у вас… Уже декабрь, а она как свежая. Я никогда такую не видела. Красивая… Можно, я одну попробую?
– Что ж это я стою! Мне раздеваться надо. И тебя никуда не посадила.
– А я к вам за капустой… Вы мне не продадите?
– Что бы чуть пораньше… Я ведь погреб закрыла… Ну, посиди.
– Я тогда в следующий раз, – заспешила я.
– Посиди… Я слажу. Мне самой надо достать. Она вынула из кармана рукавицы, обшитые холстиной, взяла кастрюльку.
– Я недолго… А ты ешь морковку. Вон ножик-то на столе – чистить будешь. Да смотри не застудись, она холодная.
У тети Шуры мы с Юркой уже покупали картошку, И я иногда прихожу к ней за молоком. Я начала скоблить морковку над ведром. Она влажнела, и брызги от ножа сыпались мне в глаза. Мерзли пальцы. Когда я тронула морковку зубами, она откололась свежей знобящей долькой. Я скоблила ее еще и еще, и густой холод поднимался в лицо.
Тетя Шура вошла, я сказала?
– А я… Смотрите, сколько съела. Полведра.
– Господи!.. Это я так принесла. Ешь ты!.. Ее у меня почему-то свиньи плохо едят…
Я прыснула:
– А я съела!
Она выпрямилась поспешно.
– Да, Катя… Доченька… Вот уж… старая я совсем. Глупая.
А сама улыбалась хорошо и смущенно.
– Ты раздевайся. Посиди у меня, а то ведь скучно одной-то. Молоденькая ты очень. А у нас морозы. Как посмотрю на тебя… Не ходишь ты никуда. Одна все… А ты ко мне ходи. Ведь одна-то без людей надсадишься. Раздевайся… Старик сейчас придет.
Доченька…
Мне не хотелось никуда уходить. От ласкового участия, от нежного щемящего слова.
Тетя Шура взяла со стола пучки калины, разорвала тонкую связку и начала осыпать их на жестяной лист. Мерзлая калина подпрыгивала и стучала, как круглые стекляшки. Свет из окна падал на руки. Тетя Шура сдвинула калину на край листа, подняла его на грудь, и мерзлые шарики покатились по жести. Рука подхватывала уползающий сор, подбирала к себе наверх, отпускала, а загоревшаяся горка скапливалась внизу, росла отпотевшим рубиновым слитком. Рука ее казалась голубой в темных жилках, была маленькой, трогательной. Розовели перламутровые пуговички на кофте. Мне захотелось забраться на лавку с ногами, сидеть в теплом деревянном уюте и думать. Думать и понимать, что я не женщина, – тетя Шура женщина, а я только наблюдаю какой-то неизведанно красивый обряд, который она создала. Мне хотелось и хотелось смотреть на ее руки, не двигаться и вдруг узнать, что моя жизнь, мороз, книги на полке, Юрка – все это сон, только приснилось, и я почему-то знала, что такому сну была бы рада.
– Интересно тебе на нашу жизнь смотреть. Скучно, поди? У людей сейчас телевизоры появились. Смотрят… Жить-то теперь легче. Народ съезжаться стал. Чужих много. Вот и вы приехали. А раньше… Раньше ты нашу жизнь не видела.
Тетя Шура собрала упругие корешки в миску.
– Мужики все механизаторы. В этом году хлеба помногу получили и денег. Каждый месяц теперь платят. Мужики на машинах, а жены доярки. Вот и… Снарядные стали ходить. Дома себе новые поставили.
А мы раньше как строились… Со стариком из тайги лес привезли, а поставить – магниту не хватило. Два года срубом стоял. Возили-то на подводах, мужики по коню из двора давали – помочь. А сейчас бригада дом в тайге построит, прямо на месте. Трактор привезет. Бери… – с растрочкой на десять лет. А они за три года все расплатились. Помногу стали получать. Раньше я в колхозе за полтора трудодня по семьсот снопов навязывала. Молодая была. Спину вечером не разогну. А сейчас… так себе… Женщины на уборке и не бывают. Мужики все. И не знаем, когда уберут.
Что-то деда долго нет. К сумеркам он уже приходил. В конторе, наверно, опять. Я его ругаю: «Хватит нам, отец. Ну что ты опять идешь в эту кочегарку?» Мерзнет он там. Говорит – стыдно в контору ходить. А так… Отработает, уйдет к мужикам и сидит там… Как будто ровня со всеми. Никак не хочет остепениться.
– Теть Шур… Вы что делаете-то в башне?
– Воду качаю. Бак там большой наверху. Приду, печку растоплю, нажму кнопочку, и насос заработает. Скважину там пробурили. Из… искатели какие-то приезжали. Колхоз нанимал. Вот мотор воду и качает. Как бак наполнится, я другую кнопочку нажму… Вот и все…
– И не перекачиваете? Как же вы?
– Там же бокулочка деревянная плавает, а к ней веревочка привязана с гайкой. Я себе такую меточку на стенке сделала. Как грузик до меточки дойдет – так и все… Красота одна. Насос качает, а я сижу. И полтора трудодня записывают. Только один раз ночью задремала, вода сверху как польется, прям на голову. Я испугалась – ничего не пойму. Смех один. А опомнилась – вода на полу. Все пимы промочила. Потом песком засыпала – пол-то земляной. Всю ночь провозилась. Интересно… Да ты зайди когда-нибудь, посмотри. Вода-то теперь по трубам прямо к коровам подходит. Захотят напиться – подойдут, надавят носом на тарелочку, а вода сама льется. Отпустят, а ее нет. Коровы сейчас тоже как ученые. Разве это не кино?.. Новый председатель все выдумывает.
О председателе она сказала с нескрываемым одобрением.
– Любят у вас его, теть Шур?







