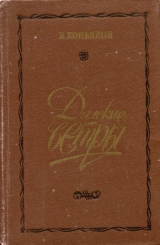
Текст книги "Далекие ветры"
Автор книги: Василий Коньяков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
XVIII
Обнажилась улица крестовых сибирских домов, исчезли тесовые заборы. Остались стоять перед крыльцами крытые ворота на толстых, в четыре обхвата, столбах, зазияли дома высланных чалдонов пустыми окнами с наличниками из деревянных узоров. Целый год пахло от них штукатуркой.
Потом забили окна свежими досками. Вскоре доски почернели от частых дождей, и деревня снова приобрела спокойный цвет.
Мужики вошли в колхоз, и пошла жизнь на новый лад.
На косогоре за домом Ивана Алексеевича, не затухая ни зимой, ни летом, на месте бывших дворов все еще горела унавоженная земля. Ее не тушили. В горячей золе можно было загрузнуть до пояса. Ветер сваливал гарь на согру. Пепел невесомыми лепешками оседал на кустарник. У колышущегося вала дыма прогоревшая земля уже прорастала нежной травкой и полынью.
Но однажды высокий дом Ивана Алексеевича, стоявший на отшибе в углу, с одиноким журавлем у колодца, всколыхнул деревню, разбудил еще не умершую жажду к наживе.
По утрам деревенские ребятишки прибегали к пустому дому Ивана Алексеевича. Лазили под стропилами пыльного чердака, протискивались в щель оторванной доски, карабкались по крыше, садились верхом на шершавый конек и босиком ходили по острию крыши.
Иногда разнообразили свои забавы – играли в прятки. Забравшись по столбу, прошмыгивали в треугольный лаз, в пустоту дощатой крыши ворот, затаившись, ждали запоздавших к игре сверстников. Высматривали запыленные, выгоревшие на солнце головы ребят и мочились на них сверху в щели.
Однажды догадались дергать из дранки под осыпавшейся штукатуркой гвозди, носить домой. Один из мальчишек залез в подполье, ползал на коленках по завалинке. В темноте у слепой отдушины попалась ему под руку тряпка. Не тряпка – длинный шерстяной чулок. Он потянул его, чулок не подался. Что-то в самой глубине его, в самом конце – тяжелое – не отпускало. Металлическая банка. Вытащили на свет. Раскрыли, а там новенькие блестящие кругляши стопками. Медали! Высыпали. Стали хватать кто сколько может – за пазуху, в карманы. Кто-то постарше предположил и крикнул: золото! Сыпанули домой.
Вот тогда-то несколько мужиков с лопатами, потеряв степенность, прибежали к дому Ивана Алексеевича. Разворотили ломами пол, перерыли завалинку. В комнатушке с крутой лестницей в подвал нашли привинченный на болты к глухой стене железный ящик, пустой, с раскрытой дверцей. Больше ничего.
Вскоре выпилили в доме Ивана Алексеевича стену, разобрали. В одной половине соорудили помост, над входом красный флаг вывесили, и стал дом Ивана Алексеевича «Нардомом». Теплыми вечерами в сумерки пошли к нему мужики семьями. Иногда за спинами трещал на ящиках аппарат с невыносимо яркой лампочкой, и на стене в темноте на желтом поле бегали дергающиеся смешные люди.
Из других опустевших домов в центре деревни контору построили, амбары к ней свезли, обнесли сплошным городом и въезд с большими воротами оставили. Стал колхозный двор с завознями и кладовой центром всех забот и сходок деревни.
Рядом с конторой школу поставили.
В школе «ликбез» организовали.
Матвей вечерами там баб учит. Всем тетрадки сшить велел. Палочки заставляет рисовать.
Дуня в «ликбез» два месяца ходила. Потом сказала Сергею:
– Посмотри-ка… – и протянула листок с тремя буквами: ЧЕС… – Фамилию свою научилась писать.
– Какая это фамилия? Три буквы.
– И что ж… И так видно, что наша фамилия – Чеснокова.
Сергей разулыбался, а Дуня зарделась.
– У меня еще лучше других выходит. Гордо похвасталась:
– Мне Матвей даже «уд» поставил. А другим «неуд». Больше не пойду. Мне и этого хватит. Научилась расписываться. – Тетрадку за божницу спрятала.
И пришла возможность достроить Сергею свою избу. Дал ему колхоз доски от одного пустого дома. Хорошие доски. Сухие. Плотник – докроешь. А крыть ими избу не хотелось. Словно надевал Сергей чужую ношеную одежду на свою душу.
Понимал: ни при чем здесь лес. Лес – он всегда одинаков. Он не живет жизнью хозяев. У него своя жизнь. И чем он суше – тем крепче.
А душа не соглашалась.
Тогда с весны Сергей стал доски обновлять, острагивать. Рубанок снимал сначала сбивающуюся тугим брикетом пыль. При втором слое под рубанком намечалась сизая, как голубиное перо, стружка, а при третьем – стружка была уже прозрачна. И доска желтела. Не такой видел Сергей крышу своего дома. Но было не до этого. Люди в деревне жили не стройкой домов – новую жизнь строили. И Сергей почувствовал и в себе, и в людях потребность в общей работе и приобщился к ней. А старую жизнь вместе со всеми, как с черного леса стружку, снял.
Семен, сын его, сейчас новый дом поставил из пиленого бруса. Под шифером. Веранду застеклили. Как у всех по улице. В дом воду подвели.
В старой избе старика куры зимуют, закуток свиньям отгородили. Изба осела углами, ушла в землю…
Что же так шумит в ушах?.. Может, далекий подпор мельницы… Или кран возле двери недокручен?..
XIX
Отвлекают его внуки. Они врываются в избу, сбрасывают с себя амуницию, тяжело дышат. Мишка вываливает из ранца все содержимое на стол, что-то ищет, а Ленька, тоненький, в короткой ситцевой рубашке, вылезшей из штанов, поднимается босиком на печку, перелезает через деда, задевая коленками, и, навалившись на стенку спиной, находит подошвами ног тепло печки, смиренно успокаивается.
– Деда, – говорит от стола Мишка, – а Ленька опять пятерку получил.
– По чем? – интересуется старик, чувствуя боком холодные пальцы Ленькиных ног.
– По арихметике, – говорит Ленька. – За устный счет.
– Опять считали? – Старик потрогал рукой Ленькины ноги, удивился. – Что они у тебя мокрые? Теленок сосал? Ты матери не показывай, а то будет нам…
– Я лучше всех считаю, – заявляет Ленька. – Меня только один Сережка Юдин по истории обгоняет.
– Чем хвалится. Задачи ваши нетрудные…
– Пусть трудные задают. Пусть любые. На последней страничке задачника смотрел – все решил.
– У вас во всей книжке задачек трудных нет. Думать не над чем. А ты хвалишься.
– А раньше были?
– Были… Вот такую одолей. Тогда будешь голова… Один мужик надумал торговать. Весы купил, а на гири капиталу не хватило. Он тогда взял и вытесал четыре камня. И стал ими развешивать коноплю, пшеницу – все. От одного фунта до сорока. Люди посмотрят на камни, усомнятся: как без гирь? Пришел акцизный, проверил – все правильно. Вот ты мне и ответь: в каких весах были у мужика камни, которыми он составлял все веса от одного фунта до сорока?
– Четыре камня?
– Четыре.
Ленька притих. Мишка тоже стал смотреть на печку, ждать. Ленька шевелил губами и перебирал пальцами рук, не отнимая их от теплой печки.
Старику надоело ждать. Он повернул голову к Леньке, увидел глаза, выделяющиеся в сумерках голубизной, нос его вздрогнул, короткая борода расплылась в улыбку. Ленька покраснел и полез с печки. Когда над печкой осталась одна его голова, сказал!
– Ну и что?
– А хвалишься, – сказал старик.
Мишка встретил Леньку на полу и стал с ним шептаться. Старик улыбался – Ленька походил на него самого в детстве.
Ленька надолго скрылся в другой комнате и, должно быть, занялся делом, которое не допускало Мишкиного участия. Мишка заглядывал к Леньке в двери и отходил. Вскоре начал канючить.
Не дождавшись брата, нарезал ножницами из соломы трубочки, расщепил их на концах, как птичьи лапки, и стал пускать по комнате мыльные пузыри. Несколько таких пузырей, радужных, с выпуклыми синими окнами, поплавали под потолком и лопнули у края полатей. Мишке одному играть скучно. Он попытался прельстить пузырями Леньку – тот не отозвался, и Мишка с укоризной посмотрел на деда.
Старику нравится Ленька. Узкоплечий, с тоненькой шеей, хрупкий и нежный, большеглазый, без упругости, без узлов, а вот сломать его трудно. Он вдруг запирался в насупленности, плотно сжимал пухлые губы, они даже наливались, и все лицо его сосредоточивалось в этих губах.
– Силен. – Деду всегда хотелось ухмыляться, глядя на него, всматриваться и вспоминать что-то.
Отец его, Семен, тоже в детстве был таким же. Закончил семь классов с похвальной грамотой. Учился в другой деревне. Приезжал со школьной самодеятельностью в свою деревню, читал стихи. Много раз приезжал, и вся деревня сбегалась посмотреть его выступление. И откуда это у него взялось, ненашенское, не деревенское. Выходил на сцену, выжидал минуту и произносил:
Контрразведка пытала в подвале…
Расскажи, комячейки, партком…
Шомполами ей тело хлестали,
Подпоручик топтал каблуком.
Выкрикивал это громко и спокойно. И люди замирали в морозном оцепенении. Сергею его маленький Семен казался после спектакля непонятным – родным и чужим, и хотелось говорить с ним уважительно.
До армии Семен стал трактористом. По месяцу домой не приезжал из тракторной бригады – в вагончике спал. А после армии изменился, будто что потерял. Ни на чем настоять не может. Стал проситься у председателя, чтобы послали его на шофера учиться в область за счет колхоза – несколько человек из деревни уже окончили годичную школу механизаторов, – председатель отказал.
– Шоферами быть и так много желающих. Трактористов не хватает. А ты тракторист хороший.
Семен сам на свои средства школу шоферов закончил. Приехал домой – председатель машину не дал.
– Где учился, там и работай. А колхозную дисциплину я никому нарушать не позволю. Коммунистам тем более.
Целый год на коне корм на ферму подвозил механизатор широкого профиля. Другой бы… Ишь… Председатель принципиальность выдерживал. А ты?.. Под лежачий камень вода не течет.
Старик вспоминает старые разговоры с Семеном, и внутреннее возбуждение коробит его, ломает, и, только что лежавший неподвижно, он поворачивается на бок. Старик не прощает сыну его неумения сопротивляться.
Было заложено в Семене много. Семен его последний. Он любит его, и потому ему особенно не хочется смириться с его безвольной добротой и простодушной правдивостью.
Семен напивается в гостях. Не буянит, не хорохорится, а пьет безотказно и отключается: там же, на лавке, спать остается. Старик никогда этого себе не позволял и не прощает это мужикам. Для него, если мужик от водки хоть раз упал, уважение к нему потеряно, потому что мужик позволил своему характеру сломиться. А это уж выправляй не выправляй – стержень не восстановится.
Когда много новых машин в колхоз пришло, председатель с Семена запрет снял, Сейчас механиком поставил. Семен головастый.
А старший сын Иван – другой. Приезжал из армии на побывку (он полковник, сейчас в запас вышел), приезжал с женой. Так тот сразу в контору, к председателю, и целыми днями с ним по полям на машине шастал, донимал его своей философией, подсчитывал:
– Значит, что же? Куры у вас всего один год живут? Один год вы из них все выжимаете, а потом?..
– Потом на убой. На продажу…
– Как же так? Ведь раньше у крестьян, я знаю, были старые куры, по нескольку лет жили и неслись. Что же? Весь этот их вековой опыт побоку?
– Самая хорошая отдача несушки до одного года. И выгоднее не сохранять старую, а выкормить новую.
– Да… Страшноват рационализм. Курица у вас как автомат производства яиц. Уменьшила отдачу – под нож.
Иван замолкал, а потом опять:
– Должность у тебя, председатель… Значительней командира части. Тот связан приказом, который не позволяет ему отступать от буквы устава, а твоя работа на творчестве, на инициативе…
Иван с высоты своего звания, которое позволяло ему разговаривать с председателем на равных, начинал подтрунивать:
– Председатель в деревне должен еще иметь хороший вкус… Вон новый переселенец поставил свой дом в логу. И фундамент залил набок. Теперь и дом – набок. Добротный, а набок, и при въезде в деревню. А ты ему позволил вот так построить. Ты, хозяин. А он не рубит в этом деле и всю деревню тебе набок подал, испортачил. Ты мимо этого фундамента, наверно, тыщу раз проехал, видел, а позволил…
Иван то ли упрекал, то ли подшучивал.
Или:
– Лес-то за войну в деревне вырубили. И в огородах даже. Ты печешься о деревне. Вон тополя вдоль улицы насажали. Скажи, ведь распорядился, а?.. Распорядился?.. Вот растут… А знаешь, как летом с них пух полетит – вата с зернами глаза все иссечет и красоты не увидишь. А кругом в согре у тебя такой выбор деревьев. И черемуха, и… А как все на этой земле растет… Ты у одного дома посади яблони – они в Сибири уже плодоносят, а рядом воткни елку. Елки в сибирской деревне перевелись, это надо же!.. Нет поблизости – привези на машине, распредели: в какой двор две, а в какой не надо, с учетом декоративным. Яблони в палисадниках зацветут, а рядом елка… А у другого дома – черемуха, малина, березняк рядом. Сади… и все планово. Вот это память о председателе. Не только деревню обновил, а настоял на такой, какую представила фантазия…
– Манилов… Ну Манилов… Как вас в отставку проводят, вы заболеваете зудом обличения. Если ты такой… – Председатель вдруг удивился какой-то мысли, от неожиданности остановил на улице машину и посмотрел на Ивана без насмешливости: – Иди ко мне заместителем. Сразу новый дом дам. И занимайся своими прожектами. Только кроме этого у тебя еще и другие обязанности будут…
А Иван и впрямь возвращался домой только ночью, он жил странным удивлением перед деревней и выкладывал дома свои замечания и планы. Не соглашался с отцом, отрицал его доводы и все поворачивал по-своему. Пока Иван гостил в деревне – вместе собирались поздно вечером.
Иван заранее приготавливал водку – он не признавал ужин без бутылки.
Сидели на веранде с открытой дверью: Иван, его жена, Клава – она поздно возвращалась с работы. Ждали Семена.
Семен приезжал на машине. Знал, что в доме гости, а входить не спешил. Включал фары, расстилал перед ними грязный положок, вставал на колени и промывал в банке с бензином крохотную корзиночку из сетки – фильтр. Что уж там в темноте видел? Мотыльки над головой в свете фар бились. Руки Семеновы в отработанном масле как отрезаны до кистей, их у него нету в полусвете, не видны, кажется, он култышками движет. Только блеск на них нехороший, скользкий.
Ленька около него крутится, тоже продувает что-то, ключами стучит и в избу не заходит, хотя день с отцом на одном сиденье просидел, по дорогам прыгал.
Людмила из сочувствия Клаве, по своей инициативе, к столу все готовит.
Сходила за баню в огородик, нарвала огурцов. Она научилась их нащупывать под шершавыми листьями и в темноте – тяжеленькие, холодные, с беленькими боками.
Надергала из грядки пучки зеленого луку, отщипнула укроп. Густым растревоженным запахом в ночи он ее задурманил. Она постояла, привыкая к нему. Приготавливать огурцы ей нравится по-деревенски: нарезает кружочками, солит и, взяв чашку за края, начинает подбрасывать.
– А-а!.. – восклицает Иван и шумно дышит широкими ноздрями. – Вот мне чего в жизни теперь не хватает. Да… Этого теперь и всем не хватает.
И Людмиле:
– Видишь, какое расстояние они от грядки до стола проходят? Метры. И запах не успевают растерять. Все естественно. Разве от такого запаха человек не будет здоров… Даже лук… – Иван отщипывал стрелку, – какая свежесть! Не тронут. Ломается. Я даже брызги его вижу, как от нарзана. Как нарзан нельзя держать открытым – выдохнется, так и лук. Вся их крепость исчезает.
Появляются мазутные Семен и Ленька. Иван с серьезный видом успевает облапить Леньку за плечи.
– Иди-ка сюда, механизатор. – Отваливается спиной на стенку, Леньку перед собой на вытянутые руки отстраняет, с бодрым участием рассматривает. Вдруг оживляется.
– Семен, повернись ко мне.
Иван начинает хохотать. А у Леньки точно так же, как и у отца, испачкано лицо: губы, левый глаз и подбородок.
– Ну, хлебороб! Скажи, под глазом уж так намазал? Нарочно? У отца подсмотрел?
Ленька старается освободиться из его колен, но Иван крупными руками удерживает его за спину, и Ленька головой притыкается к его груди. Людмила между тем продолжала возникший разговор:
– Я понимаю… Свежее молоко, зелень с огорода… А не из чего приготовить порядочную окрошку. Меня удивляет: летом в деревне невозможно купить мяса. Вот… Приехали отдыхать, а не можем съесть того, что хочется. Почему колхозники себе-то в эти месяцы в самом необходимом отказывают?
– У них разгрузочная пора, – вставлял Семен. Он только что умылся. Настроен был благодушно. – Они летом говеют… Поговей – обессилишь. А в это время их скот, наоборот, на травах нагуливается. А слабому сильного – попробуй поймай…
Иван сам наливает водку в стакан. Кружочки огурцов он уже попробовал и укроп пожевал.
– Недобираете вы, – говорит Иван, уверенно отставляя стакан. – Я смотрю, все у вас есть, а вы… Мало сами себе даете. У вас даже искупаться теперь негде. Весь берег Ини загадили – машины моете. Стадо весь день у брода на песке толчется, хвосты отмачивает. Намыли бы себе пляж… Песочек свежий. Да после работы… Река почти рядом – благодать. Нет… Сами у себя реку отняли.
И вот уж по лицу Семена видно, что у них сейчас начнется.
Он ест и говорит как бы между прочим:
– Мясо приготовьте. Огурцы насадите и не опоздайте к столу принести, чтоб с них роса не обсохла. Песок на реке намойте… Дядя и тетя наедятся и загорать пойдут. А ты, Семен, ишачь. Ты хлеб сей.
Семен ищет что-то на столе, приказывает Клаве:
– Ты мне от целой булки нарежь, а то что это…
Иван с неудовольствием качает головой.
– Знакомый уровень. Не пойму я тебя… Ты служил в армии шесть лет и семь классов закончил – так же, как и я. Но моим семи классам нужно еще и то, и то. А ты свои законсервировал. Знаешь… как соты пчелы… И все… Это только и при тебе. Суть пойми. Все вы тут такие стали. Глянешь вечером – никого на улице. Что дома делают? Позавчера лектор приезжал. Лекция интересная, непосредственно каждого из вас касается. «О перспективном планировании в сельском хозяйстве». Я с ним до двенадцати часов в клубе просидел, людей ждали. Знаешь, сколько человек пришло? Семь. Вместе с ребятишками. И тебя не было.
– Вот ты мне всю эту лекцию сейчас и расскажи, – со значительным безразличием попросил Семен. Налил себе и в молчаливой обособленности выпил.
– Болтовня все это. Я не знаю, как прицеп к машине оборудовать. Скоро уборка начнется, а у нас нечем зерно возить. А он – лектор. Лучше бы вместо лекции прицеп привезли.
– В общем, у вас так… Что ни дай – все мало.
У Ивана багровое, не очень здоровое лицо. Он медленно, ощупью вбирает в себя воздух.
– Ну прицепы – это колхозу… А вот что тебе, твоим семи классам надо?
– Если колхозу, значит, и мне. И весь мой уровень. А ты как думаешь?
Семен поднялся от стола, как бы давая понять, что ответ ему неинтересен.
– Да-а… До вас не достучишься, – укоризненно заканчивал Иван.
Вот и весь разговор. Холодно из-за стола вставали, с недоговоренностью.
Утром без Семена Иван продолжал этот разговор с отцом.
– Никакие у них желания не прозревают. Как вы свою жизнь прожили впотьмах, так и они продолжают. Машин только побольше стало.
– Тоже чего-то хочет, – задумывался старик. – Как будто все знает: деревня… Запах… А родного ничего не блюдет…
И спорить с Иваном старику не хотелось. Он отстранялся от него – был больше согласен с Семеном.
Жена Ивана с утра начинала собираться на речку: надевала на себя какую-то одежду – трусы не трусы, рубашку не рубашку – купальник. Купальник весь в вырезах. Он не для того, чтобы в нем спрятать себя, а чтобы все показать. И как распирают материю сиськи, и до каких пор можно оголить ноги, и до каких пор сделать вырез на спине.
Крутилась в нем перед зеркалом, поглаживая себя в тугом шелке кругом. Надевала сверху сарафан на лямочках с такими большими красными цветами, что даже после ее ухода долго в глазах мельтешили с огромными крылами бабочки.
Уходила она загорать с сумкой, полотенцем и большой подстилкой. На реке голые мальчишки, загорелые до железной окалины, носили на прутиках связки рыбешек, лазили по глинистым скатам берегов.
Людмила лежала на песке – читала или наблюдала, как в обед моет в речке машину председательский шофер. Иногда поднималась она наверх, на поляну, где на траве девочки играли мячом, и, включившись в их круг, играла с ними в волейбол. Часам к трем, наигравшись, она приходила домой.
После обеда Людмила приводила себя в порядок – красила над ресницами веки, и на лице ее сразу обозначались глаза. Потом начинала красить губы. Этим она занималась долго. Губами она как бы принимала краску – они у нее мягкие и нервные.
Когда губы были готовы, она вся как-то менялась, и на лице ее видны были уже не глаза, не губы, а брезгливость. Брезгливость уже не сходила. И тогда было видно, что в деревне Людмиле не нравится. Не нравится пыль на дороге – в чистом не пройдешь.
Старику сноха напоминала красивую гусеницу с лохматой радужной окраской. Переливается, горит шелковым ворсом, лениво пошевеливая мягким телом на ветке или на яблоке, позволяет любоваться собой. И там, где полежит, обязательно червоточинку сделает, плод пробьет и источит самую сердцевину.
Старику хотелось подняться, отстранить властно Ивана, наклониться и шлепнуть ладонью по голому заду невестки так, чтобы та взвилась от боли. Нет, не ладонью, а широким ремнем, чтобы жизнь хоть раз коснулась ее своей болью, затронула хотя бы единственное человеческое чувство и отучила выворачивать так всему свои крашеные губы.
Людмила пожила в деревне десять дней и собрала свои вещи в чемодан.
Иван возмущался приглушенным голосом, запершись в другой комнате.
– В конце концов, мы самостоятельны… И ведь ты сама, сама не хочешь никуда со мной ходить. Неинтересно… Но я должен побывать всюду. Меня приглашают друзья детства. Мы с ними из одной чернильницы любовные записочки писали. – Иван шутил.
Утром Людмила самостоятельно ушла с чемоданом в контору, самостоятельно нашла попутную машину на станцию и самостоятельно уехала. Полковник уехал следом.







