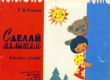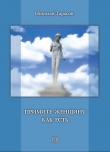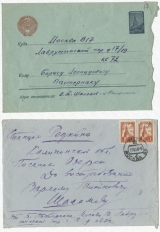
Текст книги "Переписка"
Автор книги: Варлам Шаламов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
В.Т. Шаламов – Я.Д. Гродзенскому
Москва, 31 июля 1968 г.
Дорогой Яков.
Спасибо за открытку. С сыном твоим я уже говорил по телефону о протезисте. Сергей Яковлевич был так терпелив, что добился понимания лишь вторичным звонком.
Работа по стихотворным переводам мне хорошо знакома. Я много переводил в 1956/58 году и для «Советского писателя», отдела поэзии народов СССР, и для Гослита, и для «Иностранной литературы» – издательства, а не журнала. Для них я перевел несколько стихотворений Радована Зоговича[255]255
Радован Зогович (р. 1907) – поэт, критик, публицист, писал на сербохорватском языке.
[Закрыть] – это очень хороший современный поэт, серб, на сербохорватском языке пишет. Переводы были трудные, но интересные, и я не пожалел времени, тем более что тогда из «Москвы» меня вышибли, и было надо что-то делать. Я перевел Зоговича хорошо, удачно. Редакторам очень понравился. Однако оказалось, что издать Зоговича у нас это хитрость сталинистов московских. Оказывается, Зогович – враг Тито, ярый сербский сталинист, всю силу тратит на борьбу с Тито. Когда после романа с Югославией – Хрущев уступил нажиму справа – в Москве стали спешить готовить сборник стихов Зоговича, пока что у нас издававшегося, а когда определился курс на сближение с Югославией, Зогович был неуместен. Его и не издавали, и вся моя работа пропала. (Кроме уплаты грошового аванса.) И я материл Слуцкого нещадно про себя, что не предупредил о сталинистском роке Зоговича. Я бы все разгадал и не взялся. Переводы стихов – дело хорошее и не трудное, хотя и очень неприметное. Строк 300–400 в день я переводил, а Евтушенко уверял, что может переводить до 1000 строк за шестичасовой рабочий день. Возможно.
Главный минус этой работы в том, что по нашей издательской практике материальный эффект наступает только через три года (как и с изданием обычных стихов).
В «Советском писателе» я когда-то, году в 1957 (?), переводил Исхака Машбаша. Это такой адыгеец, партийный pa6oтник, начисто бездарный человек (как, между прочим, и Джалиль – Муса Залилов, которого я хорошо знал по университету и общежитию в Черкасском переулке).
Машбаш жал на все свои партийные национальные педали, требуя превратить его в поэта. А когда увидел, что я этого делать не хочу, отказался от моей работы по переводу его стихов. Сотрудники «Советского писателя», да и сам я много раз его спрашивал, в чем все-таки дело конкретно. Образ, тон пропал, что ли?
– В ваших переводах слишком много буквы «и», – объяснил Машбаш. Ну, тут я с ним расстался. Так что не все на этом поэтическом горизонте тепло и ясно. Написал тебе целый трактат.
Привет Н. Е.
В. Ш.
В.Т. Шаламов – Я.Д. Гродзенскому
Дорогой Яков.
Сердечная благодарность Нине Евгеньевне (и тебе) за рецепты и справку о Меньеровской болезни. Неожиданности могут быть всегда (вроде падения в Ленинской библиотеке и спор с милиционером в метро). Пусть справка будет в кармане на всякий случай.
Пусть Нина Евгеньевна не боится, что я как-нибудь не так буду принимать атропин. Я принимаю на сахар по 7–8 капель два раза в день десять дней в месяце. Потом двадцать дней отдыха и снова десять дней по 2 раза в день 8 капель на сахар.
Я атропин принимаю 10 лет по этой прописи. Раствор этот много лет во всех аптеках давали по рецепту без печати и не отбирали рецепта. Собственной рукой Циммермана выписанный рецепт служил несколько лет – бумага была меловая. А года три назад стали отбирать рецепты и по осложнению лечение пропускать нельзя, а рецептов не дают врачи.
Желаю тебе всякого добра. Если увидишь Солженицына – передай ему привет. Карлику тоже. Я видел его сына недавно, в то время, когда отец отмечал 70-летие.
Жму руку. Напиши, когда приедешь в Москву.
В. Ш.
В.Т. Шаламов – Я.Д. Гродзенскому
Москва, 27 ноября 1970 г.
Яков,
Сейчас в Москве идет борьба с пьянством, поэтому меня задерживают на улице чуть не ежедневно – в метро, троллейбусах, около магазинов и водят в милицию, где справка Нины Евгеньевны не всегда помогает. Я ведь не могу разъяснить справку спокойно – тогда бы и справки не надо. Я начинаю волноваться, горячиться – и впечатление алкогольного опьянения усиливается, а не уменьшается. Так было уже десятки раз за последние 10–12 лет. Вчера милиционер близ Краснопресненского метро (той самой станции, где я на выезде по эскалатору упал в первый раз в 1957 году, получив навсегда инвалидность) сказал так, просмотрев эту справку: «Справка справкой, а сейчас вы пьяны, и в метро Вам не место. Идите домой».
Нельзя ли у Нины Евгеньевны попросить справку, более понятную для работников метро и милиции, проект которой я прилагаю к письму.
Рецепты мои на нембутал на исходе, и если Н.Е. возобновит свою любезность – буду очень благодарен. С такой же просьбой я обратился бы к Вере Федоровне и жду твоего приезда.
Но все это – не главное.
Главное же в том, что я сейчас в срочном порядке, в декабре 1970 года, возобновляю хлопоты о пересчете пенсии на основании последних законов, о которых ты знаешь: включение литераторов в писательские списки.
В прошлом году у меня не было заработков, дающих право на успех перерасчета, а в 1970 году я получил по договору с «Советским писателем» за книжку стихов и как бы ни малы эти деньги (1000 рублей) при одобрении, при выплате 60 % по договору, я эти деньги уже получил вместе с другими заработками. Собирается за 1970 год сумма, достаточная для права на успешный пересчет. Моисей Наумович согласен мне помочь. Но нужно, даже необходимо, твое именно присутствие, консультация и информация.
Надо рассказать, как оформлялась пенсия тобой (документы, приемы, справки, разговоры в собесе), словом нужен именно твой совет, именно тот опыт – именно потому, что ты, и Н.Е., и В.Ф. понимают истинную сторону юридической природы некоторых человеческих прав.
Словом, мне хотелось бы по этому крайне важному вопросу повидаться с тобой, до подачи заявления в собес.
Когда ты будешь в Москве? Напиши, позвони, я приеду на Русаковскую, и мы обсудим перспективы этого моего нового ходатайства. М.Н. не очень ясно представляет себе особенности этого рода хлопот, стоя на гранитной почве классического документа, вроде копии трудовой книжки, тогда как мы с тобой смело вступали на зыбкую почву медицины и держались на ней уверенно.
Вот это-то все я и прошу тебя срочно со мной обсудить.
Сердечный привет Н.Е. Яблочное варенье доедено, и я шлю тысячи благодарностей.
Твой В. Ш.
P.S. Можно провести и другое сравнение. М.И. стоит на граните социалистического реализма, а мы с тобой предпочитаем зыбкую почву модернизма и держимся на ней достаточно уверенно.
В.Ш.
Проект справки.
Крупно: Медицинская справка
Больной писатель Шаламов Варлам Тихонович, 1907 г.р. страдает (хронически болен)
Пропуск
Крупно: Расстройством вестибулярного аппарата, что проявляется в шаткой походке (неустойчивая), заикании, потере слуха, головокружении, тошноте.
Пропуск
Больной может ошибочно быть принят за пьяного. Заплетающаяся речь. Больной может внезапно упасть. В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному первую помощь: помочь лечь в горизонтальное положение, положить в тень, облить голову холодной водой, ноги согреть.
Пропуск
Вынести на свежий уличный воздух из душного помещения, только не на солнце.
Не усаживать и не поднимать головы.
Вызвать «Скорую помощь»!
Разрывал и вновь заклеивал конверт я сам.
В.Т. Шаламов – Я.Д. Гродзенскому
Москва, 8 декабря 1970.
Дорогие Нина Евгеньевна и Яков.
Сердечно благодарю за срочную помощь и прошу выразить все мои благодарности Льву Наумовичу, хотя у меня с ним разные мысли о путях прогрессивного человечества. Но разве в этом дело.
Медицинская справка текста профессора Карлика в высшей степени улучшила мой проект – и уже применялась в объяснении с водителями троллейбусов – ибо те имеют те же задания, что и милиция, и служащие метро.
Собственноручно профессор успокаивает, приводит меня в состояние глубокой благодарности.
Успокой Нину Евгеньевну. Нембутал я принимал двенадцать лет, каждый день не увеличивал дозы, хотя имею указание приема от профессора только увеличить, если надо. Но мне – не надо. Что касается пенсионных дел, то, конечно, новость есть, и эта новость заключается в правительственном законе о уравнении в правах с писателями трех московских групп литераторов. Случайно я оказался в числе людей, которые состоят на профсоюзном учете, именно в такой организации.
Нужен только заработок. А заработка у меня нет, ибо за стихи платят гроши и из многочисленных моих публикаций на пенсию не скопилось.
1970 год выходит с привлечением Казахстан, издательства, журнала и Гослита на 2400 рублей.
Но оказалось, что надо справку за 2 года – а не как я думал раньше. На ту же пенсию, что получал я, жить нельзя в Москве, по два рубля в день.
Жму. Привет.
В. Ш.
Огорчен твоей болезнью. Желаю поправки. У меня нет такого желания пить и никогда не было – в 1956 году меньше всего, но я отношусь с уважением к этому мнению. Сердечный привет.
В.
В.Т. Шаламов – Я.Д. Гродзенскому
Москва, 7.1.71
Яков, как твои дела? За твои добрые дела тебя следовало наградить бессмертием. Но бессмертие вовсе не исключает кратковременных недомоганий, всевозможных кризов?
Не можешь держать перо в руке. Ответь в двух словах.
Твой В. Шаламов.
Карточка Н.Е. и профессора Карлика дают мне необходимую уверенность. Но даже вчера вечером пришлось ее предъявлять прохожему милиционеру.
«Выпил, старик. Ну, иди, иди».
Сердечный привет И.Е. и профессору Карлику.
В.
1962 – 1971
Переписка с Лесняком Б.Н
Б.Н. Лесняк[256]256
Лесняк Борис Николаевич, Савоева Нина Владимировна – знакомые В. Шаламова по колымской больнице «Беличьей», где Н.В. Савоева была главным врачом, а Б.Н. Лесняк – фельдшером, где Шаламов с перерывами лечился в 1943–1945 гг. В. Шаламов поддерживал с ними дружеские отношения вплоть до эпизода, описанного им во «Вставной новелле». В. Шаламов «Воспоминания». М., 2001.
[Закрыть] – В.Т. Шаламову
Магадан, 18.11.63 г.
Здравствуй, Варламушка!
Письмо твое ходило без малого месяц. На Пролетарской мы не живем с 1959 г. Жаль, но помочь мы тебе не можем. Калейдоскоп рассохся, и стекляшки перемешались. Память вырывает из прошлого все меньше и меньше частностей. Мы оба не помним ни имени Кривицкого,[257]257
Кривицкий Роман – журналист, погибший на Колыме, упоминается в «Воспоминаниях» В. Шаламова о больнице «Беличьей».
[Закрыть] ни его лица. Если хочешь, мы можем запросить архив УСВИТЛа…
Что же ты не пишешь ничего о себе? Как здоровье? Как дела? Что пишешь? Что печатаешь?
Я, наконец, решил попробовать силы: пишу маленькие рассказы и печатаю в газете. Мечтаю о рассказе психологического плана. Серьезной работы не получается – не хватает ни времени, ни сил. Я долго не хотел обращаться к теме лагеря. Однако не выдержал и начал писать цикл маленьких рассказов-зарисовок. Но это оказалось не так-то легко сделать со здоровых позиций социалистического реализма! Один рассказ получился вполне самостоятельным, рассказ-этюд о пеллагрезниках. Я тебе его пошлю. Хочу услышать твое мнение. Здесь о нем судят по-разному, но печатать пока не решаются.
К концу года должен сдаваться кооперативный дом в Москве, а у нас еще половина долгов не уплачена.
Нина и Танюха едут в отпуск в мае, я, очевидно, – в июле.
Здоровье – ни к черту! И поэтому грустно.
Когда-то мне казалось, что я переполнен сюжетами. А на поверку оказалось – наоборот! Или разучился жизнь наблюдать или никогда не умел анализировать происходящее.
Для рассказов о лагере мне не хватает острых и значительных по содержанию сюжетов. А писать о лагере, я полагаю, нужно. Уходят из жизни последние участники и свидетели тех дел и тех лет. И рассказывать о нас будут Нефедовы, Гарающенки, Семены Лифшицы,[258]258
Сотрудники журнала «На Севере Дальнем», весьма конъюнктурные авторы.
[Закрыть] в лучшем случае по подстрочникам.
Напиши, друг, о себе, о делах, о московских новостях!
Ольге Сергеевне большой привет.
Нина передает тебе самые лучшие пожелания!
Жму руку.
Борис.
В.Т. Шаламов – Б.Н. Лесняку
Москва, 22 февраля 1963 г.
Дорогой Борис, о Романе Кривицком никого запрашивать не надо, об этом позаботится его брат. В письме твоем очень много вопросов, постараюсь ответить, как могу и понимаю. Писать нужно все время, не стремясь обязательно к напечатанию, это вещи очень разные – печататься и писать.
Конечно, рассказ психологического плана есть единственно достойный род прозы. И уж кому, как не тебе, заставить поработать мелочи, подробности для этой цели. Надо иметь большую волю, отвлечься, вернуться в утраченное время, перечувствовать тот мир – обязательно с болью душевной, и на эту боль придется идти, без нее ничего не получится. Словом, надо пережить, перечувствовать больное. Ни о каких «позициях» думать во время работы не надо – все будет испорчено. Позиция – это для критиков и литературоведов, но не для писателя.
Рассказ охотно прочту.
Солженицын показывает писателям, что такое писательский долг, писательская честь. Все три рассказа его – чуть не лучшее, что печаталось за 40 лет.
Сюжеты вернутся, если поработать прилежно. Ты не разучился наблюдать жизнь, а не приобрел еще писательских навыков. О лагере надо писать обязательно, фиксировать все это, пока не исчезло, не рассыпалось, да и память – инструмент не совершенный, не надежный. Потому у тебя и затруднения с сюжетом. Надо вернуться не столько мыслью, сколько чувством в этот мир.
Что касается Нефедовых, то недавно ко мне приезжал журналист Виленский и просил меня дать стихи для альманаха «На Севере Дальнем».
Когда-то с господином Нефедовым и Николаевым я обменялся письмами по этому поводу, от предложения Виленского я отказался. Нине Владимировне мой сердечный привет.
Это письмо общее Нине Владимировне и тебе, Ольга Сергеевна шлет вам обоим привет.
В.Т. Шаламов – Б.Н. Лесняку
март 1963 г.
Дорогой Борис.
Рассказ «Три Д» для печати не годится. Успех художественного произведения решает его новизна. Эта новизна многообразная: новизна материала или сюжета, идеи, характеров, психологических наблюдений, которые должны быть новы, тонки, новизна описаний, в пейзаже, в портрете, свежесть, своеобразность языка.
Всего этого тебе еще предстоит добиться. Особенно испортил рассказ «Три Д» – райским хеппиэндом о дочери, играющей на пианино. Это – дешевый газетный прием, который может угробить любую вещь…
Впрочем, что тебе надо очень хорошо понимать то, что правда действительности и художественная правда – вещи разные. Истинно художественное произведение – всегда отбор, обобщение, выводы.
Наконец – материал. Наша сила в нашем материале, в правде, действительности, поэтому, если ты не задался целью описать характер, лучше писать суше, фактами и именами, ничего не искажая. Тогда к произведению прибавится сила документа, сила особая.
Конечно, если художник добивается успеха – в преодолении действительности, в борьбе с мемуаром не потерял силу мемуар. Достоевский в «Записках из Мертвого дома», Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича».
Но уже Толстой в «Воскресении» с его тюремными сценами слабоват, второсортен.
Я думаю, что тебе надо больше писать.
В. Т. Шаламов – Б.Н. Лесняку
5 августа 1964 г.
Дорогой Борис!
Получил твою посылку и за все благодарю. Магаданский значок изящен, символичен, но был бы еще лучше, если б вместо елки в левой половине щита стоял стланиковый куст или лиственница – никакие другие деревья не могут быть символом Магадана, знаком Дальнего Севера, в том числе и ель. В комиссии, утверждающей проекты, должны быть люди, понимающие разницу между елью и лиственницей – именно в нашем, колымском, лагерном плане. Для нас не всякая хвоя была символом жестокости, недружелюбия, угнетения и не всякая хвоя была знаком надежды.
Очень хорош учебник географии Петрова.[259]259
Петров В.М. «География Магаданской области». Магадан, 1964.
[Закрыть] Благодарю за подарок. В нем, конечно, нет очень многого – и в части исторического содержания, и в подробностях колымской природы (стланик, поднимающий свои ветви среди зимы от костра и опускающий их, когда костер погаснет; грибы-великаны, будто выращенные модным гидропонным способом, цветы без запаха, птицы без весеннего пения, весна без дождей и многое, многое другое), и все же работа Петрова – лучшее в своем роде издание, наиболее ответственное (поскольку это – учебник). Я вспоминаю, что в школьные географические учебники в течение сорока лет не включали одну восьмую часть Советского Союза – ту самую, о которой написана работа Петрова.
Теперь о вопросах принципиальных. Ты пишешь, что не понял моего замечания о стихотворении «Шоссе».[260]260
«Шоссе» – стихотворение В. Шаламова, написано в 1957 г., опубликовано в кн. «Огниво». М., 1961.
[Закрыть] Постараюсь объяснить подробнее. Стихи пишутся не для того, чтобы по ним изучали природу, топографию местности, улицы и площади. Стихи – не путеводитель по городу. Ни при возникновении замысла, ни при записи, ни при окончательном контроле и шлифовке – никогда и нигде в творчестве не ставится задача изучения природы, описания природы. В стихотворении речь идет о душе и только о душе. Более того: пока пейзаж не заговорит по-человечески – его нельзя и называть пейзажем. Это будет лишь мертвое описание, лишенное поэзии, не способное тронуть человеческое сердце.
Стихотворение «Шоссе» (которое выбрано тобой как пример изображения «труженицы-дороги») написано только для того и только потому, чтобы показать, что все бурлацкое, все каторжное, что я знаю об этом мире, – заслуживает ангельской, небесной жизни. Вот суть этого стихотворения, его мотив и смысл.
О рецензиях. Твоя рецензия,[261]261
Лесняк Б. «Север, север». «Магаданская правда», 1964, 24 июня.
[Закрыть] повторяю, мне понравилась, хотя она и написана по тем канонам, которые преподаются в школе и в литературных кружках, Я должен всегда помнить, что ничего другого редакция и не напечатала бы, вероятно. По всей вероятности это максимум возможного.
Рецензию В.М. Инбер[262]262
Инбер В. «Вторая встреча с поэтом». «ЛГ», 1964, 23 июня.
[Закрыть] оценил очень невнимательно. Дело не только в доброжелательности. В рецензии начат очень важный разговор о том, что делать с бесчисленными «Самородками», вроде шелестовского,[263]263
Шелест Г.И. (1898–1965), рассказ «Самородок» опубликован в «Известиях», 1962, 5 ноября.
[Закрыть] и творениями Алдана-Семенова,[264]264
Алдан-Семенов А.И. (1908–1985) – автор ряда книг, в том числе повести «Барельеф на скале», ж. «Москва», 1964, № 7.
[Закрыть] заполонившими поэтический рынок. Можно ли простить выступления целой тучи бездарностей – только потому, что они «сидели» в свое бремя. Может ли простить их выступления поэзия – «пресволочнейшая штуковина», В.М. Инбер считает, что нельзя. Ибо искусству (к сожалению или к счастью, как на чей вкус) нет дела до того, страдал бездарный автор или нет. И я считаю, что нельзя. Возможно, эту мысль надо было, можно было выразить яснее. Возможно, редакции «Литературной газеты» кое-что в этом отношении следовало прояснить. Но В.М. Инбер принадлежит уже не один десяток лет к числу писателей, которых в редакциях не правят. В.М. Инбер не нравилось в «Огниве» стихотворение «Камея» (неполный текст) пока я не познакомил ее с полным текстом этого маленького стихотворения. Свое изменившееся мнение В.М. сочла нужным подтвердить публично, официально (в рецензии).[265]265
В «Огниве» (1961)стихотворение «Камея» было опубпубликовалось без купюр
[Закрыть]
В рецензии В.М. Инбер есть одна ошибка. Речь идет о стихотворении «Виктору Гюго». В.М. показалось, что это стихотворение относится к лагерю, тогда как «нетопленый театр» – это Вологда моего детства, двадцатые годы, самый первый увиденный мной театральный спектакль – «Эрнани» с Н.П. Россовым (был такой в России знаменитый бродячий актер-трагик, игравший глубоким стариком роль молодого короля Карла в этой пьесе). Вот это – восхищение, ошеломление детских лет, вызванное первым театральным спектаклем, восхищение гением Виктора Гюго я и старался выразить. (Человек, сказавший, что Виктор Гюго жил и умер мальчиком с церковного клироса, – Анатоль Франс – фигура ничтожная по сравнению с Виктором Гюго.) Вот о чем шла речь в стихотворении «Виктору Гюго». А Вере Михайловне Инбер показалась, что тут речь идет о лагере, о нетопленом театре в снежной Вологде, которая кажется В.М. чуть ли не краем света.
Я хотел написать ей об этом в письме (у меня есть ее письма), но потом передумал и оставляю ее отклик как некий общественный и литературный факт, как своеобразную аберрацию. Лагерь был и остался книгой за семью печатями, В. М. Инбер считает худшим наказанием смотреть «Эрнани» в снежной Вологде – дальше этого представить человеческие страдания автор «Пулковского меридиана» не решается.
В этой ошибке есть нечто общее с впечатлением читателей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Большое количество читателей принимают повесть как изображение картины «ужасов» – а до подлинного ужаса там очень, очень далеко, и надо было десятилетие, по крайней мере, смертей, произвола (который только сейчас называется произволом), чтобы получить этот «каторжный лагерь». Все это – такой интересный и психологически значительный оборот дела, что я решил не нарушать иллюзию.
Наконец – третий важный вопрос – о значении Крайнего; Севера в моей работе (или творчестве, как теперь говорят). В пушкинские и даже некрасовские времена слово «автор» обозначал «сочинитель», писатель. Теперь же пишут: «автор гола в ворота «Спартака», «создатель гола, творец голевой ситуации» и так далее. Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или, по крайней мере, Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север, а точнее лагерь, ибо Север только в лагерном своем обличье являлся мне, уничтожил эти мои намерения. Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только великий гнев, которому я и служу остатками своих слабеющих сил. В этом и только в этом значение Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) – школа отрицательная с первого до последнего часа. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерь. Никаких тайн искусства Север мне не открыл. Есть одно важное наблюдение, заслуживающее особого разговора, но связанное и со сказанным только что. Писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо знать свой материал. Если писатель знает материал «слишком» – он переходит на сторону материала и теряет способность выступать от имени читателей, для которых он пишет (в смысле настоящего писательства, а не заказа). Читатели перестают понимать его. Связь нарушается. То, что казалось раньше важным ему и его читателю, – сейчас кажется чушью, пустяками – и это не новое открытие мира, в который он может ввести читателя (это бывает всегдашней писательской задачей), а страна, где говорят на другом языке и думают по-другому. Драка из-за куска селедки важнее мировых событий – это наиболее простой пример «сдвига», «смещения масштабов». То, о чем сказано скороговоркой, походя и автору понятно и близко (иное решение нарушает художественность словесной ткани, как примечания, сноски разрушают стихи), – для читателя требует подробного, постепенного, а главное – талантливого предварительного объяснения. Писателю же в это время такая подготовка кажется не нужной. Да и не всегда возможно объяснить. Таких примеров ты можешь сам представить бесчисленное количество.
Вот кое-что из того, что я тебе хотел сказать по поводу и твоего письма, и твоей рецензии.
Нине Владимировне – сердечный мой привет. О.С. – на даче, а Сережа – в Прибалтике.
Жму руку.
В.Ш.
1963 – 1964