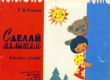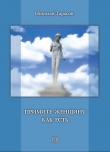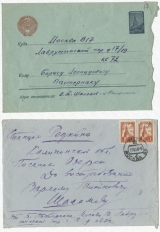
Текст книги "Переписка"
Автор книги: Варлам Шаламов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
В.Т. Шаламов – А.З. Добровольскому
Туркмен, 13 августа 1955 г.
Дорогой Аркадий Захарович.
Тон моего предыдущего письма «не скорбно холодный», как вы изволили выразиться, а только скорбный, но ни о какой холодности в моем отношении к Вам не может быть и речи. А скорбный – это имеет основание, резон. Сколько людей ушло из моей жизни, таких, которых хотелось бы сохранить возле себя, ушло безвозвратно; сколько в памяти живых, ставших мертвыми, и как мало мертвых, оставшихся навсегда живыми. И мне просто больно (с годами все больнее) терять этих уходящих. Я никого не виню и не жду никаких извинений. Понять я могу любое состояние, мне кажется, и Ваше, думаю, что понимаю. Но ведь не легче мне от этого. С такой опаской, так робко и осторожно открываешь кусочек души, которая ведь сохранена, сбережена, несмотря на все эти годы, тревожно радуешься этому, такой редчайшей возможности, и ей отвечает безмолвие или короткая светская открыточка – отписка.
Сильнее от вольной жизни стать нельзя. Наша гордость и наша сила – в нашем прошлом, и сознание этой силы и дает право жить. Иначе так понятна судьба Калембета, Миллера, Минина. Я много думал еще на Севере об этих смертях, об их логике и объяснял для себя их, как показало время, – правильно. Если будет утеряна высота наших горных хребтов, если мы будем искать изменений, приспособлений, прощений, – все будет кончено, нам не устоять перед намыленной веревкой, если совесть не стала звуком пустым.
Отцовские радости – великие радости, как ни смутно в это время, в раннем детстве у ребенка, в грудном возрасте чувство родства. Привязанность же, собственно отцовство рождается, мне кажется, несколько позже – в отличие от чувства материнства – такого понятного и физически простого. Объяснение тому факту, что никто не написал у нас семейного романа, следует искать в неустойчивости быта, в перманентности какой-то неустойчивости, в этом одно из подтверждений грустного наблюдения о противоестественности нашей жизни. Кстати, один из писателей, хороших писателей, делал подобные исследования. Это автор «Семьи Иванова» и немногих [других] рассказов Андрей Платонов. Но ему не суждено было стать признанным писателем, и слишком больших мучений стоило ему напечатание трех-четырех вещей. Сейчас он умер.
Согласен, что показ общества может быть единственно правомерно и полно сделан через семью – первичную ячейку всякого прошлого, настоящего и будущего, я, конечно, прохожу мимо трудов этого пошляка Макаренко. Ничего бы мне так не хотелось, как найти время и силы для работы по разоблачению этого дутого авторитета, который даже побои возводил в педагогический принцип и который каким-то обидным образом оказался во главе «педагогической» школы. Я показал бы внутреннюю фальшь «Флагов на башне» и «Педагогической поэмы» с ее ложной уголовной романтикой. «Педагогическая поэма» – это арьергардное сражение, сползание в лед «перековок» и Беломорканалов (120 писателей – читайте, читайте!). Насчет «времени», когда у детей были «бабушки», – вполне с вами согласен. Помнится, Гельвеции в своем сочинении очень тонко отмечает враждебность поколений и, как следствие этого, дружбу дедов с внучатами и значение дедовского воспитания для внука. Перечтите-ка, в библиотеке, наверное, найдется Гельвеции.
Еще о семьях. Одной из любимых, выношенных тем моих была тема колымской семьи с ее благословенными браками «на рогожке», с ее наивной и трогательной ложью мужа и жены (в лагере), диктуемой страстным желанием придать этим отношениям какой-то доподлинный вид, лгать и заставлять себя верить, писать на старую семью и создавать новую, – благость взаимных прошений, новая жизнь в новом мире, означаемая старыми привычными словами, – и все это отнюдь не профанирование любви – брака, а полноценная, пусть уродливая, как карликовая береза, но любовь. Это бездна энергии, которая тратится для личной встречи. Эта торопливость в «реализации» знакомства. Это crescendo развития романа – и светлое, горящее настоящим огнем, настоящей честностью и долгом все великолепие отношений (хотя бы, как у Португалова и Дарьи, роман, перед которым ей-ей бледнеет все, о чем читалось), и много, много не уложить в письмо.
Здесь – книга, и, если Бог даст силы и время, я напишу ее. Но я измучен, измучен дурацкой работой, отсутствием всякой Душевной поддержки во всех моих начинаниях и мечтах, когда нужно проверить слово, идею, сюжет и не с кем. Я думал, неужели я такая бездарность, что не могу заставить людей выслушать себя. Мне есть, о чем сказать, и, кажется, я знаю, как это сказать. Печататься? Это вопрос не первый для меня. Мне даже с Севера писали: «Почему вы не попробуете печатать свои стихи, раз они хорошие». Пастернак показывал их многим своим знакомым и после передачи по моему адресу комплиментов утешал меня: «Ваши стихи будут печататься тогда, когда я буду свободно печататься». И он тоже не понял, что мне не это важно. Нет, не так. Мне важно, очень важно отдать на растерзание все написанное, очень важно. Но все же – не главное. А главное, мне хотелось бы выговориться на бумаге. А времени нет, нет ни на что. Переводчики обещают учить меня языкам, художники – ввести в дома людей живописи, – десятки приглашений, которыми я не могу, не имею времени воспользоваться, потому что я получаю какие-то гайки на складе. Известная замкнутость и необщительность, отличавшие меня и в юношеские годы, не могли не усилиться за 17 лагерных лет – я ведь еще в Соловецких лагерях бывал.
Знакомств я поддерживать не умею и всю жизнь страдаю от этого. Ну, хватит о себе.
Я не думаю, что «дом» был ложной идеей, как пишете вы. Правда, наши годы такие, что жаль каждого часа, но сколько энергии, силы Вы ни потратили на Ваш дом, – думаю, что это не зря. Правда, это точка зрения моя, человека – бездомного, мечтавшего всю жизнь о своем угле хоть на несколько дней.
Чувство прояснения головы и обострения зрения мне знакомо. Бывало, я его вызывал произвольно и без большого труда. Сейчас даже забыл, как это делалось. Слишком редки часы такого зрения и совершенно случайны. Одна приятельница моя, когда я пожаловался подобным образом на отсутствие времени, сказала: «Силы у вас не хватает, а не времени». И верно, хватило же времени для четырех-пяти сборников стихов.[62]62
Речь идет о пересылке сборника рассказов Э.Хемингуэя.
[Закрыть] Но все же за год я трижды был в Художественном театре (на «Чайке», затем «Школе злословия» и «Идеальном муже»). Раз был в Третьяковке, раза два на различных выставках художественных и, самое главное, – побывал и в Дрезденской галерее. Это, последнее, посещение с месяц назад – чуть ли не лучший день моей здешней жизни.
За всю жизнь по репродукциям, по книгам я составил себе какое-то представление о гениях Ренессанса. Тонкий и точный рисунок Леонардо, ускользающая улыбка его женщин, в нем мне виделся всегда исследователь, открыватель необычайных глубин в обычном, но исследователь – наблюдатель прежде всего. В Микеланджело я видел мятущуюся душу человека, раздавленного страстями, перепутавшего рай и ад, увлеченного новыми необычайными задачами поэта, бросающего начатое, чтобы начать новое, еще более великое и дерзновенное. Человек, который не мог догнать самого себя. В нем я видел олицетворение и подлинное величие Возрождения. Этими двумя титанами исчерпывался для меня, по сути дела, список великих. Рафаэль представлялся мне гораздо менее волнующим и интересным. Талантливый художник, любимец судьбы, поставщик заказных портретов на вкус очередного папы, придворный богомаз – вот представление мое о Рафаэле, подкрепленное репродукциями. И я не понимал – почему Рафаэль? Почему его имя называется наряду с именем Микеланджело и Леонардо: Тициан, Мурильо, Рубенс, наконец, – вот сверстники его таланта, в лучшем случае. И вот я в Дрезденской галерее перед Сикстинской мадонной. Я ошалел. Перед мадонной я понял, кем был Рафаэль, что он знал и что он мог. Ничего в жизни мне не приходилось видеть в живописи, волнующего так сильно, убедительно. Женщина, идущая твердо, с затаенной тревогой в глазах, сомнениями, уже преодоленными, с принятым решением, несмотря на ясное прозрение своего тяжелого пути – идти до конца и нести в жизнь сына, больного ребенка на груди, у которого в глазах застыла такая тревога, такое неосознанное прозрение своего будущего – не Бога, не Иисуса, не Богоматери, а обыкновенной женщины, знающей цену жизни, все ее многочисленные страдания и редкие радости, и все же исполняющей свой долг – жить и страдать, жить и отдать жизнь своего сына. Вот это все вкратце. Мне было стыдно за себя и радостно за Рафаэля.
Галерея эта не может быть сравнена с нашим Эрмитажем. Один Вермейер чего стоит (не «Девушка с письмом», а вторая его картина «Сводня») с необычной телесностью, плотностью изображения. Рейсдаль с такими пейзажами, которые снятся после целую неделю. Много пастелей Карраччи.
Рембрандт вовсе по-новому зазвучал для меня после Дрезденской галереи. Ну, если захотите, я постараюсь написать Вам о выставке этой особо.
Недоумение вызывает то, что десять лет держали эти картины где-то втайне и на три месяца выставили. Я пришел к музею в четыре часа утра и был записан в очереди 1287 номером. А люди стоят в переулках с вечера. Все заборы исписаны: «принес в жертву Аполлону жену, дачу и казенную автомашину», «стояли насмерть», «был в Дрезденке, видел Сикстинку, иду снова» и т. д.
В части Хемингуэя обещали принять все меры,[63]63
Речь идет о пьесе Л. Леонова «Золотая карета», которая была опубликована во второй редакции в ж. «Октябрь», 1955, № 4.
[Закрыть] а язык безразлично? Значит, и английский? Это – просто здорово, завидую вам. Насчет «эволюции» я держусь особого мнения. Как не хватает личного разговора.
Чуйкова я знаю только по репродукциям и по статье Довженко в «Литературной газете». Конечно, сила его в том, что это не соцреализм. Довженко довольно наивно ратует за «расширение границ понятия социалистического реализма». Конечно, всякому понятно, что нельзя впереть, простите, всю живопись в передвижнические принципы. Передвижничество – это эпизод или, вернее, один из путей, не больше. И не самый интересный путь. Пусть туда уместится суховатый Верещагин и Репин, но ни Куинджи, ни Врубель туда не войдут. У современников просто нет большого художника, а то бы все эти надуманные границы соцреализма лопнули сами собой. Пьесы Леонова[64]64
Видимо, речь идет о рассказе И. Бунина «Сапоги».
[Закрыть] я не читал, «Русский лес» имел успех у читающей публики, но меня оставил вовсе равнодушным. Паустовский с «Беспокойной юностью» выступил напрасно. Эти перепевы Бабеля не для его пера. Рассказы Бунина я читал. Это – совершенство. Глаза волков озаряли весь рассказ. Да, так и именно так надо строить рассказ. А сапоги, старинные смазные сапоги в крошечном шедевре[65]65
Петров – неустановленное лицо. 20 Исаев Иван Степанович и его жена Галина Александровна Воронская, дочь А.К. Воронского, отбывали срок заключения на Колыме, друзья В.Т. Шаламова.
[Закрыть]
Пишу и не могу остановиться. Вале, пожалуйста, передайте привет. Получил ли он мои записочки в Мяките? Скажите, что я искренне, на всю жизнь привязан к нему, что я его люблю, что радуюсь, что знал его, что вспоминаю с величайшим уважением, любовью и теплотой. В Ягодном ему лучше будет. А что это за сын? Это ведь страшно, если вождь краснокожих. Очень доволен вашей оценкой Петрова,[66]66
Демидов Георгий Георгиевич (1908–1987) – физик, был репрессирован. Работал с Шаламовым в Центральной больнице для заключенных в пос. Дебин. О нем написан рассказ Шаламова «Житие инженера Кипреева». После освобождения жил и работал в Ухте, написал повести «Фонэ-квас», «Оранжевый абажур» и др. Рассказ Г. Демидова «Дубарь» опубликован в ж. «Огонек», 1990, № 51. В 1991 г. во Франции вы шла его книга «Дубарь».
[Закрыть] который настолько мне был антипатичен с первого взгляда, что я в свое время и знакомиться с ним отказался. А случайно увидев его стихи у Кундуша, укрепился в решении не тратить ни одной минуты на знакомство с этим растленным типом. Не знаете ли, где такие люди: Короткое Сергей Иванович, что был кладовщиком на Левом, в больнице; Прыгов Василий Николаевич. Лоскутов мне написал два письма, но что-то давно не получаю. Привет Исаевым[67]67
Фейнберг Илья Львович. «Незавершенные работы Пушкина». М., 1955.
[Закрыть] и Кундушу пошлите, если будете им писать, и Яроцкому. Лиле мой сердечный привет, самый теплый и искренний. Я радуюсь, что могу ее приветствовать в письмах к Вам. Желаю счастья, бодрости, твердости духа.
Где Демидов?[68]68
Нечкина Милица Васильевна (1901–1985) – историк, академик АН СССР; труды по истории революционного движения в России. Козьмин Борис Павлович (1888–1958) – историк, редактор сочинений А.И. Герцена, Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова. Дискуссия отразилась в статьях: Нечкина М.В. «Н.Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения в годы революционной ситуации (1959–1961)», «Вопросы истории», 1953, № 7; «О взаимоотношении петербургского и лондонского центров русского освободительного движения в годы революционной ситуации (1959–1961), ответ Б.П. Козьмину», Известия АН СССР, отделение литературы и языка, т. 14, вып. 2, 1955; Козьмин Б.П. «К вопросу о целях и результатах поездки Н.Г. Чернышевского к А.И. Герцену в 1859 г.», там же.
[Закрыть] Варлам.
А правда, что «Снега Килиманджаро» напоминает «Смерть Ивана Ильича».
В.Т. Шаламов – А.З. Добровольскому
Дорогой Аркадий 3ахарович.
Вот Вам краткие сведения о Нагибине, которым Вы интересовались. Мне он не кажется писателем, заслуживающим внимания даже на сереньком фоне художественной прозы нашей. Рассказы его доказывают, что
1) Лаконизм изложения (которому он должен бы научиться, изучая язык кино) отсутствует. В рассказах много лишнего, затемняющего человека, уводящего от главного.
2) Само по себе главное не продуманное до четкости и теряется в виденном, которое Нагибин считает виденным им впервые, а потому заслуживающим внимания.
3) Вопросы, которые волнуют Нагибина, мелки и не чувствуется, что для себя он занимается и вопросами побольше. (Что, например, хорошо видно в обеих вещах В. Некрасова, как бы робкой рукой ни были они тронуты.)
4) Ни словарь, ни видение мира не имеют свежести и новизны. Об убедительности и говорить нечего.
5) Учитель его – тот же – Чехов (что и у Антонова). Поразительно, как мало на писателях молодых сказалось гоголевское перо, за исключением одного Михаила Булгакова, никто не взял на себя смелость закрепить гоголевское открытие (в строении фразы, в показе героя, в развертывании картины, в характере).
Русская поэзия имеет исторические 2 линии: пушкинскую (Языков, Алексей Толстой, Некрасов, Брюсов (если он поэт), Северянин и лермонтовскую (Лермонтов – Баратынский – Тютчев – Блок – Анненский, Пастернак) линии, каждую со своими законами, преодолением одного и того же, общностью поэтических идей. Художественная проза тоже имеет две линии: одна это пушкинские искания, включая прозу Лермонтова, сюда Тургенев, Толстой, Гончаров. Литература, более близкая к европейской, Лесков, Чехов, Горький, то вторая идет от Гоголя к Достоевскому и в XX столетии Андреев.
Первые – это преимущественно наблюдатели (они и приговоры выносят как наблюдатели), а вторая – это поэты и прозаики, у которых материал наблюдения только служебный материал.
Они вовсе не общи. Проза Лермонтова резко отличается от его стихов и тяготеет к пушкинским повестям, а стихи Л. вовсе другие и на пушкинские непохожи. Я бы сравнил эти 2 линии с Леонардо и Микеланджело в Ренессансе, вот такая же тут разница.
Пьесы разделяются не резко, а в ряде случаев чеховские вещи (особенно последние 3–4 года) скорее возвращаются к гоголевским традициям.
Хуже другое. Литературная наша критика, не знающая ни в чем меры, много лет трудится над утверждением Пушкина как поэта – революционера, вдохновителя и друга декабристов и т. д. Проще и умнее относиться к Пушкину, как Маркс относился к Гейне. Когда в 1848 г. была опубликована часть архивов парижской полиции, в них найдены были денежные расписки Гейне, передовая печать резко осудила провокатора. Гейне нагло объяснил в печати, что деньги от полиции он действительно получал, но никого не выдал и ни на кого не донес. Что касается самого факта получения денег от полиции, об этом якобы знал такой всеми революционерами уважаемый и внушающий доверие человек, как доктор Маркс. Прогрессивная печать объявила это заявление гнусной клеветой на Маркса и усилила нападки на Гейне. Марксу достаточно было двух строк, чтобы все привести в ясность и указать Гейне его настоящее место. Этого и требовала прогрессивная и революционная печать. Но Маркс молчал. Существует письмо Энгельса к Марксу, в котором Энгельс удивляется его молчанию «ведь ты-то знаешь, что Гейне ничего тебе не говорил в этом роде». Маркс ответил Энгельсу, что никогда подобных признаний Гейне не слыхал, но тем не менее выступать в печати по этому вопросу он не будет, это он решил твердо, потому что поэты – это, видишь ли, особый народ, который даже для себя специфическим образом отражает события, их нервная и душевная организации иные, чем у нас, и он не хочет лишаться знакомства с Гейне, разоблачив его. Письмо это Маркс просит никому не показывать. Через несколько лет молодой Вильгельм Либкнехт пишет Марксу, что недавно он проезжал через Париж и имел возможность повидаться с Гейне, но, конечно, не сделал этой попытки, памятуя известное оскорбление, которое Гейне нанес Марксу. Маркс отвечает Либкнехту – «ты поступил очень глупо, лишившись возможности повидаться с умнейшим, может быть, человеком столетия».
Из Пушкина обязательно и давно хотят сделать сознательного бойца с царизмом.
Недавно мне подарили книжку Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина»,[69]69
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) – революционер, 4 апреля 1966 г. стрелял в Александра П. Приговорен к смертной казни и повешен. Ишутин Николай Андреевич (1840–1879) – руководитель тайного общества в Москве (1863–1866). Приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой.
[Закрыть] черновых записей истории Петра и записных книжек, которые есть у великого писателя, пробует представить как чуть ли не законченные работы художника-историка.
Славянская душа способна ко всякой ассимиляции – песни западных славян, Каменный гость, Фауст и Шекспир – за все хватать перо, и это так понятно. Каша в голове у Пушкина была большая, и у всякого большого художника каша в голове обязательно – иначе он не будет поэтом.
Способность из мухи делать слонов помогает придавать совсем не то значение события различных идейных направлений, раздувать их, муссировать, поэтизировать, не управляя своим вдохновением.
Политическое лицо Пушкина чрезвычайно многообразно и многоподвижно. К чести его (и вкуса) надо сказать, что при этих данных он пророка из себя не изображает (отчего не ушел ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский) и неудивительно, что (как вспоминает Пущин) его никто бы и не принял в тайное общество, зная его легкомысленную, поэтическую неустойчивость и пиэтет в отношении двора.
Смехотворны дискуссии Нечкиной и Б. Козьмина[70]70
Сапрофиты – растения и организмы, питающиеся гниющими остатками органических веществ.
[Закрыть] о какой-то глубокой революционной работе Герцена и Чернышевского. И Чернышевский вкупе с Герценом (?) (поездка в Лондон).
Хотя только каракозовцы[71]71
«Красное и черное» – фильм по роману Стендаля, реж. Клод Отан-Лара. «Скандал в Клошмерле», реж. Шеналь Пьер.
[Закрыть] представят собой путное далеко задуманное тайное общество, а все остальное до Народной воли в XIX столетии далеко уступает в части организации своим предшественникам – декабристам.
У нас два особенно несчастных писателя – это Пушкин и Чехов. Из них обоих пытаются сделать сознательных социалистов и бойцов-организаторов.
Книги эти и прежде всего ермиловские блуждания в «Вишневых садах» рассчитаны на людей, которые не понимают и не чувствуют литературы и театра и в силу этого неспособны разобраться во ермиловском вранье.
Державин:
…Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить…
А.З. Добровольский – В.Т. Шаламову
Ягодный, 10/III—56
Дорогой Варлам Тихонович.
Вам трудно себе представить, как я терзаюсь своим, все нарастающим бессилием удержать рвущиеся связи с близкими мне людьми, с любимыми мною занятиями (вроде охоты, рыбной ловли, езды на мотоцикле – прочь за поселок – к своим заповедным углам у истоков Сухохи или у Ягодинского перевала) – связи, наконец, со всем прекрасным, таким порою ненавистным, а порою любимым взахлеб миром. Болезнь, Варлам Тихонович, болезнь!.. Укатали сивку крутые горки! Да и немудрено – в каждой горке по километру, и горок за 20 лет уже не счесть! Мои худшие предположения о своих недугах (они меня тревожат, объективно не проявляясь, уже лет 9), к сожалению, подтверждаются. Я болею спастическим или невротической формой эндартерита. И он меня, собака, гложет неустанно, без всяких послаблений. В ноябре прошлого года я съездил на «Талую», хотя и сомневался в показанности. Но выбора не было, а настоятельная потребность в каких-то немедленных мерах была. Съездил и… до сих пор не могу опомниться. Вымотала бессонница, сердечные боли и другие пакости. Поверите, иногда скриплю зубами от этой, как будто необъяснимой, так рано наступившей старческой слабости мысли, памяти, чувств… Мне сорок пятый год, а чувствую себя – точно мне за 80! Обидно!.. Конечно, я все же мог Вам написать с Талой, И у меня было такое намерение. Вот, думал, поеду, отосплюсь и примусь за письма и всякую другую письменность. Однако подобными благими намерениями вымощено немало дорог в мои последние годы. И в этом все дело.
Я не пишу матери – одинокой, больной женщине, живущей в колхозе, представляете? Не пишу ничего. По своим делам, хотя налицо благоприятная ситуация; не пишу былым друзьям в Киев и Москву, хотя не сомневаюсь – многие из них ответили бы, прислали книги, репродукции и т. д. Наконец, я не пишу рассказов, хотя нафарширован ими, как мне кажется, в степени угрожающей – иногда из-за них происходит во мне такое смешение придуманного и происходящего, что я – чувствую себя одновременно обитателем чеховской палаты № 6 и жителем щедринского Етупова… Но я ничего не пишу. Не могу писать. Может быть, эта «аграфия» (как сами Вы когда-то выразились) результат не только моей болезни, но и печальной уверенности в том что в происходящей эмиссии и инфляции печатного и непечатного слова всякое писание становится подобным размножению сапрофитных микробов[72]72
«Утраченные грезы» («Дайте мужа Анне Дзаккео») – фильм Дж. деСантиса(1953).
[Закрыть] – много ли их, или мало – от этого никому ни тепло ни холодно. Конечно. Это утверждение противоречит жадности, и радостному и грустному изумлению, с которыми прочитал и перечитал «Старик и море». Наконец, оно противоречит и тому факту, что я все-таки вот уже полгода бьюсь нал. одним сценарием, движимый не только надеждой на возвращение к этому роду деятельности, а и потребностью что-то сказать. Но это диалектическое противоречие – и теза и антитеза содержат в себе истину!.. Однако довольно об этом. Как это ни парадоксально, дорогой Варлам Тихонович, но чем меньше я Вам пишу (а я почти ничего не пишу), тем больше я о Вас думаю. Поверьте, что это так! Было бы долго и утомительно объяснять – почему? Поэтому ограничусь заверением, что не только думаю, вспоминаю, но даже веду строго мысленные диалоги с Вами. Ваши письма, даже ругательные, доставляют мне истинное удовольствие и несомненно – будь у меня бестревожный досуг – я не остался бы перед Вами во все увеличивающемся долгу.
Я уже писал Вам, Варлам Тихонович, что нынешний Ягодный и обладание хорошим приемником позволяют быть в курсе всех значительных событий не только страны, но и мира. Здесь превосходная библиотека и хороший читальный зал. Основная периодика и книжные новинки поступают исправно, хотя и несколько позже, нежели к Вам. Имеется хороший книжный магазин, правда, книг я почти не покупаю. Не позволяет бюджет. Кроме того – пользуюсь некоторыми «преференциями» в библиотеке и могу брать на продолжительное время все, что заблагорассудится. Более того – зав. библиотекой всегда звонит, если появляется что-нибудь стоящее. Регулярно читаю «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Иностр. литературу», «В защиту мира» (Знаете ли Вы этот, самый не русский журнал, издаваемый на русском языке?), «Искусство» и, конечно, «Искусство кино».
«Старик и море» прочел первым в поселке. Как только был получен журнал. Я его ждал, т. к. была какая-то предварительная информация.
Конечно, впечатление – ошеломляющее. Вещь оптической прозрачности и чистоты и точности и никакого красноречия, никаких словесных и философских цветов!.. Если бы существовал бог пантеистов и он был писателем – он позавидовал бы Хемингуэю! Уже одна мысль: «хорошо что нам не приходится убивать солнце и звезды»… – заслуживает Нобелевской премии. В общем, Хемингуэй сложил такой гимн человеку (и только ли труженику?), какой еще не удался ни одному писателю литературы Горького – Фадеева.
Да, что говорить – современный писатель земного шара написал повесть для «землян»!.. Конечно, очень хотелось бы поговорить с Вами об этой книге за крепким чаем или бутылкой хорошего вина, но увы! – я все еще прикован к этой горной стране, а Вы вряд ли вернетесь сюда. Хотя Ваши письма, особенно стихотворение – «вернувшись в будни деловые, я не нашел чего искал»… – заставляют предполагать, что Вы не раз подумываете об этом. Я воздержусь от каких-либо советов на этот счет. Было время, когда, сидя с Португаловым над Вашим письмом, тем, что так хорошо о «Сикстинской мадонне», и остроумно о Дрезденской галерее вообще, мы решили написать Вам: – Бросайте к черту Ваш тупотранстих или что там еще и приезжайте в Ягодный! Работа найдется, остальное – приложится. Однако в последнее время произошло здесь много перемен к худшему. Каких? – об этом длинно писать, но в общем – жить стало труднее, чем при ДС НКВД не в политическом смысле, конечно, а в экономическом, и поэтому Ваша вывернутая наизнанку ностальгия едва ли прекратится с приездом сюда. Земля осталась прежняя, но люди уже не те.
Я хочу предложить Вам другое… Не вдаваясь в общие оценочные рассуждения о нашей литературе, можно выделить в ней одну тенденцию, уже начавшую ощутимо проявляться – децентрализация творческой и издательской деятельности. После речи Шолохова на 22-м съезде процесс пойдет еще скорее. Так мне кажется, и думаю, Вы со мной согласитесь.
Только этим можно объяснить появление альманаха «На Севере Дальнем», который, в отличие от всех прошлых попыток, начал издаваться регулярно и стал печатным органом литературного объединения Магаданской области. Конечно, «На Севере Дальнем» далеко до уровня, хотя бы такого альманаха, как «Молодой Ленинград», но все же – в 3-х номерах есть уже несколько профессиональных авторов. Я посылаю Вам все три №. Посмотрите и решайте – не присылать ли Вам что-нибудь сюда, в этот альманах? Какие ни есть, но все-таки деньги, все-таки публикация. Имейте, кроме того, в виду, что на 55-й год издательству «Магаданская правда» было запланировано 150 (!) печатных листов для издания местных авторов. Естественно, что издательства, несмотря на бурную деятельность редактора альманаха Козлова (Португалов с ним встречался и отзывается положительно), не смогло использовать эту возможность. Печатали что придется. Однако на 56-й год их портфель гораздо лучше.
Как будто в числе предполагаемых изданий – поэма Валентина «Колыма». Я знаю первую часть этой поэмы и не в восторге. Правда, мое суждение слишком субъективно – в нем преобладают эмоциональные моменты личного опыта. Но вещь сделана вполне профессионально, и ее издание будет полезно для Валентина.
Как видите, я пока не напечатал ничего, вероятно, по тем же причинам, почему не писал Вам. Однако это не значит, что отношусь к этой возможности пренебрежительно. Наоборот, считаю, что альманах нужно приветствовать и поддерживать. Так, по моему совету, поступил мой старый приятель Валерий Ладейщиков. Чудом выжив на Бутугычаге, он сейчас живет на Тепьке (пос. Ойчан) и, как видите, в каждом альманахе что-нибудь помещает под именем В. Ладэ. Можете не сомневаться – это далеко не лучшие его стихи. И все же – он не упускает возможностей кое-что из личного опыта подперчить благополучную строфу и пустить ее в обращение. Я уверен, дорогой Варлам Тихонович, что многое из написанного Вами в ту пору, когда Вы были на ЛЗУ левого берега, может быть использовано таким же образом. Более того – уверен, что Вы найдете форму более емкую, чем у Валерия, для того чтобы не только отблеск пережитого лежал на слове, но какой-то стороной (пусть хотя бы климатической, разноконтинентальной?) пережитое ожило в строфе…
Словом, мой Вам совет – свяжитесь с альманахом и издательством «Магаданская правда». Это Вас развлечет, а может быть, больше, чем только развлечет.
Вечером, не окончив письмо, встретил Валентина и сказал ему – пишу Варламу, может быть, и ты наконец соберешься? Обещал. Значит, не исключено, что это письмо, хоть в малой степени, компенсирует мое длительное молчание. Не знаю, напишет ли Валентин о своих делах, и поэтому – кратко о нем. Он работает здесь в качестве художественного руководителя местного кружка самодеятельности (при Доме культуры). Живет семьей. Их трое. Жена – левобережная лаборантка Люба. У нее – сын. Истинный «вождь краснокожих». (Появилась, наконец такая форма заключения. Это лишь нам пришлось «испить чашу до дна».) Валентин ведет себя подвижником, как и прежде. Подвижником семьи и все еще не разделяемой обществом страсти к поэзии. В последнее время он пишет все лучше. Недавно прочел пару настоящих стихов. Один из них воспоминание о
Дебине. Здорово! Вероятно, будь у него время без забот о хлебе насущном, он мог бы сейчас сделать много настоящего. Но Валентин, как и я, бьется в тисках нужды. С утра до поздней ночи он трудится, занят нелюбимым делом: организацией самодеятельности, поисками и так называемых струнных – для концертов обязательных, но очень неохотно посещаемых…
В общем, трудимся, ходим в рваных штанах и редко думаем о прекрасном. Я, Варлам Тихонович, работаю, как уже писал Вам, на административно-хозяйственной работе. Директор местной пекарни – представляете? Пришлось овладевать незнакомой технологией, а главное хозяйственными делами в самых разных аспектах: коммерческом, экономическом, финансовом, теплотехническим (поиски наиболее экономных видов топлива для хлебопекарных печей) и даже санитарно-гигиеническом… В иные дни тружусь с 7-и утра до 10-и вечера. Газету просмотреть некогда. И все это за 1300 р. в месяц. Процентных надбавок не получаю. Лиля не работает. Вечерами ходит на курсы мед. сестер (созданы здесь такие, двухгодичные). Приходится мчаться домой, чтобы накормить и уложить Максимку, и только после того как уснет – сажусь к приемнику, просматриваю журналы. Да, для того чтобы представить полностью наш бюджет, нужно сказать о доме. Дом, хотя и свой – обходится дорого: ежемесячно удерживают по сто руб. из зарплаты для погашения ссуды и еще сто руб. приходится платить за коммунальные услуги, т. е. воду, свет, канализацию. Таким образом нам остается на жизнь 800 руб. в месяц. Можете теперь представить, каково нам приходится. И в моем юридическом статусе пока никаких перемен. Впрочем, я до сих пор ничего для наступления этих перемен не предпринял. Конечно, зря! Кругом столько примеров «эксгумации». Правда, я не принадлежал ни к партии твердолобых, ни с врагом не сотрудничал, но все же Марина Ладынина обещает мне свои и Ивана Пырьева свидетельские показания защиты, буде украинские «друзья» (Рыльский, Бажан, Корнейчук) в этом откажут. Посмотрим, что из этого получится. Петиции я уже настрочил…
Из Вашего последнего письма можно заключить, что у Вас что-то произошло плохое, отчего усилилось чувство одиночества. В чем дело? Разлад с женой? С дочерью? Служебный «изоляционизм»? Или это результат того самозамыкания, какое неизбежно увеличивается у нашего брата по мере приближения к пенсии? Напишите мне об этом. Интересуюсь. Сам чувствую, как отчуждаюсь от среды, от друзей.
Возню, затеянную вокруг имени Достоевского, более или менее знаю. Читаю, слушаю радио – и это и то. По-моему, не нужно лучшего доказательства эффективности давления мирового общественного мнения на Ермиловых, чем вынужденная гальванизация этой великой славы. Может быть, это полное доказательство исчерпанности метода (и только ли литературного?), питаемого вульгарными материалистическими идеями, – даже не идеями, а рефлексами не выше спинного мозга?.. Признать великим Достоевского – значит одновременно признать ничтожество Фаддея Булгарина и Греча – не так ли?