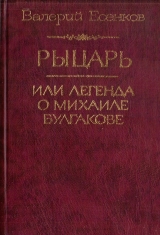
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Глава седьмая.
В ШКОЛЕ ТОЛСТОГО
ПОСЛЕ ТОГО, что рассказано, я думаю, трудно поверить, однако это действительно так: почти все свободные вечера проводит он дома, уединённо, за книгой. От белых кафелей струится любимое с детства тепло. Несметные сокровища духа тесным строем окружают его, заключённые в застеклённых шкафах, от всех четырёх стен словно глядят на него своими задумчивыми глазами, то зелёными, то красными, то чёрными, жёлтыми, нередко с золотыми обрезами. Подолгу бродит он между ними, то присаживаясь на корточки, то по раздвинутой лесенке поднимается вверх. Среди этих сокровищ он ищет вернейших друзей, ищет смысл жизни, ищет великое сердце, взлёты великой мечты. Его чувствам и мыслям необходимо нужно определённое, точное имя и зримый, как на металле выбитый, образ. И тот, кто удовлетворит в нём эту потребность, сжигающую его, тот, кто назовёт это имя и вылепит образ, тот будет принят в спутники жизни.
Итак, он рыщет среди этих сокровищ, бережно собранных почившим отцом. Он взыскует ни много ни мало как руководителя и спутника жизни. Он перелистывает толстые книжки “Русского вестника”. Фантазии Гофмана его приводят в восторг. Он восхищается рубленой прозой, которой блистает Влас Дорошевич, признанный король фельетона, и сам потихоньку подражает ему. Но уже меняются незримые ткани души, в эти ткани вплетаются новые нити. Он требователен. Он смотрит серьёзно. Он выбирает. Он делает выбор.
Выбор замечательный и, как выяснилось впоследствии, на целую жизнь. Ироничный, мягкий, застенчивый, любящий Гоголь и грубый, пылающий злобой, ожесточённый Шедрин! Два самых крайних полюса русской литературы! Гуманизм, всепрощение, снисходительность, моральный призыв заглянуть поглубже в себя и найти в себе самом человека. Гуманизм, раздражение, скрежет зубовный, жажда разрушить, стереть в порошок, смести с лица земли всю глубоко ненавистную родимую нечисть, до десятого колена её истребить и вколотить осиновый кол на её безымянной могиле. Противоположности, крайности, извечный спор между ними, и к этим двум полюсам с одинаковой силой рвётся его молодая душа. С одинаковой? Да. Может быть, не совсем одинаковой. Едва уловимо, с течением времени всё сильней и сильней влечёт его к миролюбивому гению Гоголя.
Гоголь, Гоголь! Какая-то странная, фантастическая, блистательная мечта! Что за чуткая совесть, что за нежность тоскующей, страшно одинокой души! Какая щедрость, какое обилие неслыханной яркости красок! Какое могущество замыслов! Какая невероятность иссушающе-горькой судьбы!
Он читает и перечитывает комические происшествия, застилавшие умные глаза Городничего, соткавшие из ничтожества, из тумана, из мифа странный кумир. А “Мёртвые души” с такой прочностью обосновываются в его жаждущей памяти, что остаются в ней навсегда, и какие-то словечки и чёрточки то и дело являются на его языке, и он не всегда в состоянии разобрать, Гоголь ли это сказал, сам ли он только что выдумал эту прекрасную, такую поразительно-остроумную вещь. Да и как тут разберёшь? Его доводит до слёз ослепительный лиризм отступлений. Он заходится в хохоте при одном звуке фантастических, совершенно невероятных, убийственно-метких имён. Яичница! Боже мой! Кто тебя выдумал? Только истинный, истинный гений! Что же сказать о героях? Честное слово, нечего о героях сказать, они на каждом шагу встречаются в жизни, точно сначала вспыхнули в дерзкой фантазии неодолимого гения, воплотились, сошли со страниц бессмертной поэмы и вот принялись самостоятельно жить, и этой удивительной жизни всё не видно конца. Дикость какая-то! Бред! Чудеса!
Собственно, Гоголь – это любовь, неотразимая, кружащая голову, спасительная, нерасторжимая. Да что ж говорить! Сколько слов ни скажи, всё равно словами, жемчужными даже, не выскажешь никакую любовь.
И навстречу этой святой просветлённой любви из пожара и дыма эпохи выдвигается могучий Толстой, исполин, каких ещё свет не видал, не рождала земля. Зарезанный цензурным ножом, разодранный на клочки, ошельмованный, отлучённый от церкви, а могучий, несмолкающий голос гудит как набат: “Не могу молчать!” Кто не читал ещё этой ни с чем не сравнимой статьи, тот не испытал настоящего потрясения. Спешите читать! Одна такая статья способна пробуждать поколения, способна даже разбудить мертвеца, чтобы уже не уснул никогда. Нечего говорить, что цензура, вопреки объявленной свободе печати, режет её, цензура у нас режет всё, но что же с ней делать, даже цензура не может не понимать, что это Толстой, и пропускает хоть что-нибудь, то есть в данном случае пропускает клочки. Эти клочки подхватывают “Русские ведомости”, “Слово”, “Современное слово”, “Речь” и пять-шесть других и 4 июля 1908 года разносят по стране на своих газетных листах, решившись, не страшась передать это слово, на подвиг, а в России каждый подвиг непременно ждёт наказание, так что эти газеты оштрафованы все до одной, а один редактор арестован только за то, что приказал расклеить номер на стенах домов.
Кажется, никогда ещё на русском языке не достигалось такой простоты выражения мысли, как не достигала такой простоты и ясности самая мысль, и ещё не было сказано мысли о главнейшем ужасе века, который сотрясает Россию и с тех трагических необдуманных лет станет потрясать ещё целый век, и ещё не было более страстного крика, взывающего к благоразумию, к совести всех, точно огненные письмена проступают вдруг на стене: “Остановитесь! Мы все перед пропастью! Ещё один шаг – и разрушится мир!”
Пусть редакторы, эти ревнители сокращения всякого текста, скрежещут зубами, но я не могу не выписать здесь двух страниц:
“Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют ещё большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь. И распространяется это развращение с необычайной быстротой.
“Недавно ещё не могли найти во всём русском народе двух палачей. Ещё недавно, в 90-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьёв Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.
“В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведёт по-прежнему торговлю.
“В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашёлся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: “Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану”. Ему прибавили, и он исполнил.
“Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришёл неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал: “Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно”. Не знаю, принято ли было, или нет предложение, но знаю, что предложение было.
“Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того, чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкими дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.
“О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.
“Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабёж, воровство, ложь, мучительство, убийство считаются несчастными людьми, подвергающимися развращению правительством, делами самыми естественными, свойственными человеку.
“Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения ещё ужаснее...”
Нравственное, духовное, невидимое зло! Могучей и властной рукой Лев Толстой обнажает его в этой рождающей ужас статье. И это нравственное, духовное, невидимое зло вдруг, в один день, в один час, является юноше, гимназисту, развернувшему, быть может случайно, газету, выросшему в безмятежности и покое, с самым отвлечённым, с самым книжным понятием о зле и добре, с мягким изнеженным сердцем, но нравственным глубоко, с чуткой совестью, с богатым, легко воспламеняемым воображением, с сильным и дерзким умом. Разве не испытывает такой юноша духовного потрясения невиданной силы? Испытывает духовное потрясение, и духовное потрясение страшное. Ужас продирает его, а ужас рождает растерянность. Что ждёт нас впереди? Какая готовится России судьба? Что делать ему, почти ещё мальчику, семнадцати лет, до выпуска из гимназии больше чем год?
Нетрудно сообразить, что ответов у него нет и не может быть никаких. Ещё легче представить себе, как нужны ему такого рода ответы, с какой жадностью он ищет их. И к кому обратиться за помощью? Из какого источника удовлетворить свою нестерпимую жажду? Ещё легче сообразить, что юноша со всем жаром своего скорбящего, полного ужаса сердца бросается за ответом к самому же Толстому, становящемуся отныне учителем жизни. Тщательно, обдуманно, то и дело возвращаясь назад, он перечитывает всё, что было прежде знакомо ему и что, к сожалению, прежде читалось поспешно и, следовательно, слишком поверхностно, слишком легко. Он достаёт и прочитывает, по возможности, всё, что вот уже двадцать лет издаётся из сочинений Толстого подпольно или за рубежом на чужих языках.
Потрясение продолжается, и продолжается с нарастающей силой, точно молодой человек взобрался на Эверест и с этой недосягаемой снежной вершины увидел весь мир. Что он видит прежде всего? Своим повзрослевшим, если не установившимся ещё окончательно, то взглядом, который начинает уже устанавливаться, он различает, что перед ним художник всемирного мастерства, созидающий абсолютно законченные образы нигде не встречаемой силы и глубины. Всё подвластно ему в равной мере: мужчины и женщины, солдаты и генералы, французы и русские, собаки и лошади, лес и трава, воды и звёзды, жизнь человека и жизнь человечества. Для Толстого непостижимого или запретного нет. Молодой человек точно стоит перед Богом, который владеет даром пророчества и волшебства, даром созидать из ничего и даровать бессмертие созданному. Провёл черту, другую, третью, поколдовал, отошёл, и новая жизнь загорелась звездой, чтобы вечно светить на небосводе души. Не писатель уже, но чародей.
Что же делает прежде всего молодой человек, озарённый этими новыми звёздами? Со всем нерастраченным жаром юной души, её всей беспокойной потребностью кого-нибудь полюбить поскорей, лишь бы только любить, он влюбляется в Наташу Ростову. Отныне это его идеал: живая, бойкая, способная к пониманию, женственная, склонная к ошибкам и заблуждениям, но способная также выбираться на твёрдую почву, на правильный путь, преданная, склонная к самопожертвованию, одним словом, блистательная, как никакая другая, и единственное, о чём он мечтает в бессонные ночи или во время прогулок под сенью бульваров, это встретить точно такую, полюбить навсегда и не расставаться всю жизнь. Так в душе его от звезды, зажжённой Толстым, вспыхивает собственная звезда, чтобы вести прямо, заводить чёрт знает куда, выводить на прямую дорогу и дарить счастье страдания и страдание счастья.
Впрочем, на бескрайнем небосводе Толстого это всего лишь одна небольшая звезда. Шаг за шагом молодой человек подбирается к другим его звёздам. И вот наконец перед ним Млечный Путь: одним могучим усилием своей всепроницающей мысли Толстой вводит его в подземелья истории, туда, где незримо таится и неслышно вращается её механизм, именно то, что он уже начал сам на ощупь и робко искать, в недоумении озираясь по сторонам.
Уже в который раз открывает он единственную в мировой истории книгу, том третий, часть первую, цифра 1, и в который раз перечитывает краткое сообщение, интонацией и деловитостью похожее на заметку во вчерашней газете:
“С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го года стягивались силы России. Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления...”
Я вижу, как он выпрямляется и долго сидит неподвижно. Глубокое раздумье у него на лице. В каком направлении движутся его мысли, довольно легко угадать. Он размышляет о том, как это верно, как справедливо, что война – преступление, и, конечно, о том, что по какой-то необъяснимой причине всё по-прежнему живут в заблуждении, что война – не преступление, а геройство и подвиг, и что по-прежнему имена Кая Юлия Кесаря и Наполеона у всех на устах как имена героев и великих людей, а не как имена преступников, негодяев и сволочей. Размышляет он также о том, что по этой причине преступны и революции, совершаемые “разъярёнными Митьками и Ваньками”, поскольку в период этих будто бы освободительных и священных событий совершаются друг против друга бесчисленные грабежи и убийства, которые совершались у него на глазах три года назад, когда солдаты правительства расстреливали мирную демонстрацию или батальон восставших сапёр, и которые продолжают совершаться уже в течение четырёх лет, с одной стороны, при помощи револьверов, кинжалов и бомб, к которым прибегают боевики, а с другой стороны, при помощи расстрелов и виселиц, которые воздвигает правительство, отмщая боевикам, а вместе с боевиками и тем, кто случайно попадается под горячую руку.
Что ж, хорошо, война, революция – преступление, однако то и другое происходит у него на глазах. Отчего? Какие на это причины?
Он снова склоняет светловолосую голову над третьим томом, частью первой, цифрой 1 и находит те же вопросы, с ещё большей определённостью поставленные Толстым:
“Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесённая герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твёрдость Александра, ошибки дипломатов и т. п.”
Совершенно очевидно, что это нелепость и абсолютная чепуха, как он и предчувствовал, тоскуя и беспокоясь душой, высиживая бесплодно на скучнейших уроках истории. И он вчитывается в каждое слово с ещё большим вниманием:
“Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру: “Monsieur, mon frère, je consens à rendre le duché au due d’Oldenbourg”[1]1
Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу (франц.).
[Закрыть], – и войны бы не было...”
Он сухо смеётся: вот так умники, по правде сказать, и эти-то умники везде процветают, куда пальцем ни ткни, легко им живётся на свете, а чего ж им не жить? И мне слышится, как он цедит сквозь зубы уже ставшее любимым словечко, раскатистое и мерзкое: сволочи.
Тут он с лихорадочным жаром проглатывает громадный кусок, изумляясь глубине и верности мысли. Из этого громадного куска я могу привести лишь абзац:
“Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, – были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин...”
Далее Лев Толстой обосновывает свой фаталистический взгляд на жизнь роевую, стихийную, где человек неизбежно подчиняется вне его стоящим законам, и всё это спокойное, обстоятельное рассуждение о таящихся в подземелье механизмах истории завершается неожиданным, но строго логическим выводом, что так свойственно ходу мысли Толстого, падающим резко, как удар топора:
“Царь – есть раб истории”.
Каково-то переварить такие грозные истины юному монархисту? Трудно переваривать, тяжко скорее всего, тем более, что монархизм его бессознательный, вкоренённый тоже в подземелья, но в подземелья души, с молоком матери впитанный из стихии обширной, далеко разветвлённой семьи.
Однако он переваривает. В нём обнаруживается редчайшее свойство: подниматься выше своих убеждений, а поднявшись над ними, тщательно анализировать их.
Лев Толстой помогает ему, прибавляя к своему рассуждению ещё одну далеко ведущую мысль:
“История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей...”
Жизнь – общая, бессознательная, жизнь роевая... Нельзя не задуматься, какова она нынче, в самом начале двадцатого века, эта роевая, общая жизнь? К каким новым событиям ведут нас стихийные действия миллионов людей, которые только и заняты тем, что преследуют свои частные, исключительно личные цели, и уже готовы истребить владельцев земли, чтобы самим владеть этой землёй, если царь, раб истории, не услышит их голоса и этой земли им не отдаст?
Вглядывается он напряжённо, со страстью, светлый юноша, ещё гимназист, уже поднимающий на свои плечи такую тяжкую ношу, какой поблизости от него не поднимает никто. Что ему удаётся увидеть в эти предгрозовые дни? Понимает ли он, что, преследуя и казня без разбора, отправляя на виселицы тысячи, десятки тысяч, может быть, уже и сотни тысяч людей, желающих благополучия и свободы себе, своим детям, отправляя в полной надежде укрепить свою шаткую власть, правительство этими самыми действиями подтачивает эту власть и готовит себе скорейший и непременно бесславный конец? Невозможно сказать. Всё-таки перед нами всего-навсего гимназист шестнадцати, семнадцати лет. Размышляет он много, упорно, однако жизнь общая, роевая, действительная ещё слишком мало, с самого первого плана, пока что приоткрылась ему. Поневоле пищу для своих размышлений черпает он большей частью из книг.
И он вновь склонят светловолосую голову над бессмертным романом Толстого. И его поражает, с какой виртуозностью и неожиданной простотой, основанной единственно на указании здравого смысла, Лев Толстой развенчивает великую тень и низводит Наполеона чуть не до ранга шута. Это надо же, Наполеон, о котором прожужжали все уши, скоморох и позёр, беспомощный на поле сражения, вертящийся на своём бугорке во все стороны лишь для того, чтобы всем показать, что управляет событиями, которыми не может управлять ни Наполеон и никто. Чудеса! Трудно поверить и невозможно определённо сказать, что всё это именно так, но ещё невозможней равнодушно, без смеха читать.
Любопытно ужасно! И славно, так славно! Эта дерзость разбить все привычные представления нравится ему чрезвычайно, оттого, что он чует в этой дерзости нечто своё. Он и соглашается, припоминая побиванье оболтусов, но ему и хочется спорить. Выходит, что в действительности нет места ни для какого геройства, а дух героизма пронизывает всё его существо. Как же так? Воздействие одного страха смерти? Что в таком случае благородство, возвышенные чувства, честь наконец? Не из страха же смерти Пушкин пошёл на дуэль? Светловолосому юноше с этим мнением примириться нельзя. Однако же замечательно хорошо! Наполеон – это миф! Никакого Наполеона и не было и быть не могло! Извольте после этого дорогого монарха всем сердцем любить!
Размышления, размышления... Вихри мыслей носятся в юной ещё голове. Всё ещё в самом начале, много ещё предстоит впереди. Остаётся только сказать, чтобы картину умственного развития обозначить вполне, что рядом с “Войной и миром” высится “Капитанская дочка”. Временами ужас ознобом продирает по коже. Чего стоит одна пьяная оргия ночью! Эта мрачная песня! Эти разбойничьи лица! А повешенье бедного коменданта? А труп зарубленной Василисы Егоровны у крыльца? А эти ясные, предостерегающие слова: “Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”? Прочитаешь эту прозрачную повесть, полную событий кровавых и диких, и повторяешь противувольно: не дай и не приведи!








