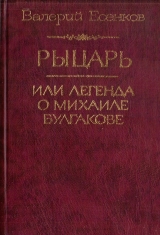
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
И какая-то большая волна подхватывает его и несёт на себе, словно судьба в самом деле тряхнула широким своим рукавом и выбросила новый, светлый билет, на котором стоит: “не умрёшь”.
И происходит это обыденно, как-то само собой, обыкновеннейший случай на тоскливой толкучей московской захламлённой улице. Он уже не мчится своей стремительной лёгкой походкой, а с выражением скуки в глазах, с отрешённым лицом, уставший от этой бессмысленной, будь она трижды проклята, погони за жалким своим пропитанием, с каким-то даже презрением к жизни, в которой приходится играть роль бездомного пса, глубоко надвинув шапку на лоб, бредёт Столешниковым неизвестно куда, потеряв надежду заработать те сотни тысяч, которые необходимы на хлеб, а навстречу ему очень даже свободно шагает молодой человек со счастливым лицом и, что особенно важно, без голодного блеска в тёмных, восточного типа глазах, с которым он свёл случайно знакомство в научно-техническом комитете, в той редакционной комиссии, которая не редактировала решительно ничего. Они не встречались месяца два или три и могли с таким же успехом не встречаться ещё двадцать лет. Михаил Афанасьевич до того погрузился в себя, что не узнает никого и бредёт себе мимо, не подозревая о том, что и это тоже светлый билет, который выбрасывает судьба. Разумеется, свободно мог бы мимо пройти, и в его жизни не приключилось бы ничего из того, что затем приключилось, однако счастливый молодой человек окликает его, здоровается и вдруг задаёт абсолютно нелепый вопрос:
– А вам никогда не случалось работать в газете?
О, великие боги! Где ему только не случалось работать! Каких фантасмагорических должностей он только не занимал! Он прошёл уже, кажется, всё, что положено пройти интеллигентному человеку, которого новая власть систематически и сознательно сводит к нулю, не катаньем, так мытьём, не голодом, так гостеприимной тюрьмой. И он улыбается высокомерной, впрочем, довольно слабой улыбкой, не находя нужным отвечать на такой подлый, к тому же дурацкий вопрос. Молодой человек не понимает его и пристаёт:
– Хотите работать у нас?
Вторая улыбка, определённей, сильней и с некоторой тенью надежды, однако слов у него не находится никаких, и молодой человек безжалостно добивает его:
– Я постараюсь устроить.
Наконец он осеняется догадкой спросить:
– Это куда?
Молодой человек возвещает без тени иронии:
– В “Гудок”.
И тащит его за собой.
Впоследствии Михаил Афанасьевич сам опишет это примечательное событие в одной своей, жаль, что неоконченной, повести:
“Абрам меня взял за рукав на улице и привёл в редакцию одной большой газеты, в которой он работал. Я предложил по его внушению себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию. Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я её переработал, её куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная, куда девать их, сообщил, что я найден негодным. Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя Абрама...”
С этого благословенного во многих, но не во всех отношениях дня отступает, а затем и скрывается вовсе из вида нужда. Он становится наконец литератором и пробует жить одним литературным трудом. До красного вмешательства в беспечную русскую жизнь такое было возможно. Возможно ли такое и после него?
Глава вторая.
ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИЙ
ДВА СОЛИДНЫХ издания, берлинское “Накануне” и московский “Гудок”, оказываются не только способными совместными усилиями его прокормить, но и доставляют кой-какой, небольшой, разумеется, однако всё же избыток, позволяющий облегчённо вздохнуть. Жёлтые ботинки всё ещё остаются на его беззащитных ногах. К ботинкам он приобретает поношенный, но вполне приличный серый костюм и наконец избавляется от своего подбитого ветром пальто и приобретает длиннополую, почти новую шубу мехом наружу, с рукавами, расширенными прекрасно, в самую меру, так что в рукава можно затискивать руки, очень похоже на бывшую дамскую муфту.
Он приобретает свой неотразимый, уже классический вид. Светлые волосы самым тщательным образом зачёсаны волосок к волоску, неумолимый в нитку пробор, голубые глаза, отливающие время от времени в сталь, морщит лоб, когда говорит, помогает себе сильным жестом правой руки, виртуозным, выразительным, нервным, точно изломанным, ноздри прорезаны глубоко, абсолютно неправильное лицо, так что ни один портрет не похож на другой, в то же время значительное, замечательное лицо, способное выражать богатство человеческих чувств, обличающее человека необозримых возможностей, среднего роста, стройный, подвижный, худой.
На нём тёмно-серый костюм, в неофициальной, дружеской обстановке всё ещё из экономии заменяемый распашонкой-толстовкой, тугие крахмальные воротнички и манжеты, напоминающие картон, со вкусом подобранный галстук и вот эти самые, желтейшие в мире, лакированные ботинки, которые он носит стыдясь.
Он выглядит вызывающе, странно среди оборванцев и босяков новейшего социального строя, с которыми вынужден бок о бок жить, оборванцами и босяками не только из бедности, что извинительно во все времена, но ещё и из дурацкого принципа, рождённого разрушительными идеями переворота, не признающими всех этих галстуков и манжет как отвратительный атрибут навсегда, как им представляется, погребённого проклятого прошлого. За сто шагов несёт от него именно бывшим, белогвардейским, обречённым на разрушение, не имеющим права на жизнь. Он это знает прекрасно, не может не знать. Он знает и то, что кому-кому, а ему-то бы лучше не наводить своим вызывающим видом на опасные мысли о его собственном недалёком прошедшем. Прошедшее прямо вредное, если на него поглядеть прозорливыми, пристрастными глазами сотрудника ГПУ, рабочего, а чаще крестьянского парня, который в каждом человеке интеллигентного вида заведомо чует врага своим непримиримым, умело направленным новой властью чутьём, а имеются ли нынче другие, более снисходительные глаза? К стенке, граждане, к стенке ведёт этот обыкновенный, ещё так недавно вполне пристойный наряд. Так и хочется крикнуть из своего, опять-таки неспокойного далека:
– Михаил Афанасьевич, не одеваться ли вам поскромней?!
Всё он знает, всё понимает до нитки. Своим изысканным видом интеллигентного человека он вызов бросает эпохе хамства и свинства прямо в лицо. Глядите, пяльте глаза, негодуйте: я вас не боюсь!
Возможен в этом наряде также и тонкий расчёт: эта сволочь из ГПУ ловит тех, кто таится и прячется, авось пройдёт мимо того, кто так беспечно и странно стоит на виду. Я лично подозреваю, что это было именно хак.
Во всём прочем он скрытен, непроницаем, не откровенен ни с кем, оттого, что умён и раним, причём раним до того, что малейшее неловко, необдуманно произнесённое слово чуть не до крови пронзает его. Он не переносит этого хамского панибратства эпохи, этой фамильярности недавних крестьянских детей и вздрагивает и сужает глаза, когда окликают его по фамилии, не находя нужным присовокупить имени-отчества. Он не допускает никого до себя. Он закрыт. Его внутренний мир ограждён. Никому не удаётся прорваться сквозь его невидимые, однако необоримые бастионы. Всякого, даже самого развязного гражданина он останавливает на первых же подступах к ним, и если кого-нибудь подпускает чуть ближе, тот чуть не за полную доверительность и откровенность принимает даже несколько обыкновеннейше тёплых, обыкновеннейше искренних слов. Его окончательных мыслей не удостаивается запечатлеть даже дневник, который для того-то и нужен ему, чтобы удовлетворить хотя бы отчасти эту глубоко присущую всякому человеку потребность в открытости.
Может ли в этом состоянии глухой круговой обороны, один против всех, долго выдержать человек, пусть даже самый блистательный, самый умный из всех? Не может, это необходимо тут же прямо сказать, поскольку в человеке имеется живая душа. И чем блистательней и умней, тем живее душа, а живая душа так и просится обнажиться, выставиться наружу во всей своей красоте, стыдиться ей нечего, поскольку живая душа к тому же невинно-чиста. Да попробуй-ка тут обнажись: тотчас хвать в ГПУ, и поминайте как звали голубчика!
Это противоречие между внешним и внутренним беспрестанно корёжит, душит и давит его. Он задыхается. Всегда нервы взвинчены и взвинчены всегда до предела. До того он страдает, до того одинок, что уже не способен видеть, не способен выносить чужого страдания, и рёв несчастного Шурки-соседа выводит его из себя, в особенности же непереносимы страданья животных, братьев меньших. Тут уж он беззащитен, тут выходит наружу весь трепет души, вся его доброта, тут он не властен в себе, готов этих бесприютных страдальцев натащить целый дом.
Ах, как он напишет об этих бездомных, замученных, ошпаренных, избитых зверях! Без искренних слёз невозможно читать! Услышьте этот чистый и нежный яростный голос его:
“Я увидел жёлтые встревоженные глаза моей кошки. Я подобрал её год назад у ворот. Она была беременна, а какой-то человек, проходя, совершенно трезвый, в чёрном пальто, ударил её ногой в живот, и женщина у ворот видела это. Бессловесный зверь, истекая кровью, родил мёртвых двух котят и долго болел у меня в комнате, но не зачах, я выходил его. Кошка поселилась у меня, но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно трудно. Моя комната находилась под крышей и была расположена так, что я мог выпускать её гулять на крышу и зимой и летом. А в коридор квартиры я её не выпускал, потому что боялся, что я из-за неё попаду в тюрьму. Дело в том, что однажды ко мне пристали в тёмном переулке у Патриарших прудов хулиганы. Я машинально схватился за карман, но вспомнил, что он уже несколько лет пуст. Тогда я на Сухаревке у одной подозрительной личности купил финский нож и с тех пор ходил всегда с ним. Так вот я боялся, что если кто-нибудь ещё раз ударит кошку, меня посадят...”
Скажите, как этому совершенно измученному сплошным одиночеством человеку оставаться в живых в этом мире безумном, в этом мире жестоком, в этом мире, где упразднено сострадание к людям и к кошкам как преступная вещь, как оставаться в живых, нигде и ни в чём не выдавая себя, замкнувши уста на замок?
Невозможно такому человеку оставаться в живых, двух мнений на этот счёт быть не может, разумеется, если не отыщется какой-нибудь благовидный и не совсем рискованный способ выпустить своё чувство и свою мысль на свободу, хотя бы как он выпускает несчастную кошку на крышу.
Где и в чём может быть этот способ? На каком доме ждёт его крыша?
Эх! Эх!
Нигде и ни в чём, когда общество располагает таким замечательным учреждением, как ГПУ, которое, не успели в обществе и глазом моргнуть, вновь прибирает к своим железным рукам хрупкое право следствия и суда, отвергая самую мысль о верховенстве закона, в котором без зазрения совести судят за убеждения, не утруждая себя доказательством даже того, что таковые убеждения пребывают в наличности. Уже сам Дзержинский, а это уже, сами знаете, последнее дело, предлагает завести досье на каждого интеллигентного человека, явным образом преследуя самую погромную цель: пусть пока что работают на новую власть, однако ни одному из них нельзя позволить мыслить и жить без страха за жизнь. Таким образом, представьте только себе, сам процесс мысли косвенным образом объявляется контрреволюцией, поскольку разрешается лишь повторять, непременно затвердив наизусть, героические и безусловно мудрейшие решения самого последнего съезда РКП(б). И уже вновь ни за что ни про что подбирают по закоулкам прежде недобранных меньшевиков и эсеров и потихоньку отправляют на север. И уже подвергают аресту обыкновенных интеллигентных людей, человек приблизительно сто шестьдесят, объявив ни с того ни с сего идеологическими колчаковцами и врангелевцами, в их числе два ректора ведущих университетов страны, Петроградского и Московского, математики, экономисты, теоретики кооперации, историки, социологи, философы, блестящие русские имена, Кизеветтер, Бердяев, Франк, держат предварительно у себя для острастки другим и затем высылают в Европу, то есть глупейшим образом выметают прочь мысль и совесть страны. Вам, разумеется, не терпится знать, за что настигает эта, впрочем, ещё не самая суровая, не последняя кара это созвездие русской мысли, русской культуры? Да ни за что. Формулируют так: не представляют опасности в настоящий момент, однако могут стать опасными в будущем. Этим актом, как нетрудно понять, достигается уже самый крайний предел беззакония. Уже могут любого схватить и сослать и казнить, заподозривши в том, что способен что-нибудь эдакое в туманном и непредвиденном будущем натворить.
И в те же самые дни определяют 15325 большевистских ослов, которым будто бы полагаются за их нечеловеческий труд особые привилегии в деньгах, продовольствии, в жилье, в медицинском и прочем обслуживании, тогда как до революции привилегиями пользовались всего-навсего десять тысяч семейств.
И вот если он, наглядевшись на всё это свинство, возьмёт да и ляпнет самую простую, самую голую правду: сволочи вы? Не успеете этого человека и в лицо разглядеть, помнить имя его устрашитесь, лишь бы эти пятнадцать тысяч новых семейств могли припеваючи жить. Да и возможно ли при новой-то свободе печати хоть одно словечко правды сказать? Невозможно никак, да и никто не решается говорить.
А Михаил Афанасьевич не может молчать.
И говорит, представьте себе.
При новой-то свободе печати, на виду ГПУ?
Да, представьте себе, при новой свободе печати и на виду ГПУ!
Глава третья.
БУДНИ ВЕЛИКОГО ЛИТЕРАТОРА
КАК ВСЁ гениальное, способ говорить правду при новой свободе печати и на виду ГПУ обнаруживается им совершенно случайно, прошедшей голодной зимой.
Тогда вьюги летели, стужа трещала, паровое отопление в проклятой квартире едва нагревалось, давая то семь, то восемь градусов тепла, и не было дров, стало быть, нечем стало буржуйку топить.
Тоска его грызла. Вопрошал он бесплодно, за какие такие провинности его так жестоко мытарит судьба. Припоминались картины, впрочем, и не картины, а гадость одна, погромы, мобилизации, истязания, трупы, трупы на каждом шагу. Думалось приблизительно так: “За что ты меня гонишь, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или ещё лучше: через сто лет. А ещё лучше, если б и совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: “Зато вам будет что порассказать вашим внукам!” Болван какой! Как будто единственная мечта у меня – это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!..”
Мысли, разумеется, бестолковые, праздные, никому не нужные, так, душу зазря бередят, а ему необходимо хоть что-нибудь написать, снести утром в редакцию, пока ещё даже неизвестно в какую, и в этой какой-то редакции гонорар получить, чтобы купить на Щепном связку дров, тайно пронести в свой подъезд, поскольку топить воспрещается строго-настрого, хоть умри, и развести в закоптелой буржуйке огонь.
Однако, о чём же писать, как не о том, что бередит тебе душу, что тебя поедом ест? Ни о чём другом он не умеет писать, впрочем, он вообще ещё писать не умеет. Только о том он и может, натурально, пытаться писать, поскольку это в нём талант говорит, без таланта пишут всё, что власти угодно и за что во всех редакциях без промедления выдают гонорар. Он и пытается. Заносит кое-что на бумагу. И получается какая-то дрянь, с какой стороны ни взгляни. С одной стороны, не выходит никакого рассказа, а выходят отрывки, внешне не связанные ничем, как обыкновенно случается, когда вспоминаешь прошедшее. С другой стороны, какой же дурак понесёт эти абсолютно откровенные вещи в печать? Мало на свете таких дураков, а он к тому же и не дурак. И тут осенило его – отдать преопасные мысли другому, вполне вымышленному лицу, прямо так, как выливается из-под пера. На свете не придумано ничего надёжней и проще. Это же контрреволюция, – скажут, а затем строго спросят: это кто у тебя говорит? А это вот он говорит, сукин сын, белый гад и подлец, а я тут ни при чём, я его вывел на свежую воду, мол, вот он каков, наш классовый враг, берите его!
И он бестрепетной рукой написал:
“Доктор Н., мой друг, пропал. По одной версии, его убили, по другой – он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей – он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе...”
Далее сообщил, что остался от пропавшего доктора чемодан, а в чемодане записная книжка нашлась, сорочки, ещё кое-что. Сестра доктора эту самую книжку прислала, находя её интересной и достойной отдачи в печать. Как тут не уважить просьбу безутешной сестры? И он прибавил с этакой скромностью:
“Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно – некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора Н. отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их...”
В сущности, стариннейший литературный приём всех умных людей, какие и до него являлись на свете. Очень его Пушкин любил, Белкина помните? Тоже и Гоголь, у которого пасечник Рудый Панько. Ещё Достоевский. Замечательная родня!
Сотворивши всё это, утром он побежал по редакциям. Разумеется, во многих местах говорили ему обыкновенные вещи о контрреволюции и о том, что никак печатать нельзя. Говорили ещё, что это никакой не рассказ, а чёрт знает что, с чем он вполне соглашался в душе. Наконец напечатали, полгода спустя. И, представьте себе, ничего. Комар носа не подточил. ГПУ никакого вниманья, то есть может и взяли на заметку, однако ж не взяли его. Он осмелел. Он осознал, что в том и заключается прямейшее дело скованного страхом пера: именно мысли и душу наружу, как они есть, самую крайнюю исповедь, какой, может быть, никогда до него и на свете ещё не бывало, начиная, скажем, с Жана Жака Руссо. Однако при одном непременном условии: исповедаться должен кто-то другой. Только этого другого и остаётся придумать в поте лица и уже больше не придумывать ничего, а прямо так и валить всё как есть.
И он является в “Накануне” тонким, стремительно созревающим автором, со своим неповторимым, всегда узнаваемым, неизменно и исключительно интеллигентным лицом, со своей неприкрытой оценкой обстоятельств и лиц, со своим прямым отношением ко всему, что выливается из-под пера, с речью изысканной, строгой, литературной, от которой так и веет традицией, разумеется, в первую очередь возлюбленным Гоголем, со своим строго обдуманным взглядом на жизнь, со своим непосредственным чувством, со своей страстью, со своей ненавистью интеллигентного человека решительно ко всему, что вышвыривает из своих взбаламученных недр ему под ноги эта будто бы новая, а по сути своей вовсе не новая жизнь.
Сколько вокруг упований на то, что уже строится эта громко объявленная, эта обещанная, эта партийными съездами помещённая в резолюциях новая жизнь! Сколько искренних большей частью восторгов! Сколько самых светлейших надежд!
О лицах официальных что говорить. Нечего о них говорить. Поощрённые привилегиями, сытые, нос в табаке, официальные лица и пылают самым багровым румянцем самых горячих надежд. С наступления новой экономической политики проходит всего только год, а уже объявляется, что отступление кончилось, что крестьянское хозяйство восстанавливается даже не по дням, а чуть ли не по часам и минутам, что железные дороги работают лучше, что в строй вступают одна за другой восстановленные коммунистическим ударным трудом заводы и фабрики, что уже виднеется на горизонте тот радостный час, когда Россия нэповская превратится в Россию социалистическую. Очень всё хорошо. Ужасно приятно на слух. На то они и официальные лица. Что говорить: мастера!
Однако уже и другие, совсем не официальные лица, которым, кажется, пристало бы с большей реальностью и прозорливостью глядеть на мимо идущую жизнь, поскольку никакие привилегии им не застилают глаза, поддаются приятной иллюзии, что перелом наступил, что начинается созидательный, всё сверху донизу обновляющий труд, и Толстой, разумеется, Алексей, из своего прекрасного далека уже прозревает три фазиса революции, из которых первый, само собой ураганный, всё сметающий, анархия и дикая власть коллектива, которым поглощается личность, тогда как во втором торжествует террор, анархия отступает, из хаоса появляется каким-то неведомым чудом новая личность, и вот уже третий период перед глазами у всех, когда анархия отступила и страсти коллектива утихли. Теперь красота:
“Начинается творчество новой жизни. Личность обращается на самое себя, в то же время не отделяя себя от коллектива. Входит с ним в согласие. Так появляется новая личность. Её путь через смерть и новое рождение в революции. Она поглотила в себя весь трагический опыт страдания, буйства, безумия, восторга, разрушающей и творческой воли. Новая личность сострадательна с революцией, или соокаянна с ней...”
Но этот хоть там, в Берлине сидит, сбирается воротиться домой, оттуда что угодно привидеться может, тем более что там отбивные, пиво и свобода печати прежняя, буржуазная, с бумагой и типографским делом в частных руках. Удивительного, стало быть, нет ничего. Удивительно то, что и здесь уже пышным цветом расцветают надежды. Вот и Лежнев, редактор “России”, из “Записок на манжетах” взявший кусок, намеревается объединить все живые силы страны на этот новый, исключительно созидательный труд и рассуждает приблизительно так:
“Самой вероятной для России конструкцией надо считать известное сочетание государственного и частного капитализма, известное расширение (по сравнению с прошлым) публично-правовых возможностей. Но было бы наивно думать, что в этой борьбе всё пойдёт прахом, и вредно со стороны вещать печальные пророчества, озорнически радоваться срывам и говорить под руку. Это не только бесполезно, но и тактически вредно, ибо всякое высказывание, предаваясь через печать публичности, объективируется и входит в сознание, а, стало быть, косвенно и в план действия определённой общественной среды...”
Стиль, разумеется, варварский, до того издевательский, что остаётся только жалеть несчастный русский язык, которым распоряжаются так озорнически, однако же самая мысль, что объективируется и что входит в сознание, очень может быть, и верна, и говорить под руку тоже и бесполезно, и тактически вредно, а всё-таки остаётся неясным, что делать, если радостных пророчеств как-то не взбредает на ум? Если никакой творческой личности ни с какой стороны не видать? Тем более ни с какой стороны не видать новой творческой жизни? Если под руку так и подмывает сказать? Что сказать? Разумеется, правду сказать, что же ещё? То есть сказать, что не только нового ничего не видать, а и старое, разломанное чёрт знает зачем, уже на ногах не стоит. Тут жизнь хотя бы в какую-нибудь вошла колею. Тут хотя бы просто нормальная жизнь завелась.
И Михаил Афанасьевич несёт в редакцию “Накануне” свою “Столицу в блокноте”. Ироническую, ядовитую вещь, полную ложного пафоса, поскольку этот пафос сознательно направлен на вздор, поскольку изворотливый автор с чрезмерной громкостью восторгается такими приметами нового, которые скорее должны бы вызывать тоску по тому, что разбито, что утрачено в безумии нескольколетнего общего разрушения. Чего стоят одни названия глав!
“Бог Ремонт”!
На какие предметы направляет это названье наш ум? Разве в этом названии отражается и гремит созидательный труд? Разве слышатся звуки новой, героически воздвигаемой жизни? Я не слышу. Я слышу, что автор ведёт свою речь о ремонте, о подновлении старого, обветшавшего здания, которое рушили, рушили, да вдруг оказалось, что необходимо придать ему божеский вид.
Разумеется, в этой любопытной главе можно отыскать кой-какие бодрые ноты, однако сколько в них горечи, сколько тоски. Сообщается, например, что бог Ремонт – любимый бог автора, он измазан извёсткой, от него пахнет махоркой, и тут же вставляется горчайший пассаж:
“Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своём осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах, да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургузых куртках. Холодно?.. Вздор. Очень легко можно привыкнуть...”
А вот какой славный восторг:
“Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие окна в нижних этажах вдруг застекляются...”
Позвольте, все окна в нормальном обществе, и притом во всех этажах, должны иметь стёкла, просто не может быть окон без стёкол, и весь разговор.
А вот и ещё:
“Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?..”
Точно он собственными глазами увидел летающую тарелку, а в ней живых марсиан.
Слышите ли вы, мой читатель, этот горестный смех, даже уже не сквозь слёзы, Гоголь, в сущности, счастливейший был человек, мало чего повидал на веку, – смех сквозь ужас, смех сквозь ненависть и смех сквозь презренье! Слышите ли вы хохот Воланда по поводу этих лифтов и стёкол? Помилуйте, граждане, ведь лифты должны исправно ходить во все времена.
И он с этим сдержанным хохотом дьявола повествует, как интеллигент, молодой, с дипломом врача, служит грузчиком мебели, чтобы не околеть с голоду на жалованье врача, или о том, как в театре встречает ни с чем не сравнимое чудо – человека, носящего фрак: “Падает занавес. Свет. Сразу хочется бутербродов и курить. Первое – невозможно, ибо для того, чтобы есть бутерброды, нужно зарабатывать миллиардов десять в месяц, второе – мыслимо. У вешалок сквозняк, дымовая завеса. В фойе – шарканье, гул, пахнет дешёвыми духами. Зеленейшая тоска после папиросы. Всё по-прежнему, как было пятьсот лет назад. За исключением, пожалуй, костюмов. Пиджачки сомнительные, френчи вытертые. “Ишь ты, – подумал я, наблюдая, – публика та, да не та...” И только что подумал, как увидал у входа в партер человека. Он был во фраке! Всё, честь-честью, было на месте. Ослепительный пластрон, дивно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!..”
И присовокупляется будто бы мимоходом, что фрак не тронул никто. Вам и в этом замечании не слышен дьявольский смех?
А вот ещё: появляется сверхъестественный мальчик, и сверхъестественного в мальчике одно только то, что мальчик не ворует, не курит, не торгует газетами, а в школу идёт, и ранец у него за спиной.
И много ещё в том же роде известий о новых важных событиях. И вставляется коварная мысль, что Москва – это котёл, в котором варят новую жизнь, и поясняется саркастически:
“Это очень трудно. Самим приходится вариться...”
И над всем этим издевательством и сарказмом витает мрачнейшая мысль: граждане, скажите на милость, какие могут быть тут мосты между прошлым и будущим, когда никакого прошлого нет, с лица земли снесли это прошлое, стёрли в мельчайшую пыль, нам ещё начинать нормально, с ранцем в школу ходить, стёкла вставлять, а вы?!
Однако, однако... Мало кто внимает голосу разума, мало кто слышит трезвый голос этого острого, безошибочного наблюдателя жизни, пусть и упрятанный в изумительно сшитые одежды иронии, мало кто размышляет над тем, какая безотрадная катастрофа разразилась над несчастной страной, которая прежде называлась Россией.
И он является в московской редакции “Накануне” корректным, но несколько отстранённым, с чуть приметным высокомерием, заставляющим держаться от него на расстоянии подобающем, поражает неотёсанных грубых парней, выварившихся в кипящем котле гражданской резни, своей изысканной светскостью, элегантным костюмом, церемонным поклоном, целованьем ручек у дам и своими великолепными “как вам угодно-с”, “извольте-с”, так что все здесь смотрят на него с почтительным удивленьем и уважают его.
Ещё более он поражает своим умением видеть и своим умением мастерски, поэтично и просто положить на бумагу увиденный факт. И в памяти его младших коллег остаётся на многие годы, как открылась в Москве первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка, преобразив своим появлением бывшую свалку, как решительно все, кто умел водить по бумаге пером, на все лады изображали это диковинное явление во всех московских газетах и как один Михаил Афанасьевич, без малейших, казалось, усилий, превращает обыкновенный газетный очерк в шедевр, “искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью”, успех которого все сотрудники предрекают заранее, даже не читая его.
И решительно уничтожает всех своей неслыханной дерзостью, поскольку с невиданной элегантностью совершает поступки, на какие решиться не способен никто. Легко ли сказать! Когда ему предлагают возместить все понесённые им расходы по осмотру этой первой с громом и помпой открываемой выставки, он предъявляет почти астрономический счёт, состоящий главным образом из солидных затрат на закуски, обеды и ужины с разнообразным меню, а также на дегустацию вин из всех винопроизводящих районов обширной и умеющей выпить страны. А самое потрясающее: счёт на двоих! И когда несчастный кассир, прижимистый человек, побледневший, как снег, с жалким видом лепечет, не съедал ли почтеннейший Михаил Афанасьевич по две порции каждого блюда, почтеннейший Михаил Афанасьевич отвечает невозмутимо:
– А извольте-с видеть, Семён Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда пришлись даме по вкусу. Как вам угодно-с, а произведённые мною производственные расходы покорнейше прошу возместить.
Поверьте, я немного знаю людей и потому имею некоторое право сказать, что такой замечательный фокус с кассиром мог проделать единственно он! Вы только послушайте, что по этому поводу говорит современник, очевидец этой рассказанной выше истории, правда, при жизни оболгавший его и вспоминавший полвека спустя:
“И возместил! Калманс от волнения едва не свалился, даже стал как-то нечленораздельно похрапывать, посинел. И всё-таки возместил. Булгакову не посмел отказать... На Булгакова с того дня мы смотрели восторженно...”
И чуть не сводит с ума своей деликатностью, своим тонким вниманием к каждому молодому сотруднику, способному сочинить хоть сколько-нибудь приметную, хоть отчасти неординарную вещь. В такие дни, несмотря на то, что проводит большей частью ночи без сна и поздненько встаёт, он приходит раньше других, опускается на диванчик в одной из кабин, терпеливо дожидается счастливого автора, поднимается, отвешивает свой церемонный поклон и объявляет с совершенно серьёзным лицом:








