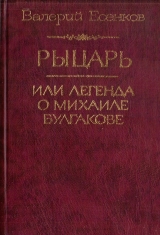
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Глава двадцать четвёртая.
СПАСЕНЬЕ
НА БОЛЬШЕЕ его не хватает. Он отправляется к дядьке, узнает, что дядьке, в его отсутствие, вопреки всем декретам, силой подселили какую-то вредную парочку, и просит немного картошки и немного муки. Дядька, распалённый почти кровожадной борьбой за выселение нахально вселившейся парочки, великодушно прибавляет целую бутылку постного масла. Борис Земский даёт в долг миллион. Продуктов и денег хватает на несколько дней. Подворачивается какая-то труппа бродячих, страшно голодных актёров, которые намереваются что-то играть на окраинах, лишь бы заработать на картошку и хлеб. Без колебаний, припомнивши опыт своих самодеятельных детских спектаклей, он решается играть вместе с ними, соглашаясь на самые нищенские, если не оскорбительные условия:
“Плата 125 за спектакль. Убийственно мало. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда. Заколдованный круг...”
В этот катастрофически-безысходный момент приходит телеграмма из города Киева: мама, светлая королева, в ночь на первое февраля, заразившись от Гладыревского, скончалась от тифа.
Проезд по железной дороге стоит триста рублей километр. Таким образом, о поездке на погребение не может быть речи. В тот день у него назначен спектакль. Можно представить, с каким камнем на сердце отправляется он лицедействовать. Однако в театре его встречают новым, увы, беспощадным ударом: труппа распалась. Он возвращается абсолютно разбитым и всю ночь пишет в город Киев письмо. Кому оно адресовано? Наде? Нет, оно адресовано только что оставившей белый свет маме. Вновь, после долгого перерыва, он обращается к ней, употребляя заглавную букву, на “Ты”. Он пишет о том, что она значила, чем была в жизни осиротевших детей, которых во имя памяти матери просит хранить их прежнюю, их бесценную дружбу.
9 февраля 1922 года он записывает в своём дневнике:
“Идёт самый чёрный период моей жизни...”
Он ошибается только в одном: впереди его поджидают периоды много черней.
Борис хлопочет и наконец протискивает его на должность заведующего редакционной части в научно-техническом комитете, на должность довольно хорошую в смысле пайка, однако Михаил Афанасьевич видит заранее, что должность сведётся на побегушки, и по-прежнему, в прохудившихся валенках и в дырявом пальто, мечется по холодной Москве в поисках материала для фельетона, для очерка, для хроники, всё равно для чего, лишь бы куда-нибудь пристроить в печать и заработать на фунт, на полфунта чёрного хлеба, за проклятую квартиру, между прочим, тоже надо платить.
И ему открывается в каждой улице, на каждом углу, что жизнь в разворошённой Москве течёт феерически:
“Самое характерное, что мне бросилось в глаза: 1) человек плохо одетый – пропал; 2) увеличивается количество трамваев и, по слухам, прогорают магазины, театры (кроме “гротесков”) прогорают, частные художественные издания лопаются. Цены сообщить невозможно, потому что процесс падения валюты принял головокружительный характер, и иногда создаётся разница при покупке днём и к вечеру. Например, утром постное масло – 600, вечером – 650 и т. д. ... Замечателен квартирный вопрос...”
Борьба дяди Коли, несмотря на все его охранные грамоты, оканчивается ничем, и нахальная парочка навсегда отхватывает часть жилья у известного гинеколога, имеющего громадный приём. Дядю Мишу выставляют в гостиную, а в его комнату вселяется пара, которая ввинчивает одну лампочку в сто, другую в пятьдесят свечей и ни ночью, ни днём на желает эту подлую иллюминацию выключать, поскольку счётчик остаётся по-прежнему общим, и дяде Мишееще приходится за это пролетарское свинство платить.
В здании Второго университета на Девичьем поле назначается суд над “Записками врача” Вересаева. Михаил Афанасьевич тоже приходит, то ли вспомнив, что он лекарь с отличием, то ли понадеясь и на этом паршивом суде ухватить что-нибудь для газет.
Уже с половины седьмого чёрные тучи студентов ломятся в помещение, отведённое для суда. В помещении яблоку негде упасть. В президиуме за красным столом восседают седые профессора и сам автор “Записок врача”, некрасивый, лысый, с умными глазами и набрякшими веками, с лицом пожилого еврея. Профессора отчего-то выглядят нудными, вопросы ставят тяжёлые. Студенты, несмотря на бессчётные смены властей, ищут правды и скорейшего разрешения самых жгучих проблем бытия. Самый горячий, самый насущный вопрос – возможно ли всякое серьёзное дело без человеческих жертв, возможно ли в новом обществе жить для блага отдельных лиц, или же благо коллектива важнее, и при этом молодые энтузиасты с замороченными мозгами дружно обвиняют старого литератора в индивидуализме, орут с мест, что до блага отдельных лиц им дела нет, что именно благо всего коллектива для них превыше всего, а на отдельного человека плевать.
Старый литератор отвечает неторопливо, интеллигентно, умно, как не удавалось слышать давно, с бывших лет:
– Есть два рода коллективизма: коллективизм пчёл, муравьёв, стадных животных, первобытных людей – и тот коллективизм, к которому стремимся мы. При первом коллективизме личность, особь – полнейшее ничто, она никого не интересует. Трутней в улье держат до тех пор, пока они нужны для оплодотворения матки, после чего их беспощадно убивают или выгоняют из улья, осуждая на голодную смерть. Стадные животные равнодушно бросают больных членов стада и уходят дальше. Так же поступали дикие кочевые племена с заболевшими или одряхлевшими сородичами. Можем ли мы принять такой коллективизм? Конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, что коллективизм сам по себе есть не что иное, как отвлечение. У него нет собственного сознания, собственного чувствилища. Радоваться, наслаждаться, страдать он способен только в сознании членов коллектива. Главный смысл и главная цель нашего коллективизма заключается как раз в гарантировании для личности возможностей широчайшего её развития. В первобытно-людском и животном коллективе попрание интересов особи есть не только право коллектива, но даже его обязанность. Для нас это – только печальная необходимость, и чем будет её меньше, тем лучше. Нам покажется диким отвернуться от старика, всю свою жизнь проработавшего для коллектива и теперь ставшего ему ненужным. Он для нас – не отработанная в машине гайка, которую за ненадобностью можно выбросить в канаву, он для нас – брат, товарищ, и мы должны сделать для него всё, что можем...
Этот насущный вопрос обсуждается всюду. Интеллигентные люди требуют гарантий для личности, торжества закона и права, отвергают командование со стороны комиссаров, которые большей частью раздобылись начальным образованием, а лезут везде указывать и управлять, хуже того, интеллигентные люди считают единственно плодотворным местное самоуправление свободно избранных, строящихся снизу и самодеятельных организаций. “Летопись дома литераторов” заявляет:
“Не пора ли уже сейчас признать, что свободный товарообмен неразрывно связан с допущением свободного обмена идей...”
Вопрос слишком серьёзный. От его разрешения зависит целиком и полностью будущее страны, и новая власть, отбросивши с порога права личности, закон и свободу идей, колеблется, даже пытается несколько посмягчить свой тотальный террор. Слишком скомпрометировавшая себя ВЧК упраздняется, ко всеобщему удивлению и облегчению. Учреждается ГПУ, у которого отнимается право суда. Стране даётся уголовное законодательство, наконец.
Однако большевики упорно сохраняют монополию власти и с чрезвычайной энергией охраняют её. Проводятся массовые аресты меньшевиков, готовится суд над эсерами. И тех, и других обвиняют в тайной антисоветской борьбе, вопреки тому очевидному обстоятельству, что и меньшевики, и эсеры публично объявляют о своём полном признании всех советских законов. Истребляют одних, чтобы запуганы оказались все остальные. В “Правде” помещается статья под характерным названием “Иллюзии контрреволюционной демократии”. Статья угрожает всем, кого ещё не покидает надежда:
“Позволить “внутреннему врагу” обойти нас с тыла мы ни при каких условиях не намерены. Между тем стратегия либеральных демократов в том и состоит, чтобы использовать время нэпа, быстро разрастаясь в порах нашего же советского организма, против этого советского организма...”
Другая статья самим своим заголовком вопит:
“Диктатура, где твой хлыст?”
В этот переломный момент начинает выходить новая партийная газета “Рабочий”. Каким-то чудом Михаил Афанасьевич попадает в неё, причём в первом же номере, 1 марта 1922 года, помещает заметку о Второй ситцевой фабрике “Когда машины спят”, подписав её ещё одним псевдонимом “Михаил Булл”.
Однако условия службы в партийной газете оказываются сволочными, другого, приличного слова не подобрать. Впрочем, не в одной только этой, а и во всех, в которых ему за кусок хлеба придётся служить. Редактор управляет газетой, имея непоколебимое убеждение в том, что журналист обязан, а значит и может по совести написать всё, что нужно редактору, главное же, имея ещё более непоколебимое убеждение в том, что журналисту решительно всё равно, что писать. Накануне революционного праздника человек с таким убеждением вызывает будто бы не имеющего никаких убеждений сотрудника и стальным голосом комиссара бросает ему, точно нажимает курок:
– Надеюсь, вы разразитесь хорошим героическим рассказом.
В большинстве случаев несчастный сотрудник, за кусок хлеба уже в самом деле давно растерявший свои убеждения, таким способом превращённый новой властью в скота, сломя голову мчится к столу и с новым, уже поселившимся убеждением униженного раба, что исполняет свой долг, действительно разражается, однако же, разумеется, не хорошим, а сквернейшим рассказцем, который тем не менее принимается редактором с искренней похвалой.
Михаил Афанасьевич в таких случаях бледнеет, краснеет и мнётся. Ему страстно хочется растолковать комиссару одну безусловную истину, которую опровергнуть нельзя:
– Для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежде всего самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или по иным побуждениям, получится скверный.
Да каким же образом решиться растолковать эту вечную истину человеку с партийным билетом в левом кармане военного или полувоенного френча, под которым так грозно колотится пролетарское сердце? Никак не решиться, если, конечно, данный человек не круглый дурак. Тем более, что данный человек, не будучи круглым дураком и без желания пропасть ни за грош, разражается в газете “Рабочий”, как и в прочих советских газетах, исключительно по денежным, а не по каким-либо иным побуждениям, получая за эту сволочную продажу своего интеллекта тридцать миллионов рублей, которые, совокупно с пайком, вмещающим судочек хлопкового масла и немного муки, и сорока миллионами, добытыми такой же продажей в научно-техническом комитете, составляют приблизительно половину того, что необходимо ему, чтобы выжить.
И он разражается чем ни попало, изворачиваясь, вертясь, лишь бы не касаться совершенно для него не мыслимых тем, на которые пришлось бы разражаться исключительно ложью. И кой-как прямой лжи избегает и позволяет себе, поскольку абсолютно не в чем ходить, приобрести за четыре с половиной миллиона ботинки, английские, ядовито-желтейшего цвета. Однако и в этом вполне прозаическом предприятии его настигает какого-то ещё более ядовитого свойства судьба: он спешит покупать, подсчитав, что через несколько дней точно такие ботинки подскочат до десяти миллионов. Дома, разумеется, неторопливо осматривает приобретение и обнаруживает, что приобрёл несусветную гадость: жёлтый цвет такого ядрёного колера, что режет глаза, ботинки американские, подмётки картонные, имитированные этими заокеанскими жуликами под настоящую кожу. И он испускает почти истерический вопль:
– Господи, Боже мой! До чего же мне это всё надоело!
Прямо-таки руки опускаются сами собой: гражданам отменяют пайки, а белый хлеб уже 375 тысяч за фунт, сливочное масло 1 миллион 200 тысяч, тоже за фунт, да за комнату приходится полтора миллиона платить, хотя платить за неё не хочется ни гроша, до того эта паршивая комната осточертела ему.
И тогда он, целыми днями колесящий по сволочным газетным делам, втискивается ещё и на должность конферансье в какой-то вшивый театрик, который, разумеется, обещает платить, но пока неизвестно сколько и ещё более неизвестно: когда?
Нервы ни к черту, само собой. Он бывает в Трёхпрудном у Слёзкина, сутулится, рассказывает остроумно и зло, какая гадость и рвань благоденствует на каждом шагу, изгаживая окончательно всё, что ещё не успели изгадить, воздевает руки к закопчённому потолку, возводит туда же глаза и вопрошает в тоске:
– Когда же всё это кончится, а?
Понимает, что не кончится никогда, и объявляет брезгливо:
– Нынешняя эпоха – это эпоха свинства.
А когда Слёзкин, истребивший свой интеллект на роман, в котором выводит его, начинает спрашивать о том времени, недавнем ещё, когда вместе погибали от звериного голода в освобождённом Владикавказе, в виду Столовой горы, он скрежещет зубами, но отчего-то хвалит роман, или, может быть, это лишь Слёзкину кажется, что хвалит, а не бранит.
Ещё забегает к Борису Земскому и погружается в домашний уют, в тишину, поскольку человек превосходный и прекрасно усвоил науку, как выжить, когда выжить нельзя:
“Как у него уютно кажется, в особенности после кошмарной квартиры № 50! Топится печка. Вовка ходит на голове, Катя кипятит воду, а мы с ним сидим и разговариваем. Он редкий товарищ и прелестный собеседник...”
Борису он тоже нравится, так что однажды своими тёплыми чувствами Борис делится с братом Андреем:
“Булгаковых мы очень полюбили и видимся почти каждый день. Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа... Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, – она от него не уйдёт...”
Между тем состояние его отвратительно. Всё, что творится вокруг, противно ему, вызывает в душе его раздражение: и стоптанная рвань на ногах москвичей, и продающие душу поэты, которые с постными ликами вечно пьяных людей кое-как слагают идиотские вирши, в которых слово “взвейтесь” рифмуется с редчайшим словом “развейтесь”, и красные воины, которые своей железной рукой бестрепетно держат за горло эту страну. И когда редактор приказывает ему разразиться и позвучней описать военный парад, он пишет со стиснутыми зубами, не выдавая своих истинных чувств, так что чувства прорываются только сквозь грохот и лязг, что-то уж слишком обильно нагромождённых один на другой:
“В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастёрках с красными, синими, оранжевыми шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рёв труб, рота за ротой идёт красная пехота...”
Он приспосабливается, однако не перековывается, не продаётся, не меняет своих убеждений, не уступает ни пяди. Он впадает в уныние, он падает духом, однако не прекращает биться, как рыба об лёд, не прекращает работать по всем направлениям, не прекращает искать, поскольку судьба то и дело выбрасывает ему один и тот же чёрный билет с короткой, но выразительной надписью: “смерть”.
“Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом...”
Он не сдаётся и в самом деле в конце концов находит судьбу, или, может быть, это сама переменчивая судьба внезапно находит его.
Часть вторая
Глава первая.
ОН НАКОНЕЦ НАЧИНАЕТ
В МОСКВЕ валятся на прилавки один за другим альманахи. В альманахах помещают одни и те же, давно установившиеся, давно известные имена, чему не приходится удивляться, поскольку расчётливые издатели альманахов таким простым способом, беспроигрышным, самым надёжным, поступают и поступали во все времена.
Михаил Афанасьевич всё ещё начинающий. Перед ним каменной глыбищей громоздится извечный вопрос, который приходится разрешать без исключения всем, кто оказывается в незавидном его положении без прочных связей и чудодейственных телефонных звонков: чтобы печататься, надо иметь известное, желательно громкое имя, а чтобы такое имя иметь, надо печататься, так как же тут быть?
Разумеется, ничего нового он не придумывает, поскольку в этом загадочном деле ничего нового придумать просто нельзя. У каждого альманаха имеется свой редактор, издатель, от которых непосредственно и зависит содержание книжки. Следовательно, необходимо проникнуть, явиться, лучше с рекомендательным письмом от кого-то, кто уже знает тебя, понравиться редактору, понравиться издателю, произвести впечатление, очаровать, заставить слушать себя и тут уж блеснуть, чтобы редактор, а следом за ним и издатель ни в коем случае не смогли тебе отказать, даже если первоначально и были намерены совершить этот в отношении тебя, без сомнения, кощунственный акт.
Ужасно наивно, а другого выхода нет, и он во время своих бесконечных метаний по голодной Москве в поисках предметов для наполненных лязгом корреспонденций в газету “Рабочий” забегает повсюду, где хотя бы отдалённо слышится типографский станок. Надо полагать, с его дерзкой энергией, с его страстным и вполне разумным желанием во что бы то ни стало остаться в живых, он везде побывал, более точных адресов нам уже, видимо, не узнать никогда. Известен только один: Моховая, 1, издательство под неосторожной вывеской “Костры”, писатель и издатель Архипов Николай Архипович, приятнейший человек, доброжелательный и приветливый, даже дельный, хотя “Костры” его дышат на ладан и прогорят полгода спустя, может быть, оттого, что, порядочный человек, авторам платит он хорошо. Михаил Афанасьевич обвораживает, завлекает, читает. Николаю Архиповичу нравится очень. Смеётся. Обещает помочь. Однако по каким-то невыясненным причинам не делает решительно ничего. Другим тоже нравится. Другие тоже смеются, тоже обещают с открытыми лицами и тоже не делают ничего. Образуется замкнутый круг, и уже начинает из тьмы выплывать паршивая мысль, что ему никогда из этого чёртова круга не выбраться. Даже не круг, а какая-то глухая стена. Высоченная, в три этажа. Да ещё колючая проволока пущена поверху. Бастион. Только что мерзейшие пулемётные рыла со всех сторон не торчат. Так не любят в литературных кругах новичка.
И вдруг сенсация страшная, по тем временам сенсация века: русские эмигранты издают в ихнем Берлине газету, по-русски, название “Накануне”, формат небольшой, цена номера всего сто пятьдесят тысяч марок, имеет три приложения, кинообозрение выходит под редакцией какого-то Мельника, экономическое редактирует известный профессор Швиттау, а во главе литературного стоит Алексей Толстой. И вся эта эмигрантская благодать допускается новой властью в Москву! И каждый божий день аэропланы компании Дерулюфт доставляют в Москву пачки свежеотпечатанных в ихнем Берлине газет! И эти пахнущие эмиграцией, пахнущие заграницей газеты продаются во всех московских газетных киосках! И расхватываются в мгновение ока, что разумеется само собой! И все интеллигентные люди наперебой презирают её! Даже откровенно говорят о рептильности! А за что? Очень просто ответить на этот серьёзный вопрос: все интеллигентные люди, вынужденные в большевистской России влачить жалчайшее существование, влачат это существование в томительном ожидании, когда же большевики, так безжалостно и так глупо загубившие дело свободы, провалятся в тартарары, а интеллигентные люди благодаря этому чуду наконец заживут нормальной, человеческой жизнью, в которой к стенке не ставят, а блюдутся обыкновеннейшие права человека, трудятся по своей прямой специальности, а не служат в сумасшедших советских учреждениях, где безмозглые комиссары взирают на них как на заклятых врагов и по малейшему поводу требуют заполнить анкету с такими вопросами, на которые лучше не отвечать. Натерпелись интеллигентные люди, что говорить, а тут являются другие интеллигентные люди, которым повезло вовремя удрать за границу, где блюдутся эти долгожданные обыкновенные права человека и где, благодаря этим правам, течёт нормальная жизнь, без учреждений и стенок, однако эти счастливые люди за границей жить не хотят, признают в России новую власть как законную власть, считают своим патриотическим долгом сотрудничать с ней и даже подумывают на досуге о том, что пора возвращаться домой, несмотря на стенки, анкеты и учреждения, несмотря ни на что, а двое из них уже и возвращаются, Потехин и Ключников, оба Юрии, оба юристы, авторы статей в “Смене вех”, а профессор Ключников даже бывший министр в правительстве Колчака, к тому же возвращаются в тот самый момент, когда закрывают большую часть открытых было частных журналов, которые, будто бы, превратились в нелегальные центры белогвардейщины и в которых излагается платформа “Смены вех”, к тому же не только приезжают, но остаются жить и работать в Москве, и это при том, что по крайней мере половина интеллигентной Москвы готова в любую минуту покинуть её.
И о чём, о чём пишут они? Какие философские размышления тревожат их истосковавшийся по родине ум? Они пишут, надо прямо сказать, необыкновенные, невероятные вещи:
“Мы не согласны, что прошлое мертво. И вместе с тем не верим, что достаточно лишь загореться великим идеалом, чтобы тотчас вполне достичь его. Мы знаем: между завтра и вчера стоит ещё сегодня, а у него свои требования и своя правда. Оно – примирение между прошлым и будущим. Оно – мост от прошлого к будущему. Всё ценное, что мир веками накопил в непрестанном творчестве, должно быть бережно и с любовью вручено грядущим поколениям. С другой стороны, новые ценности и новая красота будут лишь скользить по зеркалу жизни и с трудом найдут своё отражение в нём, пока кто-то не примирит их с жизнью, не прикрепит их к ней. Такова главная задача работников сегодняшнего дня... “Сегодняшний день” есть день великого исторического Кануна. Совершены великие разрывы и надломы. В решительной схватке сцепились неукротимые и непримиримые силы. Победят одни – новые мировые войны, новые бесплодные и обидные для человечества Версальские миры, новое всеобщее обнищание. А дальше – полная безысходность, взрыв отчаяния масс и мировая революция. Решительная победа других ознаменовала бы собою, напротив, начало новой исторической эры, торжество социальной справедливости внутри всех стран, прочный международный мир, быстрый и яркий прогресс, экономический и культурный...”
Господи, Царица Небесная! В опустошённом, в издерганном нынешнем дне, сведённом на одни животные нужды, эти мыслители обнаруживают не одни собачьи поиски картошки и дров, не состоявшееся возвращение в примитивную дикость, не страшнейший провал, а примирение между прошлым и будущим и, послушайте! – мост, именно мост от прошлого к будущему! Эх, и хватят же они шилом патоки на этом великолепном мосту!
А им ещё и этого мало! Редакция “Накануне” приглашает советских писателей сотрудничать с ней, то есть без промедления приступить к примирению между прошлым и будущим, строить мост через бездну, готовить победу новой исторической эры, которая будто бы станет непременно торжеством социальной справедливости, прогресса экономического и культурного, да ещё с какой-то яркостью и быстротой, тогда как никакого торжества и никакого прогресса не может быть и не будет, поскольку всё, что хотя бы отзывается прошлым, продолжает истребляться с неумолимой жестокостью, а, как известно, для возведения мостов нужны как минимум берега. Тихон идёт под арест, патриарх. Отдаётся тайный приказ расстрелять как можно больше православных священников, чтобы на сто лет вперёд не смели и думать ни о каком сопротивлении новым властям. Вот куда и вот какие у нас тут возводят мосты! Чему ж тут служить, если даже откуда-нибудь, кроме необходимости спасаться от голода, внезапно возьмётся охота служить? И не слышал ли он уже этот пакостный голос, призывающий разразиться хорошим рассказом, прославить и возлюбить? В этом случае приглашают разразиться рассказом о том, как прошлое и будущее дружно хватаются за руки, примиряются в припадке нерасторжимой любви, обнимаются и с радостным смехом пускаются в пляс.
Михаил Афанасьевич снова бледнеет, краснеет и мнётся. Ему ужасно хочется и на этот раз растолковать одну безусловную истину, которую опровергнуть нельзя:
– Для того, чтобы разразиться хорошим рассказом о том, как примиряются прошлое с будущим, нужно прежде всего это примирение увидеть своими глазами и поверить всем сердцем, что такое примирение возможно в этой обожжённой, схваченной страхом за горло стране. В противном случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или по каким-нибудь иным побуждениям, получится скверный.
Однако на этот раз его положение куда посложней. Разве растолкуешь такого рода непреложные истины истукану с партийным билетом в левом кармане военного или полувоенного френча? Никоим образом не растолковать! Он и не брался за это дохлое, прямо дурацкое дело. В редакции “Накануне”, напротив, уже не истуканы, в редакции “Накануне” действительно интеллигентные люди сидят, читают “Накануне” тоже интеллигентные люди. Можно бы попробовать растолковать, к тому же очень хочется есть и жёлтые ботинки сменить. Ничего не поделаешь, у нас одни денежные побуждения нынче в ходу, в нашем хвалёном сегодняшнем дне, так сказать, на нашем мосту.
А тут в десятиэтажном страшилище, когда-то возведённом сумасшедшим богачом Нирензее, в этом единственном небоскрёбе столицы, распахивает гостеприимные двери русский филиал редакции “Накануне”, чин по чину, с редактором во главе и, что особенно важно, с кассиром за крохотным, однако удивительно симпатичным окошком.
Он всё ещё колеблется, думает. В сердцах обзывает газету “Сочельником”, как видите, явным образом издеваясь над ней и в особенности над мечтаньями этих балбесов. Размышляет, как выяснится позднее, приблизительно в таком направлении:
““Сочельник” пользовался единодушным повальным презрением у всех на свете, его презирали заграничные монархисты, московские беспартийные и, главное, коммунисты. Словом, это была ещё в мире неслыханная газета...”
И, даже принявши решение и бросившись в эту клоаку, спустя год напишет в своём дневнике, в пятницу, вечером, в 1923 году, в октябре, 26-го числа:
“Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг “Накануне”. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придётся впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нём. Не будь “Накануне”, никогда бы не увидели света ни “Записки на манжетах”, ни многое другое, о чём я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырёх лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой...”
Ужасно ему сознавать, что будет скверно, если его первые настоящие, правдивые строки явятся в свет в “Накануне”. Ещё ужасней сознавать то, что не имеешь той предельной степени героизма, когда необходимо упорно молчать, не имея надежды открыть и в будущем рот, лишь бы не изваляться в дерьме.
Однако же он, стиснувши зубы, со своей дерзкой насмешливой полуулыбкой переступает и эту черту и, добравшись до Большого Гнездниковского переулка, бестрепетно вступает в дом Нирензее, прямо из холла поворачивает налево, тянет на себя стеклянную дверь, поднимается по трём ступеням, попадает в громадный сумрачный зал с очень высокими, от пола до потолка, окнами, почти не дающими света, идёт светло-синим сукном, покрывающим пол и скрадывающим звуки шагов, мимо перегородок полированного тёмного дерева, которые образуют небольшие кабины с узкими, тем же сукном обитыми диванчиками, стоящими в глубине, и кладёт на пустынный редакторский стол свою первую настоящую, серьёзную вещь, которая, может быть, написана этой бестолковой холодной и голодной зимой, скорей же всего написана только что, под свежим впечатлением от этой декламации о примирении и мостах, и которая высокомерно, презрительно, с вызовом названа “Записками на манжетах”, его недвусмысленный, хотя и не совсем осторожный ответ на эти наивные декламации, полный коротких, однако выразительных рассказов о том, как истребляется самый дух русской культуры, каково положение русских интеллигентных людей в завоёванной большевиками стране, которым за право полуголодного существования на постном масле и огурцах предлагается Пушкина выбросить в печку, и какие мосты возводят эти бандиты, едва вкусившие грамоты, с маузером и с кинжалом на поясе.
“Записки на манжетах” редакцией принимаются, отрывки помещаются в номере от 18 июня, в самый разгар неправедного суда над эсерами, ведутся переговоры об отдельном издании, автору даже выплачивается оскорбляющий авторское достоинство, прямо-таки ничтожный аванс, за лист по шестнадцать рублей, автор получает эту кучку подверженных безудержному паденью дензнаков, стыдясь за сытых берлинских господ, и полная рукопись этой действительно замечательной вещи отправляется очередным аэропланом в Берлин, однако издательство “Накануне” так и не решается её напечатать, слишком уж расходится представление издательства о мостах между прошлым и будущим с тем, что по этому же поводу думает уже немолодой, наконец-то, и так блистательно начавший писатель Булгаков, так что в конце концов он даёт по отрывку в пятый номер журнала “Россия” и во второй том альманаха под сомнительным названием “Возрождение”, которые выходят в свет почти одновременно в январе 1923 года, причём в альманахе расплачиваются деньгами и шпротами, в прочих редакциях, где с ненавистью, где с состраданием, говорят, что это совершенно контрреволюционная вещь и что такого рода вещей никогда не надо писать, никогда, а полная рукопись бесследно исчезает в Берлине.
И всё-таки он начинает. На него тотчас обращают внимание. Об этом повествует самый достоверный свидетель, заведующий русской редакцией “Накануне”, через руки которого проходят в дальнейшем все его рукописи:
“Алексей Толстой жаловался, что Булгакова я шлю ему мало и редко. “Шлите побольше Булгакова!” Но я и так отправлял ему материалы Булгакова не реже одного раза в неделю. А бывало, и дважды... Однако, когда я посылал Толстому фельетон или отрывок из какого-нибудь большого произведения Михаила Булгакова, материал этот не всегда доходил до редакции “Литературных приложений”: главная редакция ежедневной газеты нередко “перехватывала” материалы Булгакова и помещала их в “Накануне”. С “Накануне” и началась слава Михаила Булгакова...”








