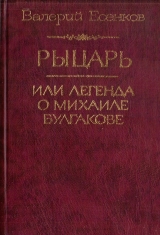
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
И великие боги не оставляют этого человека в беде, от которой он с такой дерзостью и с таким хитроумием пытается убежать. Не успевает он действительно развернуть свои таинственные способности на страницах газеты “Кавказ”, как на него набрасывается свирепейшая чума времён гражданской войны: сыпной тиф. Полтора месяца мечется он в жару и в бреду. В голове с каким-то скрипом и стоном вращается бесподобная дичь, и ужасно хочется уехать в Париж:
“Пышет жаром утёс: и море, и тахта. Подушку перевернёшь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего, и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы всё забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далёкие... Мельников-Печёрский. Скит занесён снегом. Огонёк мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы... А потом – голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Пётр в зелёном кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово – понеже! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит...” И что хуже всего: неизменен центральный мотив его бреда. Он убегает, его хватают и уводят с собой, тогда он рвётся, кричит, что ведь бросят, бросят его, что ему надо в Париж, в Париже он непременно напишет роман, а после романа в скит, и непременно опять, непременно. И от тифа, и от этого ужаса у него держится сорок и пять. И он едва слышно, а кажется, что грозно и властно кричит:
– Доктор! Я требую... немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг!..
И тут забытье, забытье.
Бедная Тася мечется у постели больного, у которого то и дело закатываются в предсмертной муке глаза. Конница генерала Эрдели навсегда покидает Владикавказ. Тася бежит в местный госпиталь и приводит врача. Врач уверяет её, что больного в таком состоянии трогать нельзя. Она спорит, она желает его увезти. Тогда врач говорит:
– Что же, вы хотите довезти его до Казбека и похоронить его там?
Нет, этого она, натурально, не хочет и остаётся с больным. А город пустеет, бандиты беспощадно грабят его. Наконец вступают красные партизаны и учреждают Временный революционный комитет, перед вооружённым ликом которого бандиты растворяются неизвестно куда. Затем, уже торжественным маршем, входят части Одиннадцатой армии, ведомые Орджоникидзе, Кировым и Василенко.
Ещё через несколько дней писатель Михаил Булгаков открывает глаза. Он ещё страшно слаб, однако температура спадает, и болезнь понемногу оставляет его. Сознание восстанавливается, а с сознанием возвращается и чувство опасности, которое его так терзало в бреду. Он спрашивает о положении в городе и узнает тяжелейшую новость: в городе красные.
Нет, мой читатель, при этом громоподобном известии ликование вовсе не охватывает всё его существо. Его многострадальная душа, похоже, сжимается и трепещет от ужаса. С горьким упрёком говорит он счастливой его выздоровлением Тасе:
– Ты слабая женщина, не могла меня увезти!
И позднее ещё много раз повторится этот горчайший упрёк:
– Ты слабая женщина, не могла меня увезти!
Не думаю, что в таком состоянии он спешит покинуть жилище и заявить о себе: слишком свежа ещё память о его службе в белых частях, и как знать, не располагает ли недремлющее око ЧК неопровержимыми сведениями о докторе Михаиле Булгакове, отнюдь не однофамильце его.
Однако здоровье к нему возвращается, и медлить больше нельзя. К тому же в отчаянные моменты Михаил Афанасьевич умеет идти прямо навстречу опасности. Он и идёт. Голова его наголо брита, как положено брить всем тифозным больным. На плечах его френч без погон и мятая офицерская фуражка на голове, поскольку никакого другого костюма он не имеет, как и никто уже не имеет в те суровые, разорившие страну времена. Он опирается на палку и опирается несколько больше, чем нужно: артистическая натура-с, к тому же надобно произвести должное впечатление на представителей новых властей. Он входит в редакцию. Так и есть. Его встречает новая власть: юноша с бородой, в бурке, с револьвером на поясе, член ревкома. Он рекомендуется голосом, может быть, слабым, но, без сомнения, совершенно уверенным:
– Писатель Булгаков.
Слава Богу, молодой комиссар с револьвером вместо пера не имеет ни малейшего представления о литературе и ей подобных, не показанных в партийном уставе вещах, которые в глубине души почитает враждебными и абсолютно не подобающими победившим трудящимся массам, и если он сидит за этим столом с револьвером и в бурке, то лишь потому, что в ревкоме кем-то приказано отделы иметь литературный, театральный, искусства и чего-то ещё, а за годы гражданской войны и своего короткого пребывания в партии молодой комиссар только одну науку и выучил твёрдо: науку беспрекословного повиновения и неукоснительного исполнения всех приказов высших начальников. По этим достойным упоминания причинам молодой комиссар ни одного писателя не знает по имени, так что и бровью бы не повёл, назовись вошедший Достоевским или Толстым. В ревкоме имеется только инструкция о воспевании подвигов красных бойцов, и молодой комиссар, используя эту инструкцию, с суровым лицом говорит:
– Мы должны пробуждать мужество, говорить о доблести, о напряжении сил.
Писатель Булгаков несколько поднимает вверх бровь, поскольку самое короткое время назад уже слышал именно эти слова, и отвечает, как в таких случаях положено отвечать, то есть что он весь к вашим услугам, и без промедления становится заведующим Лито с мандатом, снабжённым круглой печатью. Кроме мандата, ему без промедления отводится кабинет, в котором имеется письменный стол, несколько стульев и шкаф без бумаг, впрочем, шкаф с оторванной дверцей.
Здесь же рядом с ним другой кабинет, в котором размещается подотдел искусств, с бумажкой, канцелярскими кнопками косо приколотой к двери. Бумажка гласит: “Тов. Слёзкин Ю.Л.” В этом кабинете целых два шкафа с оторванными дверцами, три барышни с фиолетовыми губами, три пишмашинки, несколько колченогих столов. Барышни то заправски курят махорку, то лихо строчат на машинках. Тов. Слёзкин Ю.Л., дамский угодник, любимец всех дам, темноволосый и ладный, с чёрными живыми глазами, с родинкой на левой щеке, сидит в самом центре только что образованного приказом ревкома святилища. Его осаждают голодные актёрские лица и требуют денег на хлеб. Тов. Слёзкин Ю.Л. – это именно тот “очень популярный журналист, предпринявший турне по провинции”, который впоследствии кое-что напишет о Михаиле Булгакове.
Писатель Булгаков понемногу осваивается, разумеется, прежде всего с машинистками, поскольку не имеет, во-первых, ни малейшего представления о многообразных функциях Лито, на этот раз точно так же, как и суровый комиссар с револьвером, а во-вторых, ни малейшей склонности к какой-либо канцелярской работе, даже напротив, имеет ярко выраженное, органическое отвращение к ней, как и всякий истинно творческий человек, так что его от всякой канцелярской работы тошнит, от вида самой канцелярии тоже тошнит.
Машинистками служат Любовь Давыдовна Улуханова, Тамара Ноевна Гасумянц, гимназистка, с двумя толстейшими косами, брошенными на грудь, и Марго, к которой явный, неслужебного характера интерес проявляет тов. Слёзкин Ю.Л., очень популярный и предпринявший турне.
И вот он большей частью сидит за одним из столов, опираясь локтями, или стоит, опираясь кистями рук, нависнув над ним, причём значительно чаще других выбирает тот стол, за которым строчит на машинке Марго, и беспрестанно подшучивает над ней, разыгрывает, говорит каламбуры, сочиняет стишки:
И над журналом исходящих
Священнодействует Марго.
Замечательный человек! Он знает прекрасно, что в любую минуту его без всякой любезности могут вызвать в ЧК, предъявить ему кой-какие свидетельства, не считаясь, разумеется, с тем, что он лекарь с отличием и свой долг исполнить обязан повсюду, а там его поджидает первая стенка, до которой другой комиссар с револьвером заблагорассудит его довести. И всё-таки он сохраняет золотую способность шутить. Он превосходно владеет собой, пока нервы не заскулят, тут уж беда. А пока нервы молчат, он не позволяет обстоятельствам себя одолеть. Каков молодец!
Если вы, мой читатель, привыкли к бравурным мелодиям, в каких обыкновенно поётся о гражданской войне, то вы глубоко ошибаетесь, простите меня. Мало сказать, что стоит время кровавое, стоит время жестокое, ожесточённое с обеих сторон до того, что смерть большей частью бессмысленна, когда разумный закон заменяет собой безрассудство чутья, о разнообразных проявленьях которого на этих страницах приходилось уже говорить, с одной стороны революционного, с другой офицерского, с третьей мужицкого, в равной мере абсолютно лишённого признаков справедливости. Стоит время безумное. И жизнь писателя Михаила Булгакова всё это время висит буквально на волоске. Любая случайность, чем глупей, тем верней, может её оборвать. Тася припомнит впоследствии, как они ходили в городской сад слушать оркестр:
“Был май месяц; Михаил ходил ещё с палкой, опирался на мою руку. В это время как раз приехали коммунисты, какие-то комиссары, разыскивали белогвардейцев. И я слышу, как кто-то говорит: “Вот этот печатался в белогвардейских газетах”. “Уйдём, уйдём отсюда скорей!” – говорю Михаилу. И мы сразу ушли. Я вообще не понимаю, как он в тот год остался жив – его десять раз могли опознать! Тогда время было трудное. То, например, выяснилось, что начальник милиции – из белогвардейского подполья. А в доме, где мы жили, оставался сын казачьего атамана, Митя, он мне часто колол дрова, немного даже ухаживал за мной. И вот однажды он говорит мне: “Вступайте в нашу партию!” – “Какую?” – “У нас вот собираются люди, офицеры... Постепенно вы привлечёте своего мужа...” Я сказала, что вообще не сочувствую белым и не хочу. А потом я узнала, что он предложил это же бывшей медсестре из детского сада, с которой у него был роман, а она сообщила об этом, и его расстреляли. А про Михаила, конечно, могли сказать, что он печатался в белогвардейских газетах. Да даже этот Митя мог назвать его имя...”
Мало ему что ли того, что он уже пережил? Верно, мало. Писателя испытует судьба. Не какими-то особыми бедами, нет, это вздор, который придумали дураки. Судьба испытует писателя теми же самыми бедами, какими испытует народ. Оттого одних писателей народ понимает и принимает, а других никак не может понять и принять, пусть они хоть стихами гимны гремят, хоть прозой поют: “Поклонись роднику”.
Чем его на этот раз испытует судьба? Судьба его испытует ежедневным ужасом смерти, какого не испытаешь в самом кровопролитном бою. Что ж бой? Бой имеет начало, бой имеет конец, бежишь, орёшь, и есть возможность опередить кого-то на миг, и пуля-дура нередко мимо летит. Ни в какое сравнение с ужасом боя не идёт тоскливый, томительный ужас контрразведки или ЧК. Этот ужас гложет его день и ночь: войдут, заберут, а там неминуемо к стенке, из ЧК другого выхода нет, ЧК без промаха бьёт.
Глава восемнадцатая.
ИСТРЕБЛЕНИЕ ДУХА
И ЕЩЁ его голодом испытует судьба. С приходом красных голод настаёт какой-то необычайный. Прежде в лавках имелось съестное, даже балык, лежали на полках целые брёвна. Тася два таких балыка успела на последние деньги купить, пока он метался в бреду и ехал в Париж, а теперь решительно нечего есть. Хоть шаром покати. Наважденье какое-то.
Он впервые знакомится с идеей той разновидности справедливости, которую исповедует новая власть. Согласно с этой идеей все граждане делятся на категории. Категорий, по разным данным, от пятнадцати до двадцати. К самой высшей категории новая власть, натурально, относит себя: руководящая роль и так далее. Новый цвет нации, избранники неба. Разве Маркс об этом писал? Голову можно дать наотрез, что ничего подобного никакой Маркс не писал! Ловко придумано всё! Однако молодой комиссар с револьвером и в бурке выглядит сносно, получает не роскошный, но вполне приличный паек, эвон как бородища растёт. Далее категории распределяются по убывающей. В самой низшей категории бывшие, паразиты, тунеядцы, знакомые нам, то есть актёры, писатели, профессора, творческая интеллигенция, одним популярным словом сказать, для комиссара с револьвером первейший жизненный враг, да и по сей день для других с револьверами тоже. Этой категории выдаётся одно только постное масло и огурцы. Против склероза отличная вещь. Впрочем, можно предположить, что комиссар с револьвером ни о каком склерозе ничего не слыхал, однако не может всё же не знать, что нельзя жить на постном масле и огурцах, ноги протянешь через месяц-другой.
К счастью, у Таси имеется цепь, золотая, не менее одного метра длины, и они отрубают от этой восхитительной цепи звено за звеном и продают на толкучке неунывающим спекулянтам, которые что-то продавали на этом месте при белых, стали продавать и при красных, да и теперь продают. Если вдуматься, бессмертнейший тип!
На вырученные деньги Тася покупает печёнку и делает из печёнки паштет. Иногда ходят в подвальчик и едят, запивая аракой, шашлык. Затем снова на постное масло и огурцы.
В Лито делать решительно нечего. С приходом красных куда-то исчезла бумага. При белых была, выходили газеты, кое-что доставалось толстым журналам. А тут хоть шаром покати, кругом ни клочка. Единственная газета, орган ревкома, взявшего под строжайший контроль все запасы бумаги и всё типографское дело Владикавказа, выходит нерегулярно, то двумя полосами, то четырьмя, форматов самых разнообразных, что зависит единственно от того, у кого именно и какую бумагу удаётся взять под строжайший контроль. Так что, даже если бы во Владикавказе ненароком завелись литераторы, выразить себя им было бы не на чем. Удивительное постоянство судьбы! Некоторые просторы приоткрыты только поэтам, поскольку стихотворение можно исполнить в концерте. Но и поэты в Лито не ходят, один только случай и был:
“Поэтесса пришла. Чёрный берет. Юбка на боку застёгнута и чулки винтом. Стихи принесла. “Та, та, там, там. В сердце бьётся динамо-снаряд! та, та, там”. Стишки – ничего... Мы их... того... как это... в концерте прочитаем. Глаза у поэтессы радостные. Ничего – барышня. Но почему чулки не подвяжет?..”
Революционные поэты, трубный глас победившего трудового народа, в Лито брезгуют заходить, поскольку зав. Лито из недорезанных, тунеядцев, паразитов и бывших. Революционные поэты обитают под лестницей, ведущей в редакцию свободного печатного органа, поставленного ревкомом под строжайший контроль. Юноша в синих студенческих брюках, старик на шестидесятом году, ещё несколько человек неопределённого вида, однако с поэтическим жаром в глазах. Самый опасный один, тоже в сердце, видать, динамоснаряд. Впрочем:
“Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый своё, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк – в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:
Довольно пели нам луну и чайку!
Я вам спою чрезвычайку!.."
Временами заглядывают писатели известные и даже очень известные, тоже все из тунеядцев, паразитов, недорезанных, бывших, без динамо-снаряда. Кто из Москвы в Тифлис, кто из Тифлиса в Москву. В пасмурный день входит поэт, Мандельштам, невысокий, но стройный, с высоко поднятой маленькой лысеющей головой, удивительно чем-то непонятным похожий на Пушкина, входит и убивает своей лаконичностью:
– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?
Рукописей, разумеется, при комиссарах не покупают нигде, то есть комиссары денег не платят, поскольку служащим выдаётся паек, а с неслужащими вопрос пока не решён, и Мандельштам исчезает, а следом Пильняк в дамской кофточке едет в Ростов:
– В Ростове лучше?
– Нет, я отдохнуть.
Серафимович с глазами усталыми глухим голосом читает доклад о мучениях творчества, точно комиссарам что-то известно о творчестве:
– Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой – платок... Этикетку как-то для молочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул – сверху другое поставил. Подумал – ещё раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмёшь. Раз прочтёшь. Нет! Не понял. Другой раз – то же. Так и отложишь в сторону...
Сам собой возникает недоумённый вопрос: что же делает Лито, пожирающее постное масло и огурцы, когда ни поэтов, ни писателей нет? О, именно без них-то и работа кипит, так что зав. Лито не разгибает несчастной спины! Сочиняет доклады о сети литературных студий. Обращается к осетинам и ингушам с воззванием о сохранении памятников старины. Он то историк литературы, то историк театра, то спец по музыковедению, то спец по археологии и архитектуре, то мастак по революционным плакатам, то готовит удар по араке, поскольку и арака относится к мрачному наследию ещё более мрачного прошлого. Время от времени по несчастной спине пробегает ужасающий холодок, а потом становится что-то уж слишком тепло:
“Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страус не свойствен. Подошёл. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл! Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно. “Завлито?” – “Зав. Зав”. Пошёл дальше. Парень будто ничего. Но не поймёшь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более...”
Всё это называется коротко, одним объёмным, обобщающим лозунгом: строить новый мир!
Но самыми ударными темпами строительство нового мира идёт во время концертов. Концерты устраивают после митингов, после воскресников, то есть почти каждый день. Устраивают литературные вечера. Устраивают музыкальные вечера. И все концерты непременно сопровождают обширным вступительным словом, иногда длиннее концерта. Вступительные слова посвящаются Пушкину, Чехову, Гайдну, Моцарту, Баху. Некоторое время вступительные слова берёт на себя адвокат Беме, из тунеядцев, паразитов и бывших, однако газета “Коммунист”, орган свободной печати, то есть ревкома, тотчас производит предупредительный выстрел-донос:
“Адвокат Беме после социалистического переворота не преминул использовать для своей речи бесславное пушкинское: “Увижу ли народ освобождённый и рабство падшее...”
Тотчас видать, что писал негодяй и дурак, поселившийся под строжайшим контролем ревкома, однако после этого выстрела Беме, осторожности ради, уходит из Лито и делается вообще неприметен, точно не существует на свете. Кому же вступительное слово произносить? Завлито, кому же ещё? Но видавший виды завлито пытается уклониться и в той же свободной газете ревкома помещает своё объявление:
“В подотделе искусств. Литературная секция подотдела искусств приглашает тт. лекторов для чтения вступительных слов об искусстве на концертах и спектаклях, устраиваемых подотделом искусств...” Однако охотников обращать на себя пристальное внимание свободного “Коммуниста” отчего-то не находится ни во Владикавказе, ни в окрестных селеньях. И приходится на линию огня выдвигаться завлито, то есть самому выступать, отрабатывать постное масло и огурцы. Да ещё тов. Слёзкин Ю.Л. на убитой булыжником мостовой, в приземистом, раздавшемся как-то слишком в стороны доме, окрашенном в обыкновенную, удивительно неприятную жёлтую краску, открывает бесплатный театр, и красное полотнище плещется на грязном фронтоне, извещая, что это “Первый советский театр”, бесплатный единственно оттого, что деньги при новой власти вообще не в ходу. Перед каждым спектаклем и после него в зале дружными голосами поётся “Интернационал”. Казалось бы, этого и довольно, однако же нет, полагается и при этой оказии вступительное слово читать. И тов. Слёзкин Ю.Л. обращается за помощью к т. писателю Булгакову М.А. Первым ставят на обновлённых подмостках “Зелёного попугая” Шницлера, поскольку новых пьес всё ещё нет, а действие пьесы австрийского драматурга происходит в тот знаменательный день, когда парижане штурмом брали Бастилию. И т. писатель Булгаков М.А. произносит вступительные слова, и приходится без утайки сказать, что результаты его добросовестно подготовленных вступительных слов становятся плачевней день ото дня. Некоторые из своих выступлений он опишет впоследствии, ненавязчиво накладывая самые знаменательные штрихи. Привожу одно из таких описаний, больно уж хорошо:
“Я читал вступительную статью “О чеховском юморе”. Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или ещё почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре – яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: “Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..”
Правда, сам Антон Павлович себя в обиду не дал. “Хирургия” и рассказ о том, как чиновник чихнул, прошли на “ура”, у Антона Павловича был полнейший успех.
Можно предположить, что с такого рода успехов и начинается во Владикавказе нешуточное сражение, впрочем, не столько умов, сколько двух, друг друга взаимно исключающих, доктрин. Заваривается какая-то совершенно сумасшедшая каша. Представьте себе, мой читатель, в громадной стране уже от края до края уничтожено решительно всё, что только может быть уничтожено, истреблены все, в соответствии с разнообразным чутьём, кого только возможно истребить в братоубийственной бойне, когда ярость борьбы ослепляет одинаково и того, и другого врага. Заводы уже не работают, трубы давно не дымят. Транспорта нет. О классных вагонах давно позабыто. Поезда составляются из покорёженных, облупившихся, повидавших всякие виды теплушек и тащатся без всякого расписания с такой убийственной скоростью, что на дорогу убиваются месяцы, так что Михаил Афанасьевич шутит, мефистофельски улыбаясь, что до Петрограда надо ехать три года. Голод в стране. На продразвёрстку дремучие мужики отвечают по-своему, как испокон века завелось на привольной Руси: бунтуют не часто, однако изворачиваются таким хитроумнейшим способом, что хлеба всё-таки нет, поскольку засевают самый узенький клин, лишь бы досталось семье на еду, и пусть продразвёрстка лютует, пусть новая власть отбирает у мужика семена, хлеба всё-таки нет, идёт замирённая, но непримиримая война новой власти и мужика. В этой бескрайней, невежественной, неграмотной большей частью стране интеллигенция истощается до предела. Кто не протянул ног, лишённый пайка, кого не приставили к стенке, тот уплывает поспешно в Константинополь, в Париж. Остаются немногие, однако и этим немногим дозволяется жить на положении тунеядцев, паразитов, недорезанных, бывших и ещё чёрт знает каких. А между тем начинает обнаруживаться уже в ходе кровопролитных боёв, что страну эту мало завоевать, страной этой ещё надо уметь управлять, и в бескрайней стране созидается на месте разрушенных прежних бессчётное множество новых, а всё-таки учреждений, даже несколько больше, чем было прежде, и эти учреждения для правильного ведения дел требуют людей подготовленных, хотя бы грамотных элементарно, умеющих написать протокол, желательно несколько образованных, но уже почти не остаётся такого рода людей, и должности сплошь и рядом занимаются героями гражданской войны, вступившими в партию на скаку, изучившими политграмоту с шашкой в руке, отчасти из немногих уцелевших рабочих, отчасти из грамотных и даже вовсе неграмотных мужиков, отчасти из обитателей, которых революция перемешала и кой-кого подхватила наверх. Все эти граждане в спешном порядке вооружаются несколькими ходячими революционными афоризмами, но не понимают ни малейшего толку в делах, подписывают бумаги, не всегда понимая их смысл, и разводят такую бумажную волокиту, какой отродясь не бывало в видавшей всякие виды стране.
Кажется, остановиться наступает пора, оглядеться, привлечь на свою сторону именно тех, кто ещё не плывёт пароходом в чужие края и к стенке пока но попал. Однако же – нет! Жажда истребления и разрушения всего бывшего, всего, что принадлежит старому миру, как будто обретает второе дыхание, приготавливаясь к самой длинной дистанции, какие только знала история. Уже мало истреблять и калечить живых. Принимаются за почивших в веках. Под корень вырубают всю нашу культуру, истребляют всю нашу духовную жизнь.
Революционные поэты, газетчики революционных газет, взятых под строжайший контроль новой власти, цитируют приблизительно и кое-как, пишут с ошибками самыми грубыми, среди них элементарную корректуру некому подержать, до того далека от них даже азбуки соль. Что им Пушкин? Что им чеховский юмор? Не надо им ничего, что достаётся нам из прошедшего, которое проклято ими безумным проклятием. Традиции? Это слово им ненавистно. В смысле духовном революционные поэты безродны, бездомны, и тем яростней громят они то, чего не успели и не захотели узнать, что не понимают и понимать не хотят, считают постыдным, силой оружия запрещают себе и другим. Вот полюбуйтесь:
“Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стёр с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нём специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за “вперёд гляжу я без боязни”, за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за “псевдореволюционность и ханжество”, за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...”
Стоит страшная летняя духота. Михаил Афанасьевич присутствует в первом ряду и обливается потом. Интеллигент из интеллигентов, с молоком матери впитавший в себя блистательные традиции русской и европейской культуры, на Пушкине воспитанный, благодаря Пушкину и всей богатейшей русской культуре ставший истинно порядочным человеком, он принуждён выслушивать весь этот малограмотный, революционно-сознательный бред. Да что выслушивать? Он принуждён молчать, как подлец! В духовном отношении его загоняют в мерзейшую школу. Прежде открытый и лёгкий, заводила и весельчак, мистификатор и любитель ядовитых острот, не щадивший решительно никого, он приучается терпеть и молчать. Он помнит всегда и везде, что на карту брошена его жизнь и что его жизнь может быть очень просто обрезана каким-нибудь одним необдуманным, неосторожно сказанным словом. Пролетели блаженные времена, когда человек мог быть и мог жить сам собой и перед людьми являться таким, каков есть, хоть бы и в белых штанах. Нынче такая откровенность представляется глупой, как если бы вздумалось голым ходить. Нынче безопаснее одетым ходить, ещё лучше подыскать себе маску, чтобы не удалось никому выражение твоего лица подглядеть. В противном случае печальнейшие происходят истории. Всё тот же популярный, но посредственный автор таким образом определяет его мысль, обобщившую жизненный опыт:
“Алексею Васильевичу довелось однажды... собственно, даже не ему, а одному его знакомому, видеть такого обнажённого человека: он нисколько не стеснялся своей наготы. Он даже – наивный человек – гордился ею. Просто пришёл и заявил – я такой и такой и иным не желаю быть и костюма не надену... Да, просто так и сказал, с полной искренностью, от чистого сердца. И, представьте себе, – ему поверили. Его приняли за того, чем он был в самом деле, потому что он не собирался казаться чем-нибудь иным... Вот и всё. Вы не верите, чтобы на этом кончилась его история? Но представьте – это так. С тех пор его уже никто не видел. Аминь...”
И т. писатель Булгаков М. А. старательно обучается труднейшей и сквернейшей науке носить непроницаемую, но, что бы ни говорили, подлейшую маску, единственно для того, чтобы остаться в живых, не уповая, как уповают обыкновенно глупцы, что, мол, там разберутся. Он видел довольно, чтобы понять, что там не станет разбираться никто, как видел достаточно для того, чтобы сделать безошибочный вывод, что вместо искренности благоразумней иметь простую бумажку с хорошей круглой печатью. И он коллекционирует эти бумажки с круглой печатью, при всяком удобном случае добывает мандаты, удостоверения личности, пропуск для передвижения по ночным улицам после комендантского часа, одним словом, бумажки с круглой печатью на все случаи жизни, поскольку бумажка с круглой печатью в этом месиве надёжней всего.
И было бы глубочайшим заблуждением думать, что такого рода насилие над собой ему нравится и даётся легко. Могу со всей ответственностью сказать: такое насилие над собой является для него величайшей из мук. Ведь если бы речь заходила о вздоре и пустяках, о пустейшей благопристойности, как он пытается обрисовать свою противовольную скрытность, тогда бы дело другое. В действительности же речь заходит о самой сути его оскорблённого духа, о его совести, закалённой и развернувшейся в те блаженные времена, когда он был удачливым земским врачом, речь заходит о духовном его существе. Ибо новая власть требует жёстко, чтобы т. писатель Булгаков М. А. искренне и добросовестно служил той невероятной галиматье, которую эта новая власть производит на ниве культуры, добросовестно, искренне, в противном случае стенка за саботаж, паразит, недорезанный, бывший, малейшее подозрение в недобросовестности и в неискренности влечёт за собой именно это свинцовое, противное словцо: саботаж.
И он то и дело выступает перед неграмотными красноармейцами с всевозможными вступительными словами, понимая, что эти неграмотные герои гражданской войны решительно не понимают ни слова, обливаясь мерзким потом при мысли, что это и есть саботаж. Он сочиняет какие-то грошовые юморески и вновь обливается потом. Он ещё способен беззаботно шутить, наблюдая, как на великую “Травиату” загоняют неграмотных, а у грамотных отбирают билеты на том основании, что командование доблестных красных частей таким способом надоумилось бороться с неграмотностью. Вообще, как выясняется в эти прискорбные дни, он очень многое может, подавленный страхом расстрела, который противен ему и который он себе не может простить.








