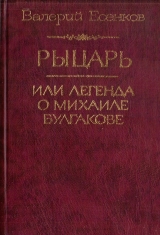
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Главное, уродливо, неестественно всё, с начала и до конца. Нормально, естественно там, где нас нет. Ему западает в душу одна простая история, эту историю он изложит позднее с печалью:
“Мой друг! Вам наверно приходилось читать такие сообщения: “Французский писатель Н. написал роман. Роман разошёлся во Франции в течение месяца в количестве 600 тысяч экземпляров и переведён на немецкий, английский, шведский и датский язык. В течение месяца бывший скромный (или клерк, или офицер, или приказчик, или начальник станции) приобрёл мировую известность”. Через некоторое время в ваши руки попадает измызганный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала и вы видите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрёпаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним, в короткой юбке и шляпе, некрасивая женщина с чудесными зубами. На руках у неё лохматая собачонка с острыми ушами. Видна бортовая сетка парохода. Подпись показывает, что счастлив избранник, он уезжает в Америку с женой и собачкой. Отравленный завистью, скрипнув зубами, швыряете вы журнал на стол, закуриваете, нестерпимый смрад поднимается от годами не чищенной пепельницы. Пахнет в редакции сапогами и почему-то карболкой. На вешалке висят мокрые пальто сотрудников...” Всё это, разумеется, там. А здесь суетятся, кричат. Что ни день, то новый, новейший кумир, без жены, без собачки, без денег, без белых штанов. Позавчера: о, “Петербург”! Вчера молились на Сологуба. Нынче без Алексея Толстого дня не могут прожить, ночь не могут уснуть. Завтра, глядь, открывают Вольтера и в страшном увлечении носятся с ним, точно не ведали до этого счастливого дня, что в пространном мире книг и идей существует Вольтер. Удивляются, что он не увлекается за компанию с ними, не хвалит, не признает, что его вкусы сложились давно и не могут уже измениться, что для него истинно в искусстве лишь то, что не подвластно течению времени, капризного и неверного в определении мест и заслуг, не могут поверить, чтобы ему мог нравиться Бунин, не верят даже тогда, когда он наизусть прочитывает конец “Господина из Сан-Франциско”, которого они не могут прочитать наизусть, да и однажды-то все ли удосужились прочитать.
А скверней всего то, что пьют ужасно везде. В пролетарском “Гудке” пьют каждый день непременно. Молодая литература на радостях пьёт. Пьёт и старая, с горя. Затягивает, затягивает понемногу его. Уже дня не проходит без пива. Деньги в пивные так и текут, и текут.
А он осознает в своей душе необыкновенные силы. В его душе плавятся два вполне определённые чувства. Одно прямо ему говорит, что он сильней всей нынешней литературы и вещи может необыкновенные дать, нисколько не хуже того счастливца на пароходе, который едет в Америку с женой и с собачкой, в белых штанах. Второе чувство куда тяжелей: никогда у него ясной уверенности не заводится в том, что он действительно хорошо написал. Как будто плёнкой какой-то покрывается мозг, сковывает руку в то время, когда ему нужно описывать то, что он глубоко и по-настоящему знает, что глубоко, до крови и ран пережил.
Он размышляет. Он беспрестанна изучает себя. Он докапывается, что тут за притча. И не может в конце концов не понять, что его вынужденный, подневольный, отвратительный труд, дающий хлеба кусок, неотвратимо, с ужасающей постепенностью губит его, не может его не губить:
“Меж тем фельетончики в газете дали себя знать. К концу зимы всё было ясно. Вкус мой резко упал. Всё чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истёртые сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям. Лишь только я пытался сделать работу потоньше, на лице палача моего Навзиката появлялось недоумение. В конце концов я махнул на всё рукой и старался писать так, чтобы было смешно Навзикату. Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил...”
Он чувствует, что погибает во всех отношениях, как литератор и как человек. И всё чаще ломит тоска, непроглядная, как осенняя ночь. В душе его льют непрестанно дожди. Ему не хочется жить. И с каждым днём всё сильней являются в гости воспоминанья. Ведь когда-то была тишина. Был великий покой. Были свечи в шандалах. Зелёная лампа. Рояль был раскрыт. Милая мама играла из “Фауста”. Отчего же разбилось в куски? Отчего? Для чего? Разлетелось зачем?
А тут приходит зима, ударяет какой-то остервенелый, совершенно невероятный мороз. Снег валит мелкий, колючий, холодный, какого прежде он никогда не видал. Воют чудовищные метели. И тоска валит с ног. И в душе уже не дожди. В душе уже вьюга метёт. Картины злодейств вскипают в растревоженной памяти одна за другой. Тащатся тяжелейшие мысли, как по разбитой дороге обоз, сплошной чёрной лентой, из мрака во мрак. Руки чешутся роман написать. О чём роман? Обо всём. О том, главным образом, как просто, легко и бессмысленно истребляется жизнь, когда душа дикого зверя вырывается на простор, как прекрасен покой, зелёная лампа и книги в молчаливых шкафах, как против дикого зверя бессилен и слаб человек, для которого “Фауст” бессмертен, тогда как для дикого зверя бессмертна лишь ненависть, жестокость и кровь. И пылают уже две звезды на чёрном полотнище в неизмеримую высь уходящего неба.
Чешутся, чешутся руки, бесприютно, незримо скулит и тоскует душа, а как начинать? Тема громадная, злодейство неслыханное, утраты невозместимые во веки веков. Как всю эту непроходимую бездну единой мыслью объять? Каким свет увидеть во тьме? Какая тут безоглядная дерзость нужна!
В сознании недаром давно поселился Толстой. Один Толстой бы только и смог, то есть Лев Николаевич, это само собой, о другом речь в другом месте и в другом плане пойдёт. Как же после Толстого писать? Нужен новый Толстой, где ж тут соваться ему? И придёт этот новый Толстой, непременно придёт, только уж очень нескоро, сорок лет, пятьдесят, только тогда “Война и мир” началась, нынче и побольше может пройти, слишком злодейские были, слишком кровавые пронеслись времена, чтобы тотчас в великую тайну проникнуть, чтобы тотчас эти бездонные бездны мыслью единой объять. Так должен он ждать?
Однако не в силах он ждать. Бесприютно, нездешне ему. Тайна преследует, тайна душит его. Тайна требует: сдёрни покровы, иначе гляди... И чуется сердцем, что не даст эта тайна житья, изгрызёт, иссушит, непременно погубит его. Разве жить с такой тайной возможно? Разве не в ней скрыто то, что нас ждёт впереди? Может быть, это дикое, это злодейское прошлое никогда не уйдёт, пока над ним не свершится суда?
И однажды ночью он садится к столу. Гадкий стол, по правде сказать. Покрытый потёртой клеёнкой. За таким столом противно писать. И не написал бы никогда ни строки за этим поганым столом, если бы с такой чудовищной силой не давило, не душило его.
“Прошёл час. Весь дом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно успокоилось, и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх её зелёного колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я написал слова: “И судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими”. Затем стал писать, не зная ещё хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дремоту в постели, книги, и мороз, и страшного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался...”
И странно бы было это печатать. Два года всего пролетело как один миг с той тифозной поры, два года как отгремели бои, а под Волочаевском и под Спасском отгремели только на днях, а где-то в мрачнейших горах Туркестана продолжают и продолжают греметь. Кровавое месиво ещё на памяти всех. Ещё незажившие раны продолжают ныть к непогоде, продолжают болеть. Ещё инвалиды на костылях. Ещё об этой невероятной поре не сказано ничего, почти ничего, рассказы, повести, две или три, героями, разумеется, те, у кого кумачовая от крови победа в руках, кто оказался в жестокости, в злости сильнее. А он длиннейшими ночами повествует о тех, кто оказался в жестокости, в злости слабей, кто всё проиграл, кто разбит, на ком отныне проклятье лежит, может быть, на века. Главное, пишет он о себе, оттого писать и легко. И ещё оттого, что именно ни под каким видом не хочет печатать. Оттого, стало быть, что пишет он исключительно для себя. Единственное условие, к слову сказать, для того, чтобы настоящую вещь написать. Это, читатель, я для тебя говорю, тебе, читатель, эту тайну творчества следует знать.
Разумеется, пишет он по ночам.
Последствия следуют без промедления.
Первое следствие утром туманится и сплетается точно из воздуха в виде дуры-соседки, тот самый очаровательный элемент, который отныне прочно располагается на жилплощади бывших.
– Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел?
– Так точно, горел.
– Знаете ли, электричество по ночам жечь не полагается.
– Именно для ночей оно и предназначено.
– Счётчик-то общий. Всем накладно.
– У меня темно от пяти до двенадцати вечера.
– Неизвестно тоже, чем это люди по ночам занимаются. Теперь не царский режим.
– Я печатаю червонцы.
– Как?
– Червонцы печатаю фальшивые.
– Вы не смейтесь, у нас есть домком для причёсанных дворян. Их можно туда поселить, где интеллигенция нынче живёт, нам, рабочим, ваши писанья не надобны.
– Бабка, которая продаёт на Смоленском тянучки, не рабочий, а скорее частный торговец.
– Вы не касайтесь тянучек, мы в особняках не живали. Вас на выселение надо будет подать.
– Кстати, о выселении. Если вы, Семёновна, ещё раз начнёте бить по голове Шурку и я услышу крик истязуемого ребёнка, я подам на вас жалобу в народный суд, и вы будете сидеть месяца три, но мечта моя посадить вас на больший срок.
От классово-одержимой соседки он таким образом кое-как отбивается, однако эта чёртова кукла прибавляет тяжести и безответности его размышлениям. Обжигает и колет проклятый вопрос: отчего же в этой непостижимой сумятице крови и зверств победили именно те, кому ничьи писания действительно не нужны, ни его собственные, ни даже графа Толстого, а проиграли именно те, кто вырос на “Фаусте” и без кого никакая новая жизнь невозможна, хоть тресни, без кого всё в этой жизни непременно прахом пойдёт?
Второе следствие, в дополнение к возмутительным перебранкам с соседкой, режет ножом изнутри. Недоспавший, усталый, под впечатлением этой лёгкой, радостной сердцу работы, он принуждён сочинять проклятые фельетоны. Можно ли сомневаться, что он ненавидит их всей душой, что он не в состоянии видеть, не в состоянии думать о них? В этом сомневаться нельзя. Сомневаться может лишь тот, кто в жизни своей ничего настоящего не написал, а так только, всякую дрянь. Нельзя этому и удивляться. Удивляться можно только тому, что эти проклятые фельетоны он всё-таки продолжает регулярно поставлять на прекрасный, неподдельного красного дерева редакторский стол. Ещё более нужно удивляться тому, что всё-таки пишет эти фельетоны неплохо и что эти фельетоны всё ещё можно читать по прошествии лет, хотя и не всё. Другими словами, в лице фельетонов он наживает себе беспросветную каторгу, с которой мечтает, но никак не может сбежать.
Следствие третье становится его наказанием. Он ещё не познал одной простой истины: ничего нельзя написать для себя, то есть ничего нельзя написать, а потом целый век не печатать нигде. На переломе от гнусного ноября к ещё более гнусному декабрю ему удаётся что-то закончить. Но что? Неуверенность подступает, прямо стискивает своими стальными тисками, чуть не до слёз. Фельетон, фельетон, ещё один фельетон, и вдруг, нате вам, пишешь роман. Неизмеримость расстояния он сознает. Опыта в романном ремесле у него никакого. Даже обыкновеннейшего навыка нет. Что фельетон? Фельетон – это быстролётный эскиз, это удачный или малоудачный фрагмент. В романе превыше всего концепция, композиция, стиль. А какая концепция у него? Трудно сказать. Композиция? Композиции, сразу видать, никакой. И, позвольте узнать, чему соответствует стиль, если не мерещится ни той, ни другой?
Смятенный, то и дело впадая в отчаянье, к тому же зверски голодный, поскольку фунт белого хлеба уже к миллиону летит, как стрела, он отправляет отрывок романа в литературное приложение к “Накануне”, с названием “В ночь на третье число”, с подзаголовком “Из романа “Алый мах””. В московской редакции платят безоговорочно, настолько уважают его. В Берлине печатают 10 декабря, 1922 год всё ещё на дворе.
Отрывок сам, в свою очередь, состоит из отрывков. Отрывки чередуются, как в романе Толстого, мир и война, петлюровцы дикие и мобилизованный доктор на мосту у Слободки, а дома жена, младшие братья и кто-то ещё поджидают его, на мосту убивают еврея, дома мир в вещах, а в душах смятенье, про город прекрасный, про город счастливый феноменальным баритоном поют, впрочем, у графа Толстого, если всю правду сказать, главы куда разработанней и намного длинней, тогда как у Михаила Афанасьевича всё стиснуто, сжато, пунктирно и кратко, какой-то стремительный бег.
Главное здесь – отметить две вещи. Концепция уже намечается, хотя пока что в самых приблизительных, самых общих чертах, намечается именно в этом контрасте злодейства и мира, по-своему намечается, хотя он прямой дорогой идёт от графа Толстого, поскольку злодейство у него невозможное, злодейство ужасное, какого Льву Николаевичу увидеть не привелось, а мир и покой не широкий, просторный, могучий и дышащий несокрушимостью жизни, а стиснутый, растревоженный, беспомощный, чующий гибель.
Вторая же вещь – доктор Бакалейников, совершенно раздавленный видом злодейства, жаждет видеть большевиков. Доктор возносит к чернейшему небу мольбы:
– Господи. Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.
И уже до такого ничтожества доведён человек, что не только в своём распалённом воображении видит большевиков, но и сам берётся эту сволочь, этих мерзавцев стрелять, обращаясь неизвестно к кому:
– Нет, товарищи! Нет. Я монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чём он здесь в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Гнусные погромщики и грабители... я сам застрелю их!..
“В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому...”
И какой-то отдалённо знакомый финал, в особенности этим небом и этой звездой:
“Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улица, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки, от Слободки с жёлтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгинула чёрная лента, пересёкшая город, в мраке на другой стороне. Небо висело – бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь – путь серебряный, млечный...”
Быть ни малейших сомнений не может: это пишется “Белая гвардия”, те же герои, те же события, те же контрасты, то же разрешение не в каких-то близких пределах человеческой жизни, а в вечности, стиль только более поспешный и рваный, слишком слышится ещё фельетон, испортивший руку, испошливший стиль.
В общем, ничего удивительного не может быть в том, что первоначально роман имеет другое название, дело обыкновенное, у любого писателя именно так, а Михаил Афанасьевич, кроме того, названия всегда подолгу искал и не всегда находил. И всё-таки в этом первоначальном названии кроется глубочайшая, едва ли разрешимая тайна.
Рукописи романа не сбереглись. Никаких свидетельств о смысле и направлении первоначального замысла до нас не дошло. Только вот это названье одно. И какое названье! Так и манит! Соблазняет название, да...
“Алый мах”!
Может быть, в литературном приложении к “Накануне” пропадает самое начало романа? Может быть, неспроста несчастнейший доктор так жаждет видеть большевиков? Может быть, дальнейшее повествование представит именно большевиков и события более поздние, 1919 и 1920 осквернённые годы? Может быть, весь роман в этом первоначальном наброске был совсем не о том, о чём написалось потом?
Ах, нечистый, чёрт его побери! У Булгакова первый роман о большевиках, тогда как впоследствии Михаил Афанасьевич ни одного доброго слова о большевиках не сказал? И в каком же виде он в том первом наброске может представить большевиков? Недаром же в своё время он с удивительной прытью дезертировал и от них?
Сомнительно, очень сомнительно, однако имеются доказательства косвенные, о косвенных доказательствах тоже нельзя не сказать.
Год спустя, в пролетарской газете “Гудок” появляется его небольшой рассказец “Налёт”, тоже очень похожий на фрагмент из того же романа. Бандиты какие-то пост захватывают на железной дороге. Один красноармеец на месте убит. Двух других ставят без промедления к стенке. И один из поставленных к стенке припоминает перед расстрелом зимний день, чай домашний, тепло, огонь в чёрной печке, недописанную акварель на стене.
“Вот так всё и кончилось, как я и полагал. Акварели не увижу ни в каком случае больше, ни огня. Ничего не случится, нечего ждать – конец...”
И что-то ужасно опять-таки знакомое в том, что этот третий чудом спасён, раненный тяжело, умирающий, а всё-таки теплится, теплится жизнь:
“В сторожке у полотна был душный жар, и огонёк, по-прежнему неутомимый и жёлтый, горел скупо, с шипеньем. Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипеньем жило тело Абрама...”
Выходит, что отрывок именно из того же романа, который позднее отброшен, а эта бессонная женщина, согретая тем же чудным эпитетом, позднее перекочёвывает в нам известный роман. Также выходит, что тот, пропавший и брошенный, во времени разворачивался всё же вперёд, то есть в 1919 и в 1920 безумные годы.
На те же события более позднего времени указывает и сообщение в литературном приложении к “Накануне” от 20 января 1923 года, которое уведомляет, что тринадцать писателей пишут коллективный роман. “Написано 12 глав. Изображена борьба советских войск с гайдамаками, отступление белых и пр.” Среди писателей оказывается светлое имя Булгакова. А журнал “Россия” извещает в мартовской книжке: “Мих. Булгаков заканчивает роман “Белая гвардия”, охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге (1919-1920 гг.)...”
Из совокупности этих известий неминуемо следует, что роман посвящался событиям именно этих более поздних двух лет и что роман катился к концу, успевши переменить по дороге название.
Был ли завершён или нет, этого мы уже никогда не узнаем, если только над трагической головою Булгакова не разразится ещё одно бесподобное чудо. Я предполагаю, что не был он завершён, а если и был, то вчерне и трудности для его обработки и завершения оказались слишком существенными, так что одолеть их было нельзя. Я даже смутно догадываюсь, что все эти даты целиком и полностью обременяют беспардонную совесть лихих журналистов, которых он вскоре выставит в самом непривлекательном виде в одной из своих повестей, и выставит нехорошо именно за беззастенчивую способность искажать очевидные факты и лгать.
В самом деле, каким именно, по внешности и по существу, мог быть представлен им алый мах?
В законченном позднее романе в доме Турбиных, одиноко летевшем во мрак, большевиков поджидают единственно потому, что большевики реальная сила и что на злодейства петлюровцев порядочному человеку уже невозможно глядеть. Как видите, в самых общих тонах. Что же, прославляются большевики в “Алом махе”? Не может этого быть. Это противоречит всему, что мы о писателе Булгакове знаем. Изображаются в том самом виде, в каком он большевиков наблюдал, когда недолго служил в их железных рядах и когда они овладели Владикавказом? Возможно, и только в этом случае становится понятным признание: “Печатать этого я вообще не собирался”, поскольку этого печатать ни под каким видом было нельзя.
Может быть, именно это обстоятельство он сознает и обрывает роман? Скорее всего. Спустя почти год он делает запись в своём дневнике, и хотя в записи имеется пропуск, смысл этой записи можно понять: “Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами волей-неволей (здесь пропуск) в произведениях трудно печататься и жить...” Вероятно, эта роковая необходимость бросить почти завершённый роман представляется ему поражением, постыдным и горьким, тем более что поражений он терпеть не привык. Постылой фельетонной работы с каждым днём становится всё больше и больше: за горло хватает когтями нужда.








