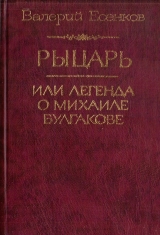
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Непременно задумаешься! Сделаешься суровей и строже! Чувство долга, чувство ответственности вырабатывается в сознании молодого человека, перешедшего на последний курс медицинского отделения. Факультеты переводят в Саратов, однако не трогают медиков: всё равно медикам со дня на день на фронт.
И молодой человек учится так, как никогда ещё не учился. В его зачётной книжке идёт одна и та же однообразная запись: “весьма удовлетворительно”, то есть отлично, и сам профессор Яновский, Феофил Гаврилович, знаменитейший терапевт, его любимейший педагог и кумир этих лет, выводит своим микробьим стремительным почерком “весьма удовлетворительно”, как и другие, но одна эта запись стократ дороже всех остальных.
Настаёт 1916 год. Государственные экзамены, ученью конец. В мирные годы государственные экзамены были серьёзнейшим испытанием, включали в себя двадцать два сложнейших предмета и в общей сложности длились с июня до сентября. Война вмешалась и в них. Время государственных экзаменов переносится на февраль-март, число необходимых для сдачи предметов сокращается почти что наполовину.
“Весьма удовлетворительно” Михаилу Булгакову ставят тринадцать раз. Государственная комиссия присуждает ему степень лекаря с отличием. Пределов его радости нет, и как же его не понять: он одерживает первую в своей жизни победу, и как великолепна, как блестяща она! Именно так решительно всё должно быть у него! И я не нахожу ничего предосудительного в том, что совместно с другими выпускниками он пьёт всю ночь напролёт, поднимая заздравные тосты, и делается пьян как сапожник, единственный в своей жизни, как утверждают свидетели, раз. Уже под самое утро он приходит домой. Обеспокоенная Тася не ложится всю ночь и преданно ждёт. Он стоит перед ней весь счастливый, помятый, улыбается скверной пьяной улыбкой и заплетающимся языком говорит: “Знаешь, я пьян”. Она суетится, пытается его уложить, однако же он, пошатываясь, отстраняет её, изрекая: “Нет, лучше пойдём погуляем”. Она послушно идёт рядом с ним. Они медленно поднимаются вверх по Владимирской. Наступает рассвет.
Между тем выдача дипломов затягивается: сохраняется привычка дипломы выдавать в сентябре. Он, как и многие, ждать не желает и добровольцем идёт в Красный Крест. Его без промедления определяют в киевский госпиталь, переполненный ранеными. Тася в тот же госпиталь поступает сестрой милосердия, чтобы находиться всегда рядом с ним.
Необходимо в этом месте особенно подчеркнуть, что с Красным Крестом Михаилу Булгакову самым серьёзным образом повезло. Каким именно? Очень простым. Дурная слава идёт по армии о военных врачах. Военные врачи слишком часто оказываются бессовестными, бесчеловечными, словно тупыми, в лучшем случае равнодушными к страданиям раненых, пьют отпущенный спирт и безобразят весьма отвратительно в прифронтовой полосе. В Красный же Крест вступают одни добровольцы. То есть заранее люди только гуманнейшие, благороднейшие, честнейшие, интеллигентные люди, проще сказать. И хотя Красный Крест снабжается в десятки раз хуже, чем военные госпитали, дело в Красном Кресте поставлено в десятки раз лучше, так что врачи Красного Креста имеют полное право называться совестью военных врачей. Многие именно так и относятся к ним. Таким образом, герой мой оказывается в прекрасной компании и получает все возможности развернуть свои самые лучшие свойства.
Тем более, что уже через месяц госпиталь поспешно сворачивают и в спешном порядке передвигают к самой линии фронта, в Каменец-Подольский, который отстоит в каких-нибудь пятидесяти вёрстах от окопов. Поговаривают, что готовится большое, чуть не решающее для всего хода войны наступление.
К появлению на фронте он готовится довольно смешно. В чемодан он помещает немного белья и доверху набивает его медицинскими фолиантами, поскольку на память надеется мало. В особенности же его беспокоит удивительно моложавая внешность. Он всё ещё совершенный мальчик на вид. Рыжеватая щетина, несмотря на его двадцать пять лет, едва пробивается на подбородке. Гладкие щёки едва покрыты нежным пушком. Длинные руки, длинные ноги, худоба, застенчивая сутуловатость типичного интеллигентного юноши. Какой с такой внешностью может быть фронт? Да на фронте в тот факт, что он уже доктор, решительно не поверит никто!
Он размышляет, что бы придумать? Хорошо подошли бы очки, однако глаза у него совершенно здоровы. Тогда он пробует выработать особенную, внушающую уваженье походку, то есть сдерживает порывистые движения, перестаёт бегать бегом, учится двигаться с внушительной важностью и пытается говорить размеренно-веско.
Кроме того, в какой-то пустейшей книжонке он выудил забавнейшую историю про одного английского джентльмена. Этого английского джентльмена будто бы занесло на необитаемый остров, и рассудок уже начинает мутиться от одиночества, так что, когда наконец на остров прибыли люди, джентльмен принял их за мираж и разрядил по ним свой револьвер. При этом он был гладко выбрит, и на необитаемых островах английские джентльмены обязаны бриться изо дня в день. В общем, ужасно похоже на рекламный проспект.
Тем не менее Михаила Булгакова восхищает этот гордый сын Альбиона. Подражая ему, он густо смазывает свои светлые волосы бриолином и расчёсывает аккуратнейшим образом на пробор, а на дно чемодана, в добавление к фолиантам, погружает отличную бритву фирмы “Жиллет”, решивши явиться на фронт в самом подтянутом, в самом представительном виде, который набавит ему хотя бы несколько лет.
Гладко выбритым, в офицерской шинели, в фуражке, с башлыком на плечах, он всовывает свой чемодан на повозку и отправляется в путь. Изредка он оборачивается назад: за спиной его во тьме ночи ещё долго сияет удивительный Владимиров крест.
Расставание не тревожит его. Он торопится исполнить свой долг. И весь киевский госпиталь ужасно спешит со своим сквернейшим обозом по разбитым дорогам войны, мимо станций, забитых военными эшелонами, мимо отрядов солдат, куда-то ведомых безусыми прапорщиками, лица которых не успевают обветриться и загореть.
Обозу них несравненно худший, чем обозы военных госпиталей. Они тащатся полуголодные, обойдённые милостью военных комендатур. Но, как ни странно, к месту своего назначения попадают в точно назначенный срок. Интеллигентные люди, только и стоит сказать ещё раз.
22 мая начинается наступление. Операцию разрабатывает и непосредственно осуществляет генерал Брусилов, Алексей Алексеевич, в юности окончивший кавалерийскую школу, честно дослужившийся до генерала-от-кавалерии, командующий Юго-Западным фронтом, шестидесяти трёх лет. Генерал Брусилов проводит в жизнь блистательный план: ведётся наступление на самом узком участке, однако всеми армиями фронта, так что в бой вводится одновременно около шестисот тысяч солдат и почти тысяча восемьсот артиллерийских орудий, тотчас после прорыва линии фронта наступление расширяется по флангам и в глубину, достигается превосходство сил в два раза и более, что само по себе не может не обеспечить блестящий успех. Фронт стремительно мчится на запад. Госпиталь из Каменец-Подольского срочно перебрасывают в только что захваченные, разбитые, в дыму и пожарах Черновцы. Раненых страшный поток. Подряд по многу часов доктор Булгаков делает ампутации: ноги, руки, широкий, уже властный разрез мягких тканей, мелкозубчатая пила, длинный шов, ноги, руки, разрез, пила, шов, при этом бреется каждый день бритвой “Жиллет” и не забывает делать пробор, который под белой шапочкой всё равно не видать.
Тася приезжает к нему и стоически держит то, что он должен через несколько минут отпилить. Он так устаёт, что на отведённой квартире тотчас валится на постель и может только читать, однако утром снова бритва, пробор. В боях он, разумеется, не участвует и даже не выезжает к линии фронта. Он только беспрерывно слышит удары орудийной пальбы, далёкие, глухие, тупые.
Но он не в силах не размышлять. Перед ним наконец непосредственно, в действии общее, роевое начало, та роевая общая жизнь, которой решаются судьбы всякой войны.
Что он видит? Он видит простых крестьянских парней, которые не хотят воевать. И это нежелание, конечно, понятно. Эти крестьянские парни не понимают ни цели, ни смысла войны и едва ли способны собственными усилиями понять. Поразительно: среди солдат сплошная неграмотность, и когда Тася приезжает к нему и он встречает её на принадлежащем госпиталю автомобиле, и солдатский патруль требует пропуск, а никакого пропуска на неё он, естественно, не имеет, он с холодной дерзостью протягивает патрулю медицинский рецепт, и солдаты беспрекословно пропускают её. И этой неграмотной, непонимающей и мало способной к пониманию массой решаются судьбы войны, а вместе с ними и судьбы страны и судьбы истории. Среди этой массы кто-то ведёт пропаганду, безответственную, безумную, не имеющую прецедента в истории: бросайте окопы, ступайте домой. И эти крестьянские парни охотно бросают провонявшие калом окопы, минуют заградительные отряды, поставленные ловить дезертиров, и в самом деле едут домой, нимало не понимая того, что тем самым открывают дорогу врагу, на позор, на грабёж оставляют родимую землю, Россию без зазрения совести продают.
И всё запутывается каким-то таким странным образом, что может даже казаться, будто эти крестьянские парни, самовольно оставляющие окопы, имеют на это нечто вроде морального права, хотя совершают явным образом постыдное дело. Он слышит бесконечные толки о самом чёрном предательстве, о бездарном командовании соседних фронтов, брань боевых офицеров, и со всем этим не согласиться нельзя. Незадолго перед прорывом генерала Брусилова арестован сам военный министр, обвинённый в преступном бездействии и в государственной даже измене. Хуже, разумеется, некуда! Брусилову не подвозят резервов, соседние армии не поддерживают прорыв.
А всё-таки, всё-таки, в том ли истинная причина, что прорыв сперва заминается, затем наступленье захлёбывается, и не удаётся развить такой блестящий успех, который представляется всем неминуемым? Молодой человек, прошедший хорошую школу Толстого, не может не видеть, что всё это, в сущности, миф: и Брусилов, и военный министр, и командующие соседними фронтами, и даже те, кто так успешно ведёт пропаганду в войсках. Он не может не видеть, что не миф только эта роевая общая жизнь, что фундаментальнейшая причина провала так блестяще задуманного прорыва кроется именно в том, что эти крестьянские парни в солдатских шинелях на вате, неграмотные, не понимающие ни цели, ни смысла войны, способные бросить окопы и открыть дорогу врагу, не хотят наступать, вообще не хотят воевать. Они одинаково равнодушны к победе и к поражению. Поражение не задевает их душу, победа не окрыляет их дух. Напротив, многие радуются полученному увечью: прекрасно, так повезло, теперь поскорее Домой! Можно ли с таким настроением победить? Молодой человек отчётливо видит: с таким настроением никогда и нигде нельзя победить. И по этой причине на его внимательных умных глазах блистательный генерал превращается в миф, как превращается в миф Наполеон в бессмертном романе Толстого. Миф! Всего-навсего миф! Линия фронта отодвинулась где на шестьдесят, где на сто пятьдесят километров, за эти жалкие километры, ход войны нисколько не изменившие, погублено полмиллиона людей. Ничтожный, но страшный итог. В направлении заката стихает пальба, и только госпитали с натугой, с нечеловеческой усталостью всего персонала продолжают перерабатывать искалеченные человеческие тела, успевая далеко не каждому, кто достигает их чудодейственных рук, спасти жизнь. Наконец прекращается и этот поток. Судьба войны решена. Какие сомнения? Сомневаться нельзя!
Глава одиннадцатая.
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ
ВДРУГ в сентябре Михаила Булгакова срочно отзывают в Москву. В военной форме, положенной прифронтовым госпиталям, без промедления он отправляется туда вместе с Тасей, не имея возможности хотя бы на день заехать домой.
В Москве происходит глупейшая чепуха: ему объявляют, что он мобилизован согласно с законом и направляется в распоряжение смоленского губернатора. Таким образом, добровольно он попадает на фронт, а по мобилизации с фронта отправляется в тыл!
Впрочем, в этой глупейшей логике брезжит, едва и сквозь тьму, но всё-таки брезжит разумная мысль. Чепуха объясняется тем, что армия в чрезмерном количестве поглощает опытных врачей тыла, оголяя целые районы страны, и многие тыловые больницы стоят без врачей, так их мало в обширной стране. По этой причине опытных медиков решают заменить только что выпущенными студентами.
Тут же, не имея минуты свободного времени, чтобы заскочить к дядьке Николаю Михайловичу, который Варваре Михайловне родной брат, он выезжает в Смоленск. В Смоленске ему вручают официальное назначенье в Сычовку, разрешив задержаться в центре губернии не более, чем до утра, точно в Сычовке пожар. Переночевав кое-как, они вместе с Тасей тащатся местным расхлябанным поездишком в глубины Смоленской губернии.
Наконец дотащились. Уездный городишко, затопленный по уши грязью, затерянный в тёмных лесах, каких он никогда в глаза не видал. До того неприютно и дико кругом, что он поневоле торопится, лишь бы скорее добраться до места своего назначения и чтобы какой-то конец.
Председатель земской управы, Михаил Васильевич Герасимов, интеллигентнейший человек, тут же вручает ещё одно назначение, в деревню Никольское, в сорока вёрстах от Сычовки, в какую-то непроходимую глушь, где, к тому же, кроме него, не имеется другого врача.
Утомлённый, измотанный, осатаневший ещё больше, чем в госпитале, он каким-то чудовищным неестественным голосом пытается протестовать, изъясняя, что ни малейшего опыта нет и что хотел бы не единственным врачом, а вторым, поскольку... и тут, кажется, несёт уже совершеннейший вздор. Михаил Васильевич, любезнейший человек, приятно так улыбается. “Освоитесь”, – говорит. Как бы не так! Он почти ничего не умеет и ужасно страшится ответственности. Глаза его делаются тоскливыми, волчьими. Он злобно думает про себя, что должен ехать вторым, в таком случае вся ответственность непременно ляжет на первого. Они долго молчат. Наконец, мысленно махнувши рукой, лишь бы развязалось всё поскорей, положившись единственно на перст великодушной судьбы, он соглашается, получает свой документ, возницу, тарантас, пару запущенных, управе принадлежащих лошадок, усаживает Тасю, обрушивает в ноги свой чемодан с медицинскими фолиантами, парой белья и бритвой “Жиллет”, взбирается сам, и начинается путешествие в настоящую глухомань, в какой он отродясь не бывал, вызывая в памяти необитаемый остров того английского джентльмена, который был всегда брит.
С величайшим трудом передвигается тарантас по расхлюстанным колеям. Беспрестанно льёт дождь. Жёлтые лужи так и кипят пузырями, мутными, скверными, неохота глядеть. Вода стоит в низинных полях. Осинник под ветром дрожит. Сквозь осинник глядят дрянные избёнки. Кругом всё обречённо молчит. Истинный крест, тьма египетская встречает его. На его долю выпадает столько страданий, что эти страдания уже никогда не забыть. Что там фронт! Прекраснейшая вещь! Удобства одни! И позднее он опишет эту муку передвижения в самом сердце России с каким-то болезненным, неостывающим чувством, впрочем, для полноты картины присочинив ночёвку в Грабиловке, тогда как никакой ночёвки в Грабиловке не было, как и самой Грабиловки тоже:
“Двадцать вёрст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать… учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... и вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух поднимается, чемодан на ноги – бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперёд, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мёрзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...”
О молчании удивительно верно! Поразительнейшее молчанье всего! Так что поневоле шевелится в потрясённом мозгу:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...
Он коченеет, чёрт побери! Его сокрушает тоска по родимому дому, где уютно, тепло, где всё проверено, ясно и оттого беззаботно, легко, и выложенные кирпичом тротуары. Эх! Эх! Дома-то, кроме тротуаров, трамвай, электричество, над Крещатиком вереница огней, Владимиров крест.
А тут первобытная, непроходимая дичь, тут неизвестность на каждом шагу, беспросветная мгла. Какая нечистая сила занесла его в эту глубокую, зловещую даль, и к тому же, он едет единственным, первым и вторым в том же лице, и решительно всё делать предстоит не кому-нибудь, а самому, самому!
Мало болезней, так нет, он ещё с холодом должен бороться, с грязью, с дождями, а там нагрянет зима, заметёт, ветер завоет в трубах печей, Боже мой! И это ещё только начало. Самое-то прескверное, необычайное, сверхчеловеческое поджидает его впереди.
В сущности, кто он и что?
В сущности, он владеет кое-каким духовным богатством, так сказать, приобрёл, накопил. К примеру, ему известна в малейших подробностях прекрасная жизнь великого Гете. Ему близки одинаково жажда жизни, владевшая Фаустом, и коварный скептицизм Мефистофеля. Вместе с героями Гофмана он способен бродить по странным улочкам фантастических городов. Ну там Гоголь, Мольер, Дон Кихот, “Аида, милая Аида...”, “Я за сестру тебя молю...” Да мало ли ещё что! Он знает золотую латынь. В особенности кстати тут Дон Кихот. Да что ему делать с этим богатством? В этой-то чёртовой темени на что оно сгодится ему? Всё лучшее, прекрасное, умное, что придумано человечеством за тысячи лет, лучшее-то куда? Для кого?
Тут он злобно проклинает диплом, отличие и этот чёрный день, когда подал заявление ректору.
Ага, доползли наконец, а уже почти совершенно темно. Он с тупым вниманием озирает места, в которые его занесло, и позднее опишет эту муку пребывания в самом сердце России с каким-то болезненным, неостывающим чувством:
“Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небелёные бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками: “...Привет тебе, приют священный...” Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай...”
Больница оказывается обширной, известное дело, земство не канцелярия, делает своё полезное дело расчётливо, однако с мудрым размахом, под больницу куплен помещичий дом, окружённый парком насаженных лиственниц, которые местные жители бранно именуют немецкими ёлками, с фасадом на озеро, образованное плотиной, перегородившей местную речку, двадцать четыре общие койки, восемь для острых инфекций да родильные две, итого... От холодного ужаса ему в один приём не удаётся все эти койки вместе сложить. Какое-то невероятное выходит число, и если вот эти койки заполнят больные, что непременно случится, он сойдёт непременно с ними с ума. Один он, один! С какой-то отчаянной злобой, не покидавшей его, то и дело повторяет он это противное слово.
Впрочем, земские порядки всё-таки хороши, с этим спорить нельзя, невозможно, если бы даже кто захотел. Очевидная вещь! Его предшественник, Леопольд Леопольдович Смрчек, московский университет, по национальности чех, просидевший в этой дыре десять лет, не ведал никакого ограничения в средствах и был замечательный человек, завёл операционную, телефон, библиотеку, аптека прекрасная есть. И понакупил на земские деньги чёрт знает чего, столицам под стать, глаза разбегаются, невозможно высчитать, чего же тут нет. Есть, кажется, всё.
“Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел... Затем мы спустились в аптеку, и я сразу увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло всё, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что никогда не слыхал о них ничего...”
Однако, для какой надобности устроен здесь телефон? Куда здесь, к чёрту, звонить?..
Докторский дом состоит из двух половин. Стало быть, по штатному расписанию полагается непременно двое врачей, а прислали его одного, и он здесь один за двоих! Ого-го! Естественно, они с Тасей вселяются в предназначенную им половину. Половина была превосходная! Внизу столовая, кухня, наверху спальня и кабинет. Положительно, земство прекрасно печётся о быте врачей, впрочем, что ж, объясняется просто, интеллигентные люди, а только интеллигентный человек понимает, как посреди этой каторги интеллигентный человек должен жить.
Так, так, и ещё одно новшество есть. Лампа. Керосиновая. Зеленоватый тусклый огонь под выпуклым длинным стеклом. Горит и шипит. Ещё и коптит. Он керосиновых ламп никогда не видал. Должно быть, тоже превосходная вещь, но электричество, электричество! Согласитесь, что электричество – это цивилизация, это прогресс, это культурная жизнь!
Тася суётся туда и сюда. Он разбирает тяжеленный свой чемодан, извлекает бритву фирмы “Жиллет”, ощупывает подбородок уже привычной рукой. Надо побриться, однако физических сил не имеется уже никаких. Проклятый англичанин, чёрт побери!
А здесь никакого электричества, стало быть, нет. А больные свалятся на него, им электричество – тьфу! И болезни одна неизлечимей другой. Он освежает в памяти руководства, получается так: ущемлённая грыжа, гнойный плеврит, дифтерийный круп и неправильное течение родов. Превосходный букет!
И в этот самый момент раздаётся ошалелый стук в дверь, да вовсе не стук, гром какой-то, бух, бух, должно быть, в остервенении молотят ногой.
Он бросается вниз.
Так и есть: роженицу доставил здоровенный мужик, муж, должно быть, счастливый отец, решительно не в себе, идёт следом, гремит сапожищами и грозит, и грозит: “Если помрёт, тебе тоже не жить, убью... не жить... ты мотри, говорю...” Слава богу, фельдшер, опытный человек, оставляет за дверью, а то бы прямо беда. Всё-таки фельдшер, должно быть, прекрасный товарищ и друг.
В операционной он приступает к женщине с громадным, вздёрнутым животом. Так и есть! Положенье неправильное, боли ужасные, того гляди, в самом деле помрёт! Его университетская подготовка в этот миг представляется ему смехотворной. Кое-что он, разумеется, помнит, обрывки какие-то, а всё-таки, всё-таки... положенье неправильное, положенье неправильное... он не умеет решительно ничего. А госпиталь, госпиталь? Он так и озлился! Что госпиталь? Что? Ноги и руки пилить! Раза два или три наблюдал обыкновенные роды! И это же всё! А тут положенье неправильное, положенье неправильное...
К счастью, Тася спускается вниз, садится за столиком в уголке. Он молит её раскрыть руководство, по памяти называет страницу, подбегает, читает, ага! И мчится к столу. А там этот, слышно, буянит, что-то благим матом орёт, должно быть, что ему тоже не жить. Печальный, но, согласитесь, прекрасный конец. Он уже видит сотни убитых своими руками, а тот-то убьёт, и не окажется на его совести ни одного, постой, вот этот останется... тьфу, тьфу!
И что бы вы думали? Роды проходят благополучно!
После такого исхода и благодарственных, чуть не униженных улыбок счастливого мужа, на милость тотчас переменившего гнев, он несколько ободряется духом, решает справочники, руководства и атласы всегда держать под рукой. В каждом затруднительном случае, то есть почти постоянно, листает их лихорадочно, читая поспешно, плохо разбирая, что и зачем, и с трепетом ждёт своей неизбежной участи. И как же не ждать? Больные прут к нему сквозь ненастье, сквозь мороз и метель. Одни добираются своими ногами, других доставляют на разбитых телегах, а зимой большей частью в розвальнях на охапках сена везут.
И война, госпиталь прифронтовой, отпиленные руки и ноги представляются ему чуть не забавой. У него на глазах стонет и страждет сражённая разнообразным страданием плоть. Женщины, мужчины, взрослые, дети и старики.
И вот где чудо, так чудо: всякий раз, как он видит перед собой эту сражённую страданием плоть, к нему сама собой приходит решимость, озаренье какое-то, даже размах. Мысль работает удивительно ясно. Безотказно действует преподанный в аудитории метод. Он строжайшим образом следует от симптома к симптому, подбирает их один к одному, сопоставляет. И, как несомненное чудо, неизбежным следствием сам собой из тьмы неведенья выплывает точнейший диагноз. Странней же всего именно то, что диагноз-то правильный, точный. Он ни секунды почему-то не сомневается в том и смело выписывает лекарство или берётся за хирургический нож.
Ампутации, вычистки, грыжи, трахеотомии, вывихи, переломы, ингубации, роды, часто неправильные, гнойные плевриты, воспаления лёгких, сифилисы, геморрои, саркомы – всё побывало у него под рукой, даже пивший беспробудно и допившийся до чертей агроном. Он оказывается смел и удачлив, рука его не дрожит, хотя если не каждый раз, так непременно уж через раз ему кричат в спину охрипшие мужицкие глотки:
– Убью! Не жить тебе, говорю! Ты мотри!
К нему привозят человека с розовой пеной на синих губах, с грудью, разнесённой выстрелом волчьей дробью чуть не в упор. Клочьями мясо висит. Трепещущее виднеется лёгкое. А через месяц человек уходит от него совершенно здоровым, на своих на двоих.
Слава о нём распространяется по округе. Больные так и прут нескончаемой вереницей полушубков, шалей и зипунов. За один всего год он принимает пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. В среднем по сорок восемь тяжко страждущих в день, поскольку легко страждущие к нему не являются, привыкли от лёгких недомоганий сами лечиться каким-нибудь зельем, самогоном чаще всего. Однако случаются дни, когда перед ним проходит сто, сто десять, даже сто двадцать больных, и он работает с ними от темна до темна, да ещё поднимают с постели чуть не каждую ночь, призывая к больным, так что в течение года он ни одной ночи нормально не спит, что прошу отметить особо.
Чудесное земство! Вечная слава ему! Знает, что без столовой, без спальни, без кабинета он бы с ума непременно сошёл. А так ничего. То есть почти ничего, если всю правду сказать.
Пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. Несметное полчище. Все люди различных сословий, профессий, темпераментов, убеждений и знаний. Тут в одной куче богатеи и нищие, землепашцы, учителя, писаря и неграмотные, обитатели местные, уравнители, беспартийные, анархисты, и кого-кого только нет, а страдания, боль, ужас смерти у всех одинаковы, болезнь каждому указует, что смертен есть и есть человек.
И всем он обязан помочь, не выспрашивая, кто он и что, да и времени выспрашивать нет. Исключений быть не могло. И он то напряжённо, то сердито, то озлобленно думает только о том, чтобы лечение было удачным, чтобы человек совершенно здоровым вскоре покинул его.
Гуманнейшая профессия в мире, мой друг!
Этот год, прожитый в постоянном, в неистовом противоборстве с болезнями всех сортов и мастей, отчеканивает его от природы сильный характер, о силе которого и сам он прежде не знал ничего. Всё ещё юноша, несмотря на женитьбу и двадцать пять лет, из бесчисленных испытаний выходит мужчиной. Отныне он владеет собой. Но главнейшее из всего, он научается побеждать.
И мне представляется, что однажды, когда история не даёт ему никаких документов, он поделится с любимым героем своим собственным опытом и нарисует небезынтересный портрет:
“Три тяжких года, долги, ростовщики, тюрьма и унижения резчайше его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью. Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожжённый профессиональный актёр, видавший всякие виды...”
Впрочем, пока что он врач, но тоже профессионал и прожжённый. Забавное сожаление, что он выглядит моложавым, позабыто давно как мальчишество. По целым неделям забывает он об отличнейших лезвиях всемирно известной фирмы “Жиллет” и ленится посылать за газетами. Прямой пробор исчезает с его головы вместе с щегольской причёской культурного человека. Отросшие волосы, поскольку на сорок вёрст кругом ни одного цирюльника нет, зачёсываются небрежно назад, лишь бы не мешали работать. Глаза становятся беспокойней и строже. Рот сжимается с уверенным мужеством. Глубокая складка, едва намечавшаяся, теперь явственно пролегает у переносья.
В сущности, он имеет полнейшее право гордиться собой: из двухсот стационарных больных у него умирает только шесть человек. Да и эти шестеро становятся истинной мукой, испытанием, ношей, крестом. Это горчайшее горе его, под игом которого чужие боли, чужие страдания начинают казаться своими. Совесть, это сокровище, этот фантом, дарованная интеллигентному человеку вместе с пристрастием к своим вдохновенным тревогам, становится неумолимой, точно бы хищной. Каждую смерть он переживает как свою катастрофу. За каждый несчастный случай винит он только себя самого, не унижаясь до причитаний по поводу сквернейшим образом сложившихся обстоятельств. В такие часы он себе представляется бездомным жалким отвратительным псом. Горчайший стыд обжигает несчастное сердце. Даже приходит на ум, что он совершил преступление. Отчаянье давит, собачья тоска. Куда бы поехать? Кому повалиться бы в ноги? Повалиться и бухнуть, что вот, мол, он, сукин сын, чёртов лекарь с отличием, натворил того и того, берите диплом, отсылайте самого в Сахалин!
Не к кому и некуда ехать, это он сознает, и тогда тихая речка, лозняк и покривившийся мостик через неё, видные из окна его кабинета, словно бы угрожающе глядят на него.
“Незабываемый, вьюжный, стремительный год!.."
И как скверно, поверхностно он всё ещё знаком с медициной. Он твердит, что ему нужно, что ему необходимо учиться. И с упорством человека с окровавленной совестью он роется в библиотечных шкафах, перелистывает справочники, разглядывает рисунки и диаграммы, намереваясь удержать в памяти все до одной.








