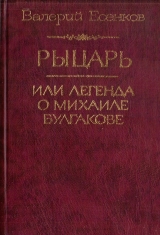
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Как он относится к ним? Можно с уверенностью сказать, что он не примеряет на себя всех болезней, которые видит, не болеет ими в воображении, как приключалось с автором “Записок врача”. В нём слишком сильно развито чувство рыцарского служения, и если он и страшится чего, так это того, сможет ли именно он помочь этим впавшим в отчаянье людям.
Удивительней же всего, что он открывает в клинике красоту и романтический блеск. Хирургическое отделение притягивает его как магнит. Чистейшие белые стены заливает ослепительный электрический свет. Такой же умопомрачительной чистотой сверкает керамический плиточный пол. Горит никель приборов и кранов. И посреди этой сверкающей чистоты человек умирает на операционном столе. Вокруг человека манипулируют ассистенты в снежно-белых халатах, с сосредоточенными строгими лицами. Над ним склоняется старый профессор в марлевой маске, в залитом красной кровью переднике и делает что-то неуловимое в раскрытой груди или в полости живота. Застывают, всё почтение и внимание, три помощника ординатора, врачи-практиканты, тесная стайка студентов-кураторов. И вот умирающий, выхваченный из бездны, возвращается к жизни, начинает ровно дышать, открывает, отвезённый в палату, ещё полные мукой глаза.
Чудо, богослуженье какое-то, и впоследствии он опишет это зрелище именно так:
“И он поехал по скользкому паркету лапами, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в чёрных перчатках. В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырёхугольный на блестящей ноге...”
И самая клиника для душевнобольных приобретает что-то таинственное, замечательное, с мягким светом святого:
“Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы...”
И всё-таки душа его страждет, ему тяжело. Какая-то заминка приключается с ним. Словно что-то дыбится в нём, протестует, подсказывает, что это не то. Слишком мрачно, слишком темно, он к этому не привык. Хочется света, ласки, тепла и добра, иначе, как будто проносится в потрясённой душе, бросишь всё к чёртовой матери и сбежишь неизвестно куда.
На помощь приходят события, и потрясение слабеет, слабеет, делается почти неприметным, так что о том, что оно всё-таки было, можно только догадываться по слабым, едва различимым следам.
В ответ на студенческие волнения, связанные со смертью Толстого, Совет министров опрометчиво упраздняет, в январе 1911 года, университетскую автономию, студенческие сходки в здании университета запрещены. 1 февраля начинается забастовка студентов. Занятия в университете почти прекращаются. Лишь немногие жаждут продолжения лекций и добиваются разрешения профессорам читать даже в том случае, если в аудитории присутствует хотя бы один студент. Жалкое положение! И забастовка, и эта нищенская обстановка учения такому человеку, каким был Булгаков, равно не по душе. Может быть, он даже и рад, что можно остановиться, подумать о чём-то, что-то решить. Из нашего поля зрения он исчезает. О любительских спектаклях не слыхать даже летом на даче, а это уже ни на что не похоже, согласитесь со мной. Он точно замер, точно вкус ко всему потерял.
В июне приезжает из Саратова Тася. В этом году она оканчивает гимназию, учиться ей хочется в городе Киеве, однако отец запрещает, считая, что прежде она должна один год поработать в должности классной дамы в одном из училищ, а только после этого испытания возвращаться к учёбе. Непокорная, на этот раз она покоряется воле отца. По этой причине их свидание в городе Киеве кратко, в начале сентября она уезжает.
Ах, что бы ни думали по этому поводу, что бы ни говорили, но каждому Мастеру просто необходима своя Маргарита!
Он кое-как дотягивает до Рождества. Тут счастливый случай ему улыбается широчайшей улыбкой: бабушка Таси, Елизавета Николаевна, выражает желание съездить в Саратов, однако же возраст, недуги, дальность пути... Что вы, что вы, я же могу вас проводить! С удовольствием! С величайшим, надо сказать! Он подхватывает старую женщину и действительно благополучно доставляет в Саратов. Гремит Рождество! Ёлка смеётся всеми огнями! Танцуют, танцуют! Он же с Тасей танцует немного: большей частью они сидят в уголке. Он скупо говорит о себе. Она болтает без умолку:
– В училище девушки в два раза больше и толще меня. Преподаватель Закона Божьего спрашивает однажды: “Где ваша классная дама?” “Вот она”, – отвечают. “Ну, вы скажете! Ха-ха-ха!” – можешь представить, домой совсем без голоса прихожу.
Он представляет. Она совершенная копия Наташи Ростовой. Тонюсенькая, непосредственная, живая, вся в вечном движении, язык так и трещит, весела и беспечна, своенравна и непослушна, так что отец не в состоянии ей ничего запретить, всё равно по-своему сделает, на каток или в театр убежит, непоседлива, неглупа, остра на язык, безалаберна, валяется на диване, книжки читает, платье валяется на полу, вскочила, куда-то бежит, одевается просто, музыку обожает, играет сама.
Отец, Николай Николаевич, из старинной дворянской фамилии, служил податным инспектором в Екатеринославле, выслужился, получил должность управляющего Казённой палатой в Омске, затем вот в Саратове, действительный статский советник, то бишь генерал, человек образованный и широкий, во время съездов податных инспекторов без исключения всех приглашает к себе, человек сто садится за стол, в доме бонна, горничная, кухарка, не чопорно, не натянуто, однако достаток большой, ясное дело, когда генерал.
Однако Рождество мимолётно. Уезжает он в город Киев, домой. Киснет. Чрезвычайно, чрезмерно. Места нигде не находит себе. Не представляет, взяться за что. Всё бредёт вкривь и вкось, выпадает из рук. Не готов, не готов к испытаниям, не умеет переносить. Из этого свойства натуры вытекает само собой, что, пребывая в сквернейшем таком состоянии, экзаменов он в 1912 году не желает сдавать, так что учёба в этом году пропадает совсем.
Летом он пулей мчится в Саратов, уже без предлога, то есть без бабушки. В августе они вместе с Тасей объявляются в городе Киеве. Тася поступает на историко-филологические курсы, впрочем, мало известно зачем, даже на романо-германское отделение. Снимает комнатку для уединённых занятий, однако учиться, тем более заниматься уединённо ей решительно некогда, она большей частью гуляет, а Михаил с величайшим усердием помогает ей в этом приятном занятии. Они не расстаются, почти. Она понемногу капризничает:
– Как хочешь, собака у вас, так я к тебе через двор не пойду!
Он великодушен, беспечен. Женская натура ещё непонятна ему:
– Ну, звони с улицы, отопру.
Они бродят по улицам великолепного города, беспрестанно ходят в театр, слушают вечного “Фауста”, сторонятся знакомых, родных, шепчутся о таких пустяках, о которых не стоит упоминать, да и кто в таком состоянии сам пустяков не шептал? Неизвестно, понятно ли им, что бы всё это могло означать, однако понятно решительно всем остальным. В один прекрасный день Варвара Михайловна решается призвать беспечную Тасю к себе. Опытная женщина, вдова, взрастившая и воспитавшая семерых вот таких же детей, просит неопытную, у которой никакого понятия о семейной жизни нет:
– Не женитесь, рано ему.
Просьба законная, совет благоразумен и крайне необходим, но что за толк давать советы влюблённым.
Они снова шушукаются, в чём-то убеждают друг друга, смеются и объявляют, что порешили жениться. Шествует месяц апрель, 1913 год.
Варвара Михайловна принимает известие сдержанно. Тихий ужас овладевает роднёй, с его и с её стороны. Безумие! Чёрт знает что! Студент! Двадцать два года! Два курса! А та-то, та-то! Молоденькая! Почти гимназистка! Да как же, да что же они?
Им хоть бы что. Он беспечен, как и она. Оживает, становится жизнерадостным и весёлым, как прежде. В голове его так и бурлят блестящие выдумки. Так и сыплются безобидные шутки и беззаботные розыгрыши. Собственная свадьба представляется ему водевилем, и он в самом деле стремительно набрасывает один водевиль, за ним следом тотчас другой. Первый носит латинское название “Времена меняются” с обширным подзаголовком “или что вышло из того, который женился, и из другого, который учился”. Действующими лицами выступают сам автор и Костя Булгаков, двоюродный брат. Зато во втором, “С мира по нитке – голому шиш”, мечется вся большая родня, обременённая единственной мыслью, как с возможными удобствами разместить молодую чету, однако каждый раз на общем семейном совете решают, что Мише и Тасе это не подойдёт. Участвуют: Бабушка, Доброжелательница солидная, просто Доброжелательница, Хор молодых доброжелателей, братья, сёстры, друзья. Бабушка восклицает: “Но где же они будут жить?” Доброжелательница ей отвечает: “Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике”.
Это была острая шутка, но, к сожалению, не без привкуса горечи. Места для молодой четы на Андреевском спуске, 13 действительно нет. Впервые герой мой сталкивается с квартирным вопросом, самым скверным и самым унизительным среди прочих житейских вопросов, которые осаждают его и многих других интеллигентных людей, и ещё множество раз ему предстоит страдать от того, что этот проклятый вопрос абсолютно не разрешим.
А пока он беспечно готовится к свадьбе, совершенно влюблённый, что называется, по уши, он сияет, он счастлив, его будущее представляется ему в самом блистательном виде.
Он с головой погрязает в предсвадебных хлопотах и, право, есть о чём хлопотать. История умалчивает, в каком наряде он пошёл под венец. Надо думать, что у него всё же имеется пристойный чёрный костюм, привычка иметь пристойный костюм у него сохраняется на всю жизнь. Что касается Таси, то у Таси отсутствует такая важная вещь как фата, впрочем, отсутствует и подвенечное платье. Какие-то деньги ей заблаговременно присылают из дома, однако она обладает неизъяснимой способностью тотчас разбрасывать деньги, как только они попадают ей в руки, и самое загадочное всегда заключается в том, что никто не может понять, в каком именно направлении брошены деньги. Евгения Викторовна, первая тёща, приезжает впопыхах из Саратова и хватается за голову: самая подходящая к случаю вещь гардероба – полотняная юбка, пущенная в широкую складку. Естественно, что в одной юбке венчаться нельзя. Евгения Викторовна в пожарном порядке приобретает какую-то блузку. Положение спасено. Венчание всё-таки состоится. Венчает отец Александр.
Под венцом оба отчего-то ужасно хохочут. Тасе особенно нравится то, что из церкви едут в карете. Шаферы из самых близких друзей: Боря Богданов, Костя Булгаков, Платон и Сашка Гдешинские. Как и положено в таких ответственных случаях, устраивается обед, но и на обед приглашаются очень немногие, только самые близкие, большей частью родня.
Празднуют, веселятся. Начинается новая жизнь, вся в алмазах и в блеске огней. Несколько смущает всё тот же квартирный вопрос, но вскоре и квартирный вопрос разрешается совершенно удачно, даже великолепно, по правде сказать.
Несколько выше, на том же прекрасном Андреевском спуске, в доме под номером 38, в котором проживает, тоже во двор на первом, а на улицу во втором этаже, Иван Павлович Воскресенский, друг семьи, доктор, воевавший в Маньчжурии, через лестницу от его великолепной квартиры находится отдельная угловая просторная комната, неправильной формы, поскольку закругляется угол фасада, из окна на улицу видна церковь Андреевская, а из двух боковых церковь Десятинная, тут же у самого тротуара афишная тумба, и на тумбе каждое утро меняют афиши, так что, едва пробудившись, уже можно знать, что именно у Соловцова, что в опере, что в цирке, что в варьете.
На молодожёнов сама комната и весь этот дом производят впечатление праздничное, словно это не дом, а дворец, полный какой-то таинственной магии. Дверь подъезда тихая, важная. Парадная лестница. Пол площадки застелен плитами мрамора. Направо дверь, ведущая в квартиру доктора Воскресенского, в которой молодые люди приняты совершенно по-родственному и бывают чуть ли не чаще, чем в своей собственной, угловой и обставленной скудно, по правде сказать.
“В огромной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечесть, и в каждой из них важные обольстительные вещи...” Вещи действительно удивительные, фантастически странные, вывезенные с Востока образованным доктором, любящим в обстановке изящество, своеобразие, тонкость, чтобы жизнь в этих комнатах приятно текла.
Сам доктор Воскресенский ещё более обольстительный, замечательный человек, один из тех скромных, прекрасно образованных и воспитанных русских врачей, которые не только не дерут денег с бедных больных, но ещё видят в том свой посильный неписаный долг, чтобы вместе с рецептом оставить кое-что на лекарства. В такого человека нельзя не влюбиться, и молодые люди влюбляются, восхищаются и большую часть своего свободного времени толкутся в его гостеприимной квартире. И правильно делают: нет ничего полезней и благотворней для будущего молодого врача, как неторопливая дружеская беседа с благородным, умнейшим, прекрасно воспитанным и прекрасно образованным человеком. К тому же, лишь живые примеры рождают в нас плодотворную мысль о служении.
Одним словом, жизнь налаживается прекрасно. Он возвращается в университет более серьёзным и сдержанным, уже ощущая ответственность перед собой, перед новой семьёй и перед теми, кого станет вскоре лечить, непременно так же, как Воскресенский. Ни одна лекция отныне не пропускается, все экзамены сдаются отлично и в срок. Обедами кормит Варвара Михайловна. Столовая в доме номер 13 оживляется то беспечным заразительным смехом, то новыми перепалками Варвары Михайловны с сыном, который на её замечания отвечает уже не только ядовитой иронией, как случалось и прежде, но и принимается опровергать все общепринятые авторитеты, что приводит Варвару Михайловну в ужас и заставляет её трепетать, какое-то будущее с такими невозможными взглядами ждёт её старшего странного сына?
После обеда он частенько ходит в библиотеку, на конце Крещатика, возле Купеческого просторного сада, открылась недавно, читальный зал превосходен, работается легко. Тасю берёт непременно с собой. И Тася терпеливо читает что ни попало, пока он серьёзно штудирует свои медицинские фолианты.
Вечера полны развлечений. Возобновляются любительские спектакли, в которых он по-прежнему прекрасно исполняет первые роли. Оказывается, что Тася театр и оперу обожает ничуть не меньше, чем он, и они оба не пропускают премьер, не пропускают концертов симфонического оркестра, которые с весны до осени устраиваются в Купеческом саду, слушают “Кармен”, “Гугенотов”, “Севильского цирюльника” с итальянцами, и множество раз “Аиду” и “Фауста”, эти две оперы прежде всего, и когда он приходит в прекрасное расположение духа, он напевает: “Милая Аида... Рая созданье”, “На земле весь род людской”, “Я за сестру тебя молю”.
Устраиваются даже денежные дела, которые, как известно, ещё труднее устроить, чем дьявольски сложный квартирный вопрос. Михаил, попутно с университетскими лекциями и усердными трудами в библиотеке, успевает давать кой-какие уроки и получает за них кой-какое вознагражденье. Тасе пятьдесят рублей ежемесячно шлют из Саратова. Что-то около пятнадцати рублей пожирает квартирная плата. Все оставшиеся ресурсы тратятся молодожёнами, причём совершенно мгновенно и с одинаковой безоглядной беспечностью. Завтракают в кафе на углу Фундуклеевской, ужинают в ресторане “Ротце”, швыряют последний рубль, нет, не на извозчика, это мещанство, они непременно берут лихача, оттого что на дутиках, что приводит юную Тасю в совершенный восторг. Или вдруг возникает идея: “Так хочется прокатиться в авто!” Идея тотчас претворяется в жизнь, сопровождаясь неизменным согласием с его стороны: “Так в чём же дело, поедем!”
Варвара Михайловна исправно бранит их за легкомыслие, чем даёт повод старшему сыну опровергнуть ещё один застрявший в её сознании предрассудок. Из Саратова тоже громыхают далеко не похвальные письма, которые тоже не оставляют никакого следа. Кончаются деньги, кольца и знаменитая Тасина цепь несутся в ломбард. Суммы, выданные в ломбарде под этот залог, незамедлительно постигает та же неизбежная участь. Кончаются деньги, повсюду ходят пешком, а на ужин в магазине “Лизель” покупают полкило колбасы, из которой и составляется ужин, не роскошный, но сытный, так о чём горевать?
Кроме того, Михаил всё чаще погружается в какие-то безмолвные, таинственные раздумья и время от времени норовит посидеть за письменным столом ночью, пользуясь лампой, с зелёным, естественно, козырьком, и что-то быстро и неразборчиво пишет.
С какой целью? Что именно пишет? В этом месте опускается плотная, непроницаемая завеса, и вопросы не находят ответов. Одна сестра Надя смутно припомнит позднее:
“Я помню, что очень давно (в 1912-13 годах), когда Миша был ещё студентом, а я – первокурсницей курсисткой, он дал мне прочитать рассказ “Огненный змей” – об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время её приступа: его задушил (или сжёг) вползший к нему в комнату змей (галлюцинация)...”
Таким образом выясняется, что на университетской скамье его внимание притягивают странные, причудливые, болезненные явления, порождаемые патологическими воздействиями на мозг. Выясняется также, что исподволь зреют иные мечты, и однажды той же Наде он говорит: “Вот увидишь, я буду писателем”. Неизвестно, на каком фундаменте покоится это пророчество. Пока что всё это только мечты, затаённые, смутные, не без многих сомнений и ещё больших тревог. И в общем можно сказать, подводя некий итог, что в этот медовый безоблачный год это были единственные тревоги, не терзавшие даже, а лишь довольно часто смущавшие счастливую душу. Во всём прочем летит и смеётся и кружится райская жизнь, и он с полным правом напишет позднее:
“Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдёт в белом цвете, тихо, спокойно: зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой – не холодный, не жёсткий – крупный, ласковый снег...”
И это было бы совершенно естественно! Я убеждён, что никакой другой жизни и быть не должно!
Глава десятая.
И ВОТ ОНА, РОЕВАЯ ОБЩАЯ ЖИЗНЬ
ДА ОН и не может думать иначе. Сданы очередные курсовые экзамены, лето, солнце на улицах. Михаил с Тасей едут в Саратов. Тёплая, сердечная встреча с родными. Разве всё это не счастье, не благодать, которые просто-напросто должны длиться вечно, во все времена?
“И вышло совсем наоборот. Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история...”
Обрушивается первая мировая война.
Если читатель решит, что молодой человек, которому только что стукнуло двадцать три года и который уже более года женат, хоть что-нибудь знает о противоборствующих союзах могущественных европейских держав, о неравномерном развитии капитализма, о планах передела уже поделённого мира и о многом, многом другом, это будет большим заблуждением, грубейшей ошибкой, больше ничем. Он ничегошеньки не знает о такого рода вещах, да и неоткуда бы было узнать.
Он знает лишь то, что знают все, и верит в то, во что верят все. То есть он знает то, что в захолустном городишке Сараево безвестный студент стрелял из обыкновенного револьвера в австрийского эрцгерцога Фердинанда, что в отместку за это отнюдь не самое драматическое, не самое значительное происшествие в тогдашней европейской истории Австрия объявила войну Сербии, что Россия тут же вступилась за Сербию и объявила австрийцам войну, что Австрию поддержала Германия, что на сторону России встали Франция и Англия, так называемые союзники, или Антанта. Из всего этого следует непреложно, что Россия ведёт войну справедливую, что Россия в союзе с Францией и Англией значительно превосходит силы Германии, особенно Австрии, которая ни в какие времена не озаряла свои боевые знамёна огнями громких побед, и что по этим совокупным причинам победа России в этой довольно легкой войне несомненна.
Исходя из таких знаний, нетрудно понять, что его нисколько не удивляет на первых порах, что газеты пророчат не только скорую, но и непременно без крови победу. Все официальные лица, все официальные речи так и пылают патриотизмом. Ненависть к немцам представляется повсеместной. Нисколько не удивляет его, и тоже на первых порах, что война существенным образом не меняет образа жизни в тылу: те же разговоры в домах и на улицах, те же вседневные хлопоты, кинематограф, театр.
И действительно, на первых порах война для России складывается благоприятно. Общее благодушие несколько задевают только первые раненые, которых эшелонами вывозят в отдалённые города: в коричневых больничных халатах, с непривычными застывшими серыми лицами, в белых бинтах, пропитанных запёкшейся кровью.
Но сострадание, милосердие ещё живо во многих сердцах. Частные лица устраивают госпитали повсюду, где только могут, интеллигентные женщины добровольно и совершенно бесплатно поступают в эти госпитали санитарками и сёстрами милосердия. Евгения Викторовна, Тасина мать, организует такой госпиталь в Казённой палате, и не может быть ничего естественнее того, что Булгаков, медицинский студент четвёртого курса, добровольно работает в госпитале, как не может быть ничего естественнее того, что вместе с ним, также по доброй воле, санитаркой трудится Тася и таскает в своих тонких, в своих хрупких, в своих почти подростковых руках тяжёлые вёдра с водой.
К началу университетских занятий они возвращаются в Киев.
Движутся медленно, пропускают вперёд эшелоны с войсками, которые идут один за другим. Из окна вагона впервые глазам его предстаёт роевая общая жизнь, о которой он когда-то узнал из романа Толстого. Одинаково остриженных, одинаково одетых мужчин перевозят в теплушках, в которых прежде перевозили только товары и скот, и эти мужчины как ни в чём не бывало выбегают с жестяными или медными чайниками, с закопчёнными котелками за кипятком. Кажется, что вся Россия сдвинулась с места и едет в одном направлении, с востока на запад, где грохочет что-то неведомое, смысл которого пока что невозможно понять. По деревням жёстко и часто колотят в чугунную рельсу, сзывая народ, подлежащий мобилизации и отправке на фронт. Крестьянские пузатые лошади подвозят к железной дороге на открытых телегах своих натруженных пахарей. На станциях воют простоволосые бабы, надрывно режут гармоники, мобилизованные пляшут с пьяным свистом и с дикими криками. Что они? Как? Невозможно понять, но он убеждён, твёрдо помня уроки Толстого, что судьба России отныне в этих корявых мужицких руках.
В городе Киеве он не обнаруживает никаких перемен. Всё те же занятия в университете и в клиниках; всё те же симфонические концерты в саду, всё те же гулянья по вечерам. Одно только; вокруг него становится всё меньше друзей. Бухгалтеры и учителя получают офицерские эполеты. Студентов освобождают от воинской повинности, однако студенты рвутся в армию добровольцами, следом за ними рвётся кой-кто из последних классов гимназии, вольноопределяющиеся, а вскоре и прапорщики, сплошная интеллигенция весь младший командный состав.
Михаил Булгаков не может попасть на войну: дотошные медики в его организме находят какой-то изъян и от армейской службы по этой причине освобождают. Его друзьям везёт куда больше. Один за другим, в длиннополых офицерских шинелях, в защитного цвета фуражках, они приходят прощаться, весёлые, страшно довольные, гордящиеся своими погонами прапорщиков.
Тут наружу понемногу начинает проступать ещё одна сторона роевой общей жизни. На фронт уходит всё лучшее, наиболее благородное, чистое, честное, горящее жаждой лучше пасть на поле сражения, но победить. И чем в большем количестве всё это лучшее уходит на фронт, тем явственнее проступает грязная пена, толпа обитателей, перед которыми бессильна даже война. Каким-то обострённым, верхним чутьём обитатели улавливают лазейки, благодаря которым можно не ходить на войну, и проскальзывают в эти лазейки с неуловимым проворством всех паразитов. Через друзей и знакомых они добывают освобождение от воинской службы. С величайшим энтузиазмом трудятся по снабжению армии обмундированием, продовольствием и фуражом. Крадут всюду, где только возможно и даже, казалось бы, невозможно украсть. Пьянствуют по ночам, шляются по известным притонам, так что проститутки дорожают гораздо быстрее, чем хлеб, табак и вино.
Предстоит уйти на фронт и Боре Богданову, стариннейшему, ещё по гимназии, другу, на его свадьбе бывшему шафером, ныне горько влюблённому в Варю. Боря является на Андреевский спуск, дом 13, каждый без исключения день, приносит Варе дорогие букеты её любимых цветов и подолгу глядит на неё, в длиннополой офицерской шинели, в фуражке защитного цвета и в башлыке, с каким-то страшно вытянувшимся, опрокинутым, непонятным лицом, молча поворачивается через плечо и так же молча уходит.
Наконец застенчивый Боря, вздохнув глубоко, делает официальное предложение. Варя отказывает ему наотрез. На другой день Боря приходит проститься, отчего-то сбривши усы. Все удивляются: как же, офицер без усов! Надя спрашивает: “Это что?” Боря молчит, и Михаил отвечает за него по-французски: “Маленькая демонстрация”.
Боря уходит, не появляется несколько дней и вдруг присылает записку, в которой просит друга Мишу зайти. Ничего особенного записка в себе не содержит. Такого рода записками им приходилось обмениваться и прежде. Михаил, разумеется, находит время к нему забежать и находит старого друга в постели. Они обмениваются незначащими словами. Михаил хочет курить, но у него как нарочно кончились папиросы. Слыша, как он бранится сквозь зубы, Боря отзывается совершенно спокойно: “Ну папиросы можешь взять у меня в кармане шинели”. Ничего проще этого предложения нет. Михаил поворачивается, шарит в кармане шинели, обнаруживает только копейку, говорит со смехом об этой находке, поворачивается к нему, и в этот самый момент глухо бухает выстрел из револьвера. Позднее он опишет и это:
“Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как будто он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение!..”
И присовокупит подробности жуткие, не истлевшие в памяти за несколько лет:
“Тут он открыл глаза и возвёл их к нерадостному уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться тёмные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолётную красу...”
Так и видишь, как он стоит поражённый, парализованный над телом старинного друга, молодого ещё человека, совершенно не в состоянии сообразить, что надо делать, и в то же время зная уже, что решительно ничего теперь сделать нельзя, глядя во все ошарашенные глаза на дорогое обезображенное лицо, и все эти раздирающие душу подробности впечатляются в память, точно мозг его делает фотографический снимок в этот неповторимый момент.
На папиросной коробке, которая, как оказалось, лежит на столе, начертаны неизбежные в таком деле слова: “В смерти моей никого не винить”. Всё-таки следователь вызывает в свой кабинет Михаила как единственного свидетеля самоубийства. О причинах самоубийства бродят тёмные слухи. Отец уверяет, что Боря не поладил с начальником. Брат будто бы припоминает, что кто-то обругал Борю трусом. Многие шепчутся, что причину-то надо искать в неразделённой любви, и указывают таинственно на Андреевский спуск. Всё может быть. Вдруг могли скреститься все эти причины и вызвать в застенчивой душе человека катастрофическое истощение сил. Какой смысл нам гадать? Прискорбней всего эта душевная слабость, которой так много в интеллигентном молодом поколении начала двадцатого века, которое ещё слишком много тяжелейших, непереносимых испытаний ждёт впереди.
Что-то происходит и с Михаилом Булгаковым. Он становится задумчивей, сдержанней, строже. Точно первая лёгкая тень принакрыла лицо и на переносье обозначились первые складки. Может быть, в душе его возникает чувство ошибки, вины. Может быть, уже шевелится потребность описать каким-то образом то, что несётся какой-то постыдной, отвратительной чередой и кривляется и глумится у него на глазах: этого слабодушного мальчика с неестественно дрогнувшим ртом и рядом эту жирную сволочь, которая непристойно и нагло окопалась в глубоком тылу. По временам ему кажется даже, что обо всём этом он бы хорошо написал. Я вижу, как иногда он точно бы застывает на месте и с ненавистью цедит сквозь зубы: “Ну, погодите, ужо...” Однако едва ли ещё сознает, кому и чего надо годить, что означает это предупреждающее ужо.
Положение на фронте между тем ухудшается. Маршевые роты всё чаще устало шаркают по мощёным улицам города Киева, скрежещут кованые колёса орудийных лафетов. На фронт уходят всё новые пополнения. Солдатам не хватает винтовок. Расползаются тёмные слухи, что нередко и наши пушки подолгу молчат, оттого, что, видите ли, вовремя не подвозят снарядов. Шинели начинают изготовляться из хлопчатой бумаги, для тепла подбиваются ватой. На улицах трясутся калеки без рук и без ног. В правительство уже не верит никто. Ползут ещё более тёмные слухи, что министры продажны, без исключения все, и предатель сам военный министр. Шепчутся о Распутине, передают друг другу невероятные вещи. А головка всего шпионажа гнездится будто бы в Зимнем дворце. Об измене в тылу и на фронте говорят как о деле несомненно и абсолютно доказанном. Война идёт всего год, а уже считается несомненно проигранной, хотя никаких оснований как будто для такого суждения нет.
И похоже, ах, как похоже на то! В августе месяце резко ухудшается наше положение на участке фронта в Галиции. Идут бои тяжёлые, известия о потерях поступают от раненых, да по количеству раненых видно и так. В воздухе точно разливается первый дымок надвигающейся, видимых причин не имеющей катастрофы. Из самых достоверных источников передают, что возможно оставление несравненного города Киева, отвод потрёпанных русских дивизий за Днепр. Город Киев переполняется беженцами с западных территорий, но под влиянием всех этих предположений и слухов часть киевлян тоже становится беженцами, вливается в этот грандиозный поток несчастных, грязных, оборванных, голодных людей и движется на восток, неся в руках или катя на тележках скудное своё достояние, какое удалось унести. Испуганная Варвара Михайловна тоже отправляет своих младших детей в Карачев к сестре.








