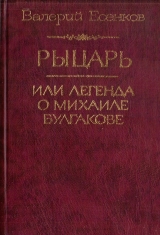
Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Счёл своим приятнейшим долгом поздравить вас с исключительно удачной статьёй, которую имел удовольствие прочитать-с.
И в пролетарском “Гудке” он появляется таким же корректным, изысканно вежливым, тот же стремительный шаг, тот же церемонный поклон, те же всей этой безобразнейшей новой жизни звучащие вызовом “никак нет-с”, “извольте-с”, “будьте благонадёжны-с”, та же наблюдательность, та же фантазия, та же дерзость письма, та же отстранённость от всех, та же деликатность, с которой он приглашает кого-нибудь из своих голодных товарищей к себе на обед:
– Ну, конечно, вы уже давно отобедали, индейку, наверное, кушали, но, может быть, вы что-нибудь всё же съедите?
И тем не менее всё совершенно не так! Служба в “Гудке” ему представляется профанацией, каторгой, и своего мнения он не переменил на сей счёт до конца своих дней. Он едва терпит, он ненавидит её. Обрабатывать письма, присланные в редакцию малограмотными людьми? Да вы что же, смеётесь? Это больше чем издевательство, если в душе обработчика шевелится хоть какой-то, пусть самый малый талант! Это пытка! Это смерть для таланта! Так это было и так это будет всегда. И не верьте вы тем, кто старается вам доказать, будто сволочная служба в “Гудке” шлифовала его бесценный драматургический дар. Это чушь. Это вздор. Не может, не в состоянии никакой дар шлифовать казённый, бессмысленный, вызывающий одну только ненависть труд. Талант вскармливается полнейшей свободой, а шлифует талант только любовь к предмету труда. С ненавистью к предмету труда изготовляются одни халтурные вещи. Михаил Афанасьевич признается в этом и сам, и я расположен верить ему: “Одно Вам могу сказать, мой друг, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадёжной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шёл дождь. Опять-таки не припоминаю, почему мне было предложено писать фельетоны. Обработки мои здесь не играли никакой роли. Напротив, каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что, я Вам скажу по секрету, работник я был плохой, неряшливый, ленивый, относящийся к своему труду с отвращением...”
Да, мой читатель, в пролетарском “Гудке” он работает с отвращением, с омерзительным чувством, что делает что-то совершенно не то, что должен бы делать, к чему с такой страстью рвётся душа.
С самого утра его нагружают ворохом малограмотных писем, и он вынужден все эти идиотские письма прочитывать от строки до строки, в слабой надежде извлечь из этого вороха то зерно, из которого позднее каким-то чудом, абсолютно необъяснимым, создаются его фельетоны. Вы полагаете, что такое зерно содержится в каждом письме, адресованном, как выражаются, с мест, прочти, бросайся к столу и строчи? Как бы не так! Чушь собачья большей частью содержится в каждом письме, написанном пролетарской рукой, и всё, что он неизменно обнаруживает в каждом письме, так это страшнейшая дичь, которая процветает во всех этих богом забытых местах, на глухих полустанках, в паровозных депо. Я не о тех безобразиях говорю, которые творятся везде. Безобразия эти ужасны и не сравнимы ни с чем, какую бы страницу мы ни раскрыли в нашей истории, правда, всё ещё не написанной по милости новых властей. Я говорю о другом. Все эти письма пишут те люди, которые всё-таки пытаются мыслить, которые пытаются с чем-то бороться, против чего-то негодовать, то есть всё это лучшие люди пролетарской среды, которые призваны строить эту самую новую жизнь. И что же это за мысль! В каких она зарождается чугунных мозгах! Какое убожество! Какая корявость! Какая бесцветность мышления! И всё это именно тот людской материал, из которого должна быть воздвигнута новая, разумная, гармоничная и светлая личность!
“На собрании по перевыборам месткома на станции Н. член союза Микула явился вдребезги пьяный. Рабочая масса кричала: “Недопустимо!”, но председатель учка выступил с защитой Микулы, объявив, что пьянство – социальная болезнь и что можно выбирать и выпивак в состав месткома, после чего рабочие массы выбрали в кандидаты месткома известного алкоголика и на другой же день он сидел пьяный, как дым, на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывал, что разрешено пить, лишь бы не было вреда...”
И сотни, тысячи таких уродливых, таких несуразных по содержанию писем должен он прочитать. И от этого зловонного месива дикости и безумия должна к строго определённому сроку вспыхивать его творческая, хрупкого свойства фантазия. Однако не вспыхивает она, понимаете? Не может творческая фантазия вспыхивать от чего ни попало. И по этой причине далеко не всегда в течение утомительного рабочего дня удаётся из всего этого месива выскрести хоть что-нибудь, хоть самое крохотное, хоть самое неприметное, да всё-таки зёрнышко, хоть самую малую искорку смысла и мысли, от которой фантазия могла хотя бы затлеть. И он тащит ещё один ворох домой, и ждёт, пока в проклятой квартире затихнет на общей кухне скандал или, наконец, прекратится пьяная пляска под шальную гармонь, и прочитывает косноязычные реляции с мест о тех же скандалах и о тех же пьяных плясках под точно такую же мерзко-шальную гармонь.
Одного этого довольно с избытком, чтобы талантливый человек свернулся с ума. Но ведь это не всё, далеко ещё нет. Малую искорку всё же удаётся добыть, что-нибудь вроде того, что на такой-то станции наши неразумные власти торгуют исключительно только вином, тогда как на станции, как и повсюду, наблюдается затяжной кризис продуктов первой необходимости. Вы что же думаете, эта жалкая искорка тут же разгорается в жаркий пожар? Как бы не так! Этой искорке приходится долго тлеть и мигать в его усталом, в сущности, абсолютно безразличном мозгу. Ему приходится долго с понурым видом шагать по заплёванным и замызганным переулкам новой Москвы или с безучастным видом сидеть за таким же замызганным редакционным столом, чтобы из этой крохотной искорки затлело, задымилось хоть какое-нибудь, хоть самое грошовое пламя. Наконец задымилось. Теперь этот чад необходимо превратить в фельетон, и не в какой-нибудь фельетон, поскольку у него имеется гордость, а в такой фельетон, который бы можно было читать. Понимаете, у этого автора достоинство есть!
Тут ему на помощь и является блистательный дар драматурга. Давно заброшен чудный замысел написать об удачливом проходимце Распутине. Какие тут пьесы, времени нет. Зато фельетоны можно в форме сценок писать: две-три сухие ремарки, стремительный диалог. Умственной энергии тратится минимум. Самый труд сокращается до предела. Он доводит себя, лишь бы от этой обузы избавиться поскорей, до того, что не берёт в руки пера. Помилуйте, рука отсохнет писать, какое перо! Со смехом и с шутками подсаживается он к машинистке, и полетел, только пулемётная дробь пишущей машинки да хрипловатый голос его:
– Не хочу!
– Да ты глянь, какая рябиновая. Крепость не свыше, выпьешь половинку, закусишь, не будешь знать, где ты – на станции или в раю!
– Да не хочу я. Не желаю.
(Пауза).
– Масло есть?
– Нету. Кризис.
– Тогда вот что... Сахарного песку отвесь.
– На следующей неделе будет.
– Крупчатка есть?
– Послезавтра получим.
– Так что же у вас, чертей, есть?
– Ты поосторожней. Тут тебе кооператив. Чертей нету. А вот транспорт вин получили, такие вина, что ахнешь...
И в таком роде ещё сорок поспешных, маловыразительных, зачастую прямо посредственных строк.
И сотни полторы таких фельетонов, пока он под страхом голода мыкает службу в пролетарском “Гудке”.
Как тут самому не превратиться в машину?
“Открою здесь ещё один секрет: сочинение фельетона строк в семьдесят пять – сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, – 8 минут. Словом, в полчаса всё заканчивалось...”
Нечего удивляться, что он стыдится всей этой заведомой дряни и подписывает её псевдонимами, какой только подвернётся на ум, тоже дрянными и глупыми: Ол-Райт, Эмма Б., Михаил М., Неизвестный и ещё, того же достоинства, десятки других. Лучше всех, разумеется, подворачивается некий корреспондент Г. П. Ухов. В редакции так и ахнули, когда слитно заглавные буквы прочли. Да, и здесь, и во всём, ужасно дерзкий был человек.
После этого явным образом халтурного действа фельетон поступает к ещё более халтурного свойства редактору. Редактор, малограмотный человек, не понимающий ни малейшего толку в газете, неизвестно, то есть, простите, известно, из какой надобности и по какой разнарядке попавший в свой кабинет, коммунист, марает фельетон на свой вкус, пугаясь каждого острого слова, так что к авторской слабости щедро примешивает своей ни с чем не сравнимой и ничем не стесняемой глупости, после чего на фельетон не хочется даже глядеть.
Судите сами, читатель, вам разве понравился бы такой винегрет? Уверен, что вам такой винегрет не понравится. Такое форменное безобразие не может понравиться никому.
А тут ещё другая напасть. Все бездарные люди одинаковы во все времена, разнообразен, оригинален только талант. Аксиома. Доказательству не подлежит. По этой причине все казённые должности всегда непременно занимают одни проходимцы или кретины, и трудно сказать, кто из этих двух разновидностей тупоголовых в казённой должности хуже. Оба хуже, по-моему, это давно доказала история, а никакого выхода нет. Сквернее всего, что всякий кретин, попавши на казённую должность, в которой не смыслит ни малейшего толку, но зато имеет прекрасный доход, прямой и побочный, тотчас наводит строжайший порядок, чтобы всё по местам, по местам, поскольку сам не умением, не знанием дела, а единственно упрямым сиденьем на месте берёт.
Наводится строжайший порядок и в пролетарском “Гудке”. Сотрудникам повелевается являться каждое утро минута в минуту, весь день находиться в редакции под бдительным оком начальства и покидать её только вечером, минута в минуту по окончании рабочего дня, чтобы производительность труда у сотрудников таким простым способом достигала высокого, наивысшего уровня.
Вольный дух заточается, точно в тюрьму, а вольному духу непременно хочется выйти наружу. Ещё когда приходится прочитывать несметные кипы рабкоровской дребедени в поисках зёрен и искр, куда ни шло, всё равно, в каком месте торчать и безмолвно страдать. Но когда отвратительный фельетон отбит на машинке, старательно изуродован красным карандашом и отослан в набор, в редакции более нечего делать, а надо сидеть и сидеть.
“Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всей душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начинал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до одурения...”
Казалось бы, в одном из отделов, который именуется “четвёртой полосой”, подбирается неплохая компания молодых, начинающих, однако подающих большие надежды людей, имена которых можно не называть, поскольку их имена теперь знают решительно все: Олеша, Ильф и Петров, а с ними также Катаев. Веселье в этом отделе царит, шутят, смеются, анекдоты и розыгрыши идут косяком, собирают ужасные ляпы газетчиков и рабкоров, вывешивают на всеобщее обозрение и спуску никому не дают. Замечательные ребята, всё моложе его лет на десять, однако же ничего, Михаил Афанасьевич частенько бывает у них, покуривает в сторонке, понемногу втягивается в какой-нибудь спор, и пошло, и пошло, слава богу, бесценное время так и летит, убил часа три, в другой раз под хорошее настроение заводит и сам, в особенности когда опоздал и необходимо с изяществом выбраться из этого, согласитесь, неприятного, неловкого положения, в которое приходилось и вам попадать. Он сбрасывает своё меховое пальто и с показным испугом частит, заимствуя полной пригоршней у Чехова:
– Не мой начальник, чужой, но всё равно неловко. Опоздал, задержал. Надобно извиниться!
Через левый локоть перебрасывает меховое пальто. К сердцу прижимает правую руку. Корпус в полупоклон, не разгибаясь, расшаркиваясь то одной ногой, то другой, задом пятится к двери.
Выпрямляется, дёргает головой и, сдерживая смех, говорит:
– А ведь это у Антона Павловича здорово получилось.
И заведующий отделом принуждён отвечать ему в тон:
– Оно и у Михаила Афанасьевича недурно выходит.
Он исчезает, довольный, что обошлось, предварительно отвесив свой знаменитый церемонный поклон.
Казалось бы, ему недурно в этой компании, люди живые, конечно, свой. Олешу и Катаева он даже как будто выделяет особо и частенько на первых порах зазывает к себе, хотя мне лично кажется, что Катаев всё это впоследствии выдумал, чтобы себе лишнего весу придать, поскольку чуял, я думаю, что собственный вес у него небольшой.
И в самом деле, разве неизвестно ему, что в их невнимательных, поверхностно глядящих глазах он всего-навсего фельетонист, к тому же фельетонист хоть и бойкий, но подозрительный, старой, ими от всей души презираемой школы? Он преклоняется перед знаменитыми фельетонистами прежнего, когда-то блистательного, гремящего “Русского слова”, он высоко ставит Яблонского, Амфитеатрова, Дорошевича, а эти юнцы не ставят ветеранов и в грош, отзываются пренебрежительно, свысока, точно давным-давно оставили их позади, и он тоном наставника ворчит иногда:
– Нельзя так говорить о фельетонистах “Русского слова”!
Когда же они узнают, что он пишет роман, они отказываются верить ушам. В их всё-таки легкомысленных головах не укладывается, чтобы этот Булгаков был способен, подумайте только, роман написать! Фельетоны, сатиры. Единственное, естественное дело его. Помилуйте, какой же роман!
Чужие люди, мой друг!
Приведу один эпизод, который рассказывает тот самый заведующий отделом, перед которым ему комедии приходилось ломать, приведу сокращая и вольно.
Одному из сотрудников, Павлову, другой, впрочем, пролетарской газеты, орлу, подбрасывают пятёрку юных рабкоров, строго-настрого приказав, чтобы он мигом превратил этот сырой материал рабоче-крестьянских кровей в журналистов высокого класса, без мигом и без высокого класса у нас с той поры ступить шагу нельзя. Никаких учебников и руководств, разумеется, не имеется, поскольку прежние учебники и руководства объявляются бывшими, и бедный Павлов, не думая долго, выбирает все эти ужасные ляпы с известной доски, читает своим несчастным рабкорам, будущим звёздам свободнейших в мире пролетарских газет, и строго, коротко говорит:
– Поняли? Так не надо писать!
И не только находит, что этими наставленьями вполне исчерпывает весь курс обучения, но ещё и берётся за труд составления памятки “Советы рабкору”, и эти “Советы рабкору” принимается составлять вся бесшабашная четвёртая полоса. Понятное дело, что советы то и дело пересыпаются шутками:
– Не больше четырёх отглагольных существительных в предложении. Например: “Выдавание книг производится при соблюдении непотеряния и неукрадения”.
– Не больше девяти родительных падежей в предложении. Например: “Не отремонтированы печи помещения библиотеки общежития молодёжи школы ученичества завода ремонта паровозов”.
– Не больше двух слов в предложении от точки до точки. Например: “Я ем. Он юн. Дождь шёл. Море смеялось”.
Кто-то кричит, что такое требование слишком категорично, даже чрезмерно, после чего вступает Олеша:
– Товарищи, помните, что это же идеал. Достигнуть его невозможно. Конечно, жаль, но что же поделаешь: идеалы – они обязательно недостижимы.
Тут Михаил Афанасьевич громко от печки:
– Прошу слова, товарищи звери!
Швыряет окурок за печку, куда в пролетарском “Гудке” почему-то все сотрудники швыряют окурки, и подступает к столу:
– Так вот, друзья хорошие! То, что вы головотяпы и, извините, негодяи, об этом молчу. Это вам лучше известно, чем мне. То, что вы без конца коверкаете и мордуете рабкоровские письма, и это не новость. Тут ваше дело, хозяйское, как говорится, внутреннее и сугубо частное. Об этом молчу. Однако скажите, кто дал вам право вывихивать мозги ни в чём не повинным рабкорам товарища Павлова? И ещё скажите, что это за идеал такой – косноязычная фраза в два слова, да ещё на каком-то птичьем жаргоне? Позвольте! Минутку!
Исчезает, мчится в свою захламлённую рабочую комнату, возвращается тотчас, потрясая растрёпанной, давным-давно зачитанной книжкой:
– Прошу внимания! Убедительно прошу внимания! Читаем!
И читает, тотчас раскрывая книгу на нужной странице:
– “Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, – когда всё уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задаёт себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, – когда чиновник спешит предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несётся в театр; кто на улицу, определяя его на рассмотренье кое-каких шляпок; кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идёт просто к своему брату в четвёртый или в третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний; словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлёбывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занёсшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади фальконетова монумента, – словом, даже тогда, когда всё стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению...”
Он резко захлопывает любимую книгу, окидывает молодых журналистов гордым взглядом победителя и ловкого фокусника и не без злорадства набрасывается на них:
– Ну как? Дошло? Фразочка из гоголевской “Шинели”. Прошу убедиться: с предлогами, с союзами точно двести девятнадцать честных русских слов – и без никакой такой Сухаревки.
Молодые журналисты обескуражены и молчат. Кто-то тянет, давясь притворной зевотой:
– Ну и в чём же дело, товарищи? Так это же Гоголь! Так это же гений! Товарищ Павлов, а сколько, скажите, Гоголей в вашей пятёрке? Ни одного! Товарищ Булгаков, а сколько, скажите, фраз протяжённостью в двести девятнадцать слов написали вы сами за всё своё литературное житьё-бытьё? Ни одной! Так в чём же, спрашиваю ещё раз, дело, товарищи? И какое отношение имеем мы к Гоголю, а Гоголь к нам? Мы сотрудники массовой газеты, и в этом своём рабочем качестве мы держимся твёрдого, тысячу раз проверенного правила: в газете две короткие фразы всегда лучше одной длинной. Аминь!
Да, тут всё верно, всё справедливо, с такой низменной философией Гоголями не стать, однако же он не сдаётся, наступает на молодые умы:
– Но гоголевская фраза в двести слов – это тоже идеал, причём идеал бесспорный, только с противоположного полюса. Так почему же вы, педагоги на час, не хотите об этом идеале рабкорам сказать? Товарищ Павлов, я протестую! Будете читать рабкорам свои сумасшедшие советы, прочитайте непременно как противоядие Гоголя! Я настаиваю!
Товарищ Павлов улыбается простодушно:
– Это идея! Советы размножу и каждому вместо памятки дам. Ну, а Гоголя прочитаем обязательно вслух. Пусть видят литературное поле в оба конца. А там уж пусть каждый вырабатывает свой собственный стиль, куда потянет его...
Он удаляется. Он глядит на часы: слава богу, убил ещё два часа. Он становится невидимкой. Это значит, что он исчезает.
Глава четвёртая.
ОН ПИШЕТ РОМАН
СКВЕРНЕЙШЕ живётся ему. Всем он чужой, всё чуждо ему.
Все известные признаки гения налицо.
Вы только оглянитесь вокруг. Все воруют так, как не крали, кажется, никогда, а уж чем-чем, а воровством из казны и всяких иных сундуков вечно славилась великая и необоримая Русь. В особенности виртуозно воруют спецы, что уже в высшей степени гадко, так что он лютой ненавистью ненавидит спецов, и когда к кому-нибудь из них попадает по шапочному знакомству в квартиру, набитую гарнитурами, с жирной едой, с непременными золотыми десятками в тайничках, с непременным гаданьем при плотно закрытых дверях, сколько ещё протянут большевики, он, человек до крайности добродушный и мирный, отчего-то видит одну и ту же картину: вдруг звонят, входят в кожаных куртках, делают обыск и увозят хозяина к чёртовой матери, и самое главное, что ему хозяина нисколько не жаль, и он свою накипевшую злость доверяет уже упомянутой “Столице в блокноте”:
“Спец жадно вдохнул запах краски и гордо сказал: “Не угодно ли. Погодите, ещё годик – не узнаете Москвы. Теперь “мы” (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!” К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой “большевистского террора”. Именно: его посадили в Бутырки. За что, совершенно неизвестно. Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное: “Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет! Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) – подлец! Говорит, двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!” Расписки, действительно, нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но теперь уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках...”
Бесхозяйственность страшная. В письмах изумлённых рабкоров со всех концов великой страны такие чудовищные примерчики метелью метут, что волосы дыбом на голове. Не умеют хозяйствовать большевики, не умеют. Однако ГПУ всю эту сплошную и неистребимую бесхозяйственность объясняет миру сознательным вредительством, экономической контрреволюцией всех этих бывших, хотя среди бывших не все же воры, то есть не все же спецы. И понемногу принимаются беспартийных руководителей трестов заменять проверенными большевиками, то есть малограмотными людьми, которые никакого толку ни в каком деле не понимают. Мало того, эти проверенные кем-то большевики в качестве новых руководителей трестов начинают безудержно воровать, почище спецов и как-то хищно, грубей, так что моментально, не успевают глазом моргнуть, как попадают под следствие. Процессы заводятся, судят растратчиков, судят взяточников, судят хапуг, предварительно отобрав у них партбилет, чтобы на победоносную партию, упаси Бог, не ложилось никакого пятна, поскольку честь партии необходимо как зеницу ока беречь, специально имеется параграф в ихнем уставе. И для чего же так безоглядно и жадно воруют эти сукины дети? Страшно подумать, какие низменные, какие животные страсти одолевают этих передовых строителей самого справедливого общества, какого ещё не было в мире: натаскать в дом побольше вещей, которые по разным закоулкам ещё остались от бывших, нажраться в кабаке коньяку и где-нибудь по дороге бабу схватить. И более ничего? И более решительно ничего! Таков у них идеал!
И начинает он прозревать, что мост между прошлым и будущим, точно, наводится, однако не между тем прошлым, из которого вырос он и с которым ни за какие коврижки расстаться не мог, и не тем мечтательным будущим, в котором чисто, светло, о каком человечество мечтает тысячи лет, с того, может быть, дня, как осознало себя, а между тем ненавистным, давно оплёванным прошлым, в котором тоже хватало ворья и жулья, и тем, стало быть, отвратительным будущим, в которое с каждым днём становится глядеть всё страшней, поскольку какое же будущее могут возвести эти бесстыжие люди, у которых в душе не теплится ничего, кроме дикого пламени неукрощённых животных страстей?
И всё чаще в его стремительно возникающих фельетонах слышится Гоголь, Щедрин, всё чаще мелькают, к несчастью, бессмертные, их персонажи. То Хлестаковы и городничие, то мёртвые души, то пошехонцы, то глуповцы, там одна известная фраза мимо воли влетит, там, моргнуть не успеешь, другая. Там целый фельетон сочинится, “Похождения Чичикова”, написанный слишком поспешно, пунктирно, местами необработанность так и лезет в глаза, словом, далеко, далеко не шедевр, однако какое славное буйство фантазии, какая мощь лютой ненависти, какие картины новейшего подлого быта! Эта вот, например:
"... въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет назад выехал. Всё решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы и даже их как-то больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески “гостиница” висел плакат с надписью: “общежитие № такой-то” и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел...”
Или вот эта:
“Уму непостижимо, что он натворил. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошёл пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Коробочка, услышав, что теперь в Москве “всё разрешено”, пожелала недвижимость приобрести; он вошёл в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три дня никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчёт денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина, словом, произвёл чудеса...”
О, боги, боги мои! Когда, когда всё это писалось его ядовитым пером, сколько десятилетий пронеслось над нашими головами железным катком, а всё, как прежде, и писано точно в наши, в последние дни! Скажите же мне, отчего так бессмертна сатира? Больно думать! Больно читать!
И его тревожную душу сокрушает тоска. И всё чаще наползают вопросы, точно драконы о семи головах: ради чего же приключилось всё то, что он никак не может забыть, что его предутренний сон обрывает тоскующим жалобным криком чуть не каждую ночь? Во имя чего же та безвинная кровь пролилась? Из какой надобности поставлено к стенке столько лучших русских людей, которым жить бы да жить и землю своим светлым умом украшать как принцессу?
У него на такие вопросы не находится никакого ответа. Он оглядывается вокруг с каким-то странным блеском в глазах, не пропускает и дня, чтобы в книжную лавку не заглянуть, хватает десятками книги старых и новых писателей, сам читает, печальной Тасе даёт прочитать и видит с недоумением чуть не больным, что решительно нет ничего, ни вопросов таких, ни ответов, поскольку, помилуйте, на что отвечать? В альманахах, в журналах один и тот же десяток имён: Глоба, Зайцев, Новиков, Пришвин, Лидин, Соболь, Зозуля, Пильняк, Леонов, Пастернак, Маяковский, Есенин, ещё кое-кто. Только-то и осталось от великой литературы, так недавно гремевшей на всех перекрёстках провинции и столиц, читавшей с эстрады рефераты, новеллы, стихи?
Странная мысль однажды посещает его: собрать сведения обо всех литераторах. Печатает объявление в Берлине, в Харькове, должно быть, ещё кое-где:
“М.А. Булгаков работает над составлением полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными портретами. Полнота словаря зависит в значительной мере от того, насколько отзовутся сами писатели на эту работу и дадут о себе живые и ценные сведения. Автор просит всех русских писателей во всех городах России и за границей присылать автобиографический материал по адресу: Москва, Б. Садовая, 10, кв. 50, Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Нужны важнейшие хронологические даты, первое появление в печати, влияние крупных старых мастеров и литературных школ и т. д. Желателен материал с живыми штрихами. Особенная просьба к начинающим, о которых почти нет или совсем нет критического или биографического материала. Лица, имеющие о себе критические отзывы, благоволят указать, кем они написаны и где напечатаны. Просьба ко всем журналам и газетам перепечатать это сообщение...”
Отозвались? Соблаговолили? Прислали? Перепечатали? Никаких указаний на этот счёт не имеется, да и отзываться кому?
Он сам ищет встречи то с тем, то с другим. Впечатление остаётся большей частью брезгливое. Простые деревенские парни с таким же простым взглядом на жизнь, с багажом познаний абсолютно невинным, с безоглядным оптимизмом в глазах и в речах:
– Как хорошо и крепко врастаем мы в землю! Как с каждым месяцем лицо меняется у русской земли! И особенно радостно глядеть на деревню, несмотря на всю её дикость и хамство. Она умывается и растёт, тупо, злобно или трогательно-наивно. Город напрасно боится, что деревня слопает революцию, а потом отрыгнётся азиатской деспотией. Не будет того! Старое кончилось! Старая деревня и старые люди деревни умирают во злобе. Туда им и дорога. По-человечески их жалко, так же жалко, как белую эмиграцию, среди которой было много хороших людей, но в рассуждении полезности это умирание нужно и хорошо. На смену им идёт молодёжь.
Чему ж удивляться, что в среде этих простоватых парней бытуют дичайшие нравы. В вопросах литературы, искусства преобладает невежество монгольских степей, как и во всём остальном. Культура погибла. Даже и среди тех её нет, кто взялся её созидать. Марксизм врывается, марксизм топчется на дымящихся развалинах прошлого, прямолинейно и грубо указывает, что должен чувствовать пролетарский писатель, как должен писать и что должен чувствовать и должен читать пролетарский читатель. Сбиваются в какие-то кучи, публикуют платформы, одна куча яростно машет кулаком на другую и капает в ГПУ. Чуть не в один день раздуваются какие-то бесцветные имена, а там глядь, на другой день уже и погасли, вонь осталась одна. И как не погаснуть? В сущности, нечему и гореть. Идеи нет никакой. И где её взять? Взять её негде. Перо берут в руки не для того, чтобы эта идея окрепла и выросла во время писанья, а чёрт знает зачем. Язык вычурный, дёрганый, путаный, почти что не русский. Графоманство плодится. В редакциях бумажного хлама пуды. И самого главного нет: к литературе, к искусству любви, знаний, разумеется, тоже нет никаких, у многих даже обыкновенной честности нет, врут почём зря. Есть ли талант? Талант-то, кажется, есть, да что же талант, когда ни любви, ни культуры, ни честности нет? Талант хорошо, талант превосходная вещь, да ещё надобно правильно направить талант своими руками, иначе любому таланту конец.








