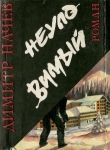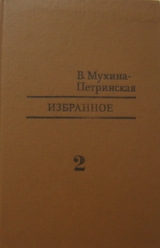
Текст книги "Избранное. Том 2"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Я никогда не увлекалась фантастикой, но я верю, что ты, если захочешь крепко, будешь еще работать на Луне или на Марсе.
Или полетишь в звездном корабле на один из спутников Юпитера. Всему верю, потому что однажды ошиблась в тебе: признаюсь, думала, что ты не выдержишь в Забайкалье, сбежишь.
А ты не только не сбежал, но заслужил в свои семнадцать лет уважение таких людей, как Виринея Егоровна, Кузькин, Алеша, Кирилл Дроздов, Христина и твои товарищи шоферы.
Желаю тебе радости. Пусть сбудется твоя самая заветная мечта!.. Целую крепко, твоя мама».
Славная моя мама, милая антидушечка. С мамой мне повезло. А перед отцом я тоже чувствую себя виноватым. Интересно, чувствуют ли себя виноватыми те, кто не пожелал его признать при жизни?
А вот что писала Маринка:
«Дорогой Андрей! Спасибо за твое доброе письмо. Читаю его и перечитываю. Дала его прочесть и маме, и дяде, и девчонкам. Ведь в письме не было ничего такого особенного, чего нельзя было бы прочесть всем.
Какие там в Зурбагане интересные люди. Хотелось бы мне познакомиться с Кириллом Дроздовым. А сколько лет Таисии Константиновне Тереховой?
Дядя Яша собирается побывать на Байкале, повидать своих друзей, супругов Болдыревых (до чего же он радовался, что они опять вместе!), познакомиться с Кириллом Дроздовым, он его очень заинтересовал. Меня тоже!
У дяди Яши большая радость: выходит собрание сочинений в пяти томах. Он хочет путешествовать и меня с собой возьмет в Зурбаган. И... вдруг я останусь в Зурбагане тренером по фигурному катанию? Там же нужны тренеры, ты сам писал об этом. Буду учить детей фигурному катанию, раз мне самой это уже невозможно...
До свидания, Андрюша, целую, твоя Марина».
Пряча письмо в карман, подумал, что от Маринки станется приехать в Зурбаган. Да смысла ей нет сюда ехать, раз я уезжаю учиться на летчика.
А Маринке что-то грустно... Почему? Милая, славная моя Маринка, я непременно должен ее полюбить! Я выглянул в иллюминатор.
Там внизу под облаками еще клубилась, стлалась темная ночь, а мы в самолете уже видели в иллюминаторы зарю, захватившую полнеба.
Нежные, чистые краски – синие, сиреневые, лиловые, розовые, золотистые, оранжевые, желтые. Еще только рассвет, но какая же насыщенность светом. Какое огромное небо, полное цвета и света. Так бы схватил кисти, краски и нанес бы это все на холст.
По совету мамы я вез с собой краски, кисти, полотна, мои две незаконченные картины (все Байкал), может, будет время поработать.
Я стану летчиком, быть может, даже космонавтом, но всю мою жизнь я буду художником, подобно Алексею Архиповичу Леонову. Два любимых художника есть у меня, у которых я буду очень долго учиться: пейзажист Евгений Никольский (мой родной отец!) и художник-фантаст Андрей Соколов.
До чего же славно, когда ты нашел призвание!
Я не спал ночь, но мне не хотелось спать, я был слишком счастлив. И еще я думал, что, куда бы ни забросила меня судьба, я никогда не смогу заблудиться, потому что отныне всегда буду слышать позывные Зурбагана, чистые, нежные, влекущие, торжественные, прекрасные, как утренняя заря над Байкалом, и они мне укажут путь.
Глава четырнадцатая, неожиданная
СВЕТ И ЦВЕТ
(Обретение себя)
Вот бы и поставить на этом точку: как я лечу через Байкал на самолете, чтобы стать летчиком, а может, и космонавтом. Такой счастливый, что нашел свое призвание – небо. Летать в самое небо, жадно всматриваться в его краски, чтоб перенести на холст это чудо. Но когда я вспоминал, что из кабины управления современного самолета не увидишь неба, а только сложные приборы, меня передергивало. Я отгонял эти мысли, как мух.
В Иркутск мы прибыли рано утром... Утро, как известно, мудренее вечера, но это утро было самое мудрое и... самое холодное. Утро отрезвления, будто меня обливали ледяной водой...
А тут еще Виталий... В Иркутске на него напал страх. Он боялся отойти от меня, как маленький, который боится потерять в толпе маму.
– Ты меня не бросай, Андрюша,– лепетал этот рослый, красивый парень,– ты меня хоть в самолет посади.
Но по дороге на аэродром начал убеждать проводить его до Москвы.
– Подумай, Марину свою увидишь! – соблазнял он меня.– А по Москве разве не соскучился? Это же твоя родина...
– У меня же послезавтра начало занятий!
– Каких еще занятий?
– Ты что, с луны свалился? Не знаешь, что я курсант летного училища?
– Нет, это ты свалился, откуда уж не знаю. Ни с того ни с сего – летчик! Ты же художник! Ну, посмотри на себя со стороны. Собрался в летное училище. Кто ж так снаряжается в летное? Это мольберт, да? А эта штука для чего?
– Тубус это, там этюды, картины...
– Ага. А это что – дипломат, что ли?
– Этюдник! – заорал я.
– Если там умные люди, попрут они сдавать тебя в художественный, понял? Художник ты. В Москву надо.
– Иди к черту! Там меня ждут не дождутся, в художественном. Как же!.. И... поздно уже. У меня здесь документы. Приняли меня. Понимаешь, приняли! Назад хода нет.
– Ерунда, а если был ошибочный ход?
– Ну тебя!
Он убеждал меня всю дорогу и так разбередил душу, что хоть плачь.
На аэродром мы приехали рано и, позавтракав, устроились в зале ожидания в уютном уголке, где уже сидел красивый сероглазый мужчина лет за шестьдесят, гладко выбритый, в модном, явно зарубежном костюме. Багаж почти как у меня... чемоданчик, правда, подороже, из настоящей кожи, мольберт, тубус, этюдник через плечо.
Я сразу уставился на него, раздумывая и не решаясь заговорить. Он, кажется, тоже не прочь был поговорить. Первым осмелился Виталий:
– Простите, вы художник?
Незнакомец представился: художник Михаил Михайлович Протасов, москвич, но родом из Иркутской области. Регулярно ездит навещать мать и сестру-агронома, а также писать этюды. Сейчас работает над серией портретов: «Сибиряки конца двадцатого века».
– Молодой человек тоже художник? – любезно поинтересовался он мною, кивнув на мольберт.
Тоже, как вам это понравится! До чего славный!
– Я не художник, я курсант летного училища. Еду на занятия.
– А это? – снова кивнул он на этюдник и прочее.
– Это... просто я уже не могу не писать, вот и взял с собой. Виталий вертелся, будто сидел на раскаленной сковороде, и с ходу выпалил Протасову всю мою биографию, не зажмешь ведь ему рот.
Михаил Михайлович посмотрел на часы.
– Покажи, пожалуйста, свои работы,– обратился он ко мне.
– Да они не закончены...
– Ничего, покажи наброски.
Что поделаешь, откровенно говоря, мне было любопытно, что скажет этот столичный художник, специалист.
Особенно Протасова поразила картина «Байкал священный». Байкал с высоты... Помните, я стоял на краю высоченного обрыва и впервые понял, почему Байкал в народе называли священным. Как я был тогда душевно потрясен, и как мне потом отчаянно хотелось перенести на холст это пронзившее меня ощущение тайны и благоговения.
– Ну, парень...– сказал художник.– Да у тебя же талант божьей милостью, как говаривали в старину наши учителя. Думаю, нет, уверен, что твоя встреча с Байкалом была для тебя редкой удачей, которая может обернуться творческим счастьем. А теперь познакомимся вплотную...– Он назвал училище, в котором вел отделение живописи. И заявил, что он меня не отпустит, заберет в Москву, билеты возьмем на ночной рейс.
– Но меня приняли в летное... неловко.
– Я сам объясню им все и заберу твои документы.
И так как я еще мялся в нерешительности, Протасов спокойно и веско сказал:
– Искусство требует человека целиком. Ни с кем делить его не любит. И самый большой грех – зарыть свой талант в землю. Пошли, ребята, пора.
Так я не стал ни летчиком, ни космонавтом, потому что меня приняли на отделение живописи.
Мама ожидала от меня телеграмму из летной школы, вместо того получила из Москвы. Представляю, как она всплескивала руками и кричала: «Это, конечно, очень хорошо, что он будет художником, он же так талантлив, но... так молниеносно принимать решения?! Нет бы сесть, подумать, посоветоваться... Легкость в мыслях необыкновенная. Ну и жук!»
Виталий восстановился на третьем курсе.
Был я, конечно, у Марины, уже на Кутузовском проспекте: ее родители вернулись из дальнего плавания. Маринка готовится к поступлению в университет на биологический. Хочет стать генетиком.
Но у Маринки я был уже потом. Первым долгом я навестил жену своего покойного отца художника Никольского. Жил Никольский на набережной Мориса Тореза, на пятом этаже. Из окон было видно небо, Москву-реку, в которой отражались небо и Кремль – его каменные стены, древние храмы и темно-зеленые деревья.
Квартира была двухкомнатной: большую угловую комнату с балконом занимал когда-то Никольский. Все сохранилось, как при нем,– и это была мастерская.
– Он здесь и жил и работал? – удивился я.
– Дали ему мастерскую, одну на двоих, но напарник мешал ему работать: чересчур говорливый был... Выпьешь кофе?
– Спасибо. С удовольствием.– За кофе Мартина Яновна сказала, запинаясь:
– Тебе до сих пор не сообщили... Евгений Сергеевич ведь был... твоим отцом.
– Я знаю, теперь уже знаю. Жаль, что мне не сказали раньше. А я ведь поступил учиться в художественное... Отделение живописи. Он был бы доволен, мой отец.
– Да, он очень бы обрадовался. И я рада. Будет два художника, отец и сын, как два Рериха – Николай Рерих и Святослав Рерих. Если бы ты еще его фамилию взял... как псевдоним. Художники тоже иногда берут псевдонимы, как и артисты.
– Подумаю,– сказал я, чтобы не обидеть ее.
– Эти все картины твои, Андрюша, все этюды, и краски, и кисти. Все – твое. Я предлагала Ксении Филипповне, но она отказалась наотрез, квартиру, мол, захламлять...
– Теперь у мамы большая квартира. Я возьму все, что отец хотел мне оставить. А вы отберите все, что вам дорого.
Когда я собрался уходить, Мартина Яновна несмело произнесла:
– Ты будешь меня навещать иногда? Я совсем одна осталась. Я тебе много расскажу о твоем отце.
– Спасибо. Я буду к вам заходить.
Я шел домой по опустевшей Москве – было уже поздно, кончились последние, сеансы в кино – и думал о маме, об Андрее Николаевиче, Алеше, Христине, Тасе, Дроздове, Кузькине, моих приятелях-шоферах, с кем я работал целый год.
На первую же практику я поеду в Зурбаган. Протасов обещал мне это твердо. Он сказал: «Каждую практику будешь ездить на Байкал, ты с ним связан духовно».
А когда будут осваивать Марс (или Луну) – художники ведь тоже понадобятся. В двадцать первом веке без них никак не обойдутся!..
...Время летит, о как стремительно, словно космический корабль. Уже разменяли последнее десятилетие XX века...
Мы живем по-прежнему вдвоем с мамой. Мама уже давно закончила свой документальный фильм. Он выходит на экраны. А сейчас она рвется поставить художественный фильм на тему освоения Сибири.
Отец обещал, еще в позапрошлом году, что переедет в Москву вслед за мамой, но... Видимо, не в силах расстаться со своим НИИ «Проблемы Севера», уж очень интересные разворачиваются там работы.
А я заканчиваю институт... С отличием. Моя дипломная работа «Утро Зурбагана» вместе с двумя картинами (как ни странно, ведь я тогда еще не был художником, среди них моя первая картина «Байкал священный»). Практику я всегда проходил в Зурбагане.
В этот вечер Марина была у нас. Я угостил ее вкусными пончиками собственного изготовления (научился у Алеши).
Утром мы с Мариной отнесли заявление в загс и теперь с азартом строили планы на будущее.
Мама, красивая, элегантная, молодая, не без грусти смотрела на нас.
Все-таки я не пойму, где вы собираетесь работать? – спросила мама.
– Марина – в НИИ «Проблемы Севера», генетиком в отделе Христины Даль, а я хочу написать серию картин о Забайкалье.
– Но это не оплачивается, насколько мне известно. Конечно, мы всегда согласны тебе помочь материально, но при твоей гордыне...
– Понимаю, мама, тебя беспокоит мой денежный заработок. Конечно, над этой серией я могу работать и два, и три года. Ни на чьем иждивении я жить не собираюсь. Могу работать художником в театре, учителем рисования, дизайнером.
В тот вечер мы еще не знали, что ректорат института добьется мне заказа на серию картин о Байкале.
Марина с тревогой смотрела на меня, ей очень хотелось сказать: «Подумаешь, в случае чего проживем на мою зарплату», но она не посмела. С детства я привык читать ее мысли по глазам как по книге.
– Андрей,– спросила Марина,– а где та запись на кассете – «Позывные Зурбагана»? Я давно ее не слушала.
– Она в секретере. Вот.
– Поставь, пожалуйста.
Я поставил кассету, включил магнитофон и сел возле мамы. Марина стояла у магнитофона, хрупкая, тоненькая, с огромными синими, необычайно светлыми глазами, как у ее матери и дяди.
Вот она эта потрясающая мелодия... Одна музыкальная фраза и так много вместила в себя: щемящую грусть, ликование радости, торжественность и торжество. Воистину Байкал Священный.
Мы долго молчали.
– О чем ты думаешь? – тихо спросила Марина.
– О своем родном отце... Пора упаковывать картины, утром отравлять на выставку.
Я положил их на письменный стол, взял одну из них, это была «Река Ыйдыга». Подошла мама. Нагнулась и прочла подпись в углу картины: А. Болдырев-Никольский. Она пристально посмотрела на меня и перевела взгляд на другие картины.
– Так! – произнесла она гневно,– значит, ты теперь Никольский. Взял его фамилию.
– Отцу это было бы приятно,– смущенно ответил я. Мама задохнулась от негодования, но больше ничего не сказала.
Мы с Мариной быстро упаковали холсты и вышли на балкон. Было прохладно. Я сбегал за маминой шалью и укутал Марину. Мы стояли обнявшись и смотрели на спокойную Москву-реку. На черной глади отражались звезды, изредка плыли какие-то баржи, катера.
По набережной с шуршанием пробегали автомобили. Шум города доносился все тише, ночью Москва затихала. Как я люблю Москву, мой родной город, горячо и преданно.
Но отчего же позывные Зурбагана звучат для меня так громко, так призывно, не давая покоя моей душе.
ПЛАНЕТА ХАРИС
(РОМАН)


Планета Харис

1
Дорога, совсем безлюдная, желтела на солнце внизу косогора, повторяя все изгибы Волги, а затем скрывалась в тени дубовой рощицы. До Рождественского оставалось не более полутора километров.
Немного удивляясь себе – неужели уж так захотелось спать почти возле дома,– Рената подняла свой рюкзак, довольно тяжелый, перекинула потертые ремни через плечи и стала спускаться к дороге.
Все же она была озадачена тем, что совсем не помнила, когда это она взобралась на косогор поспать. И какой странный сон снился ей сейчас... какой-то туманный фиолетовый шар, чьи-то огромные выпуклые глаза, плотное облако, опутавшее ее, ощущение ужаса от чьих-то слабых, щекочущих прикосновений. Приснится же такое?! Начиталась Уэллса. Отец ждет от нее телеграмму, чтоб встретить на станции, а она уже здесь, раньше, чем предполагалось.
Рената ускорила шаги. Ей не терпелось попасть домой, увидеть отца, сельского учителя, которого она не видела с марта. Тогда она все же выбралась домой денька на три, чтоб испечь отцу на масленицу блинов, которые он очень любил.
Ренате было чем порадовать отца. Она блестяще выдержала выпускные экзамены в сельскохозяйственной академии, уже не Петровской, а Тимирязевской, и получила звание агронома.
Ее статью в «Трудах по прикладной ботанике» заметил сам Николай Иванович Вавилов и написал ей такое хорошее, доброе письмо, что у нее дух захватило.
Вавилов организовывал в Ленинграде Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур – научный центр мирового масштаба. Под Ленинградом, на Кавказе, Кубани, в Воронеже ученым передаются опытные станции – тысячи десятин отличной земли, где можно развернуть селекционную, генетическую, интродукционную работу. И Вавилов предлагал ей, девчонке только что со студенческой скамьи, работать вместе с ним. И все только потому, что он нашел ее статью «столь серьезной, глубокой и эрудированной».
«Я долго не мог поверить, что такая статья написана студенткой,– писал он ей.– Если вы не растеряете своей веры в науку, в людей, в свое призвание, вы станете крупным ученым. Я верю в вас!»
А профессор Прянишников, любимой ученицей которого она была, оставлял ее при кафедре земледелия.
Однако Рената отказалась от всех блестящих предложений. Ее интересовало лишь одно: самое принципиальное переустройство русского земледелия на основах науки. И она хотела быть там, где развернется битва за науку земледелия,– в деревне... А раз в деревне, то в родном Рождественском. Скрепя сердце академик отпустил ее.
Рената шла по дороге и читала наизусть свое последнее стихотворение. Она писала стихи, и это была ее дорогая тайна.
И запахи Земли, и рои почек клейких,
И город, затопленный синевой...
Студенты с книжками... на парковой скамейке
Зубрят к экзаменам среди зеленых хвои.
Фиалки на углах, гудки такси блестящих.
Воркуют голуби под крышею крутой.
И гроздья пышные шаров летящих –
пунцовый,
желтый,
красный,
голубой.
И чей-то смех, игра детей на тротуаре,
И рокот самолета в небесах.
И сводки радио вслед за мажором арий.
И улиц караван плывет на парусах.
А там, где у реки, от пут освобожденной,
Ремонтных мастерских и труб ревущих строй,
Там в доках солнечных, в лесах нагроможденных
Теснятся корабли и словно рвутся в бой.
Апрель... и дни летят,
Как жаворонки к солнцу...
Дубовая роща встретила ее прохладой и тенью – рукотворная дубрава, созданная отцом и его учениками. Под ногами шуршали опавшие листья. Рената перестала декламировать и замедлила шаг. Потом и совсем остановилась в недоумении. Стало очень тихо, только где-то рядом невидимый ручеек журчал в ложбине. Но... здесь должен быть глубокий, заросший осинником, бурьяном и крапивой овраг. Оврага не было. А дубы почему-то были старые, чуть ли не столетние.
В марте, когда она приезжала на побывку домой, деревья стояли совсем тонкие. А теперь эти слабенькие дубки превратились в мощные дубы.
Что-то было не так... Озадаченная девушка провела рукой по серой шероховатой коре. Кора была теплая на ощупь, живая. Стройные мощные стволы, словно колонны, поднимались ввысь, густые раскидистые кроны заслоняли небо.
– Это не наши дубки,– в раздумье произнесла Рената и пошла, все ускоряя и ускоряя шаг.
Она вздохнула с облегчением, выйдя из заколдованной рощи. Опять пошли ржаные поля.
«Как пустынна дорога,– подумала Рената,– куда все подевались? Время жатвы, а никого нет в поле».
Рената обрадовалась, увидев на ржаном поле работающую машину,– она двигалась без помощи трактора. Самоходный комбайн? Не похоже. Красивая машина! Среди золотистой ржи она словно гигантская птица с одним крылом. Нет, на птицу она похожа лишь издалека. Солнце сверкало и искрилось на стекле и стали. И еще какой-то металл, матовый, зеленоватый. Или это не металл...
К непонятной машине направлялись один за другим новые, как с конвейера, грузовики – тоже какие-то странные – и отходили, груженные до краев зерном. Рената, улыбаясь, подошла ближе. Ей хотелось рассмотреть это чудо техники, окруженное облаком пыли и половы.
Машина шла на невиданной скорости. Едва успевали подходить грузовики – один за одним, через равные короткие интервалы – и забирать чистое провеянное зерно и пахучую солому. То зерно, то солому...
Окутанная кружащейся в воздухе половой, пышущая теплом машина прошла почти бесшумно мимо девушки. Мотовило захватывало и пригибало колосья, серебристые ножи хедера врезались со свистом в стебли, откусывая их под самый корень.
Но... за штурвалом никого не было. Машина работала сама, без человека. Рената попятилась. Мимо нее прошелестел, не касаясь земли, груженный зерном странной вытянутой формы «грузовик». В его кабине тоже никого не было.
«Я сплю,– поняла Рената,– опять странный, непонятный сон. Может, я еще в вагоне поезда и сплю? А может, заснула у дороги под кустами шиповника и еще не проснулась».
Но Рената знала, что она не спит. Она вдруг стремительно нагнулась и сорвала пучок колосьев. Каждый из них был тяжел л тучен – не бывает в природе таких огромных колосьев.
А жатва продолжалась вокруг нее – безлюдная, нереальная, стремительная, как полет.
Пыль, треск, обжигающее солнце, запах хлебов, никнущие тяжелые колосья, призрачные машины, золотое зерно. И на всем поле, от горизонта до горизонта, ни одного человека – только эти машины.
Рената бежала по дороге и кричала.
Рождественское, как всегда, предстало неожиданно, едва она поднялась на пологую гору Иванову могилу.
Девушка остановилась перевести дыхание. Голубоватые уступы Приволжской возвышенности поднимались к облакам, словно гигантские ступени. Ветер качал кустарники и травы. Рената пристально разглядывала родное село. Вместо привычных тесовых сереньких и соломенных грязно-желтых крыш какие-то совсем другие – даже не шиферные, а гладкие, блестящие, красивые, желтые, синие, зеленые крыши, окруженные купами деревьев. Сплошные сады и парки. Нет, это не Рождественское. Там в последние годы сады пропали, а парков отродясь не было. Но ведь сегодня утром она сошла на станции Коростыли, что в трех километрах от Рождественского, а на станции все было по-прежнему. К тому же она встретила соседку тетю Анюту, которая ехала в город забитого бычка продавать, и она сказала, что отец ждет телеграмму. Что же это? Чувствуя, что ноги у нее стали словно ватные, Рената сделала над собой колоссальное усилие и мужественно пошла навстречу непонятному.
Возле речонки Лесовки, впадающей в Волгу, играли дети, и Рената несколько успокоилась.
– Какое это село? – спросила она, вглядываясь в незнакомых ребят.
– Рождественское! – хором ответили ребята. Они тоже с любопытством разглядывали Ренату. И когда она, уходя, оглянулась, они все смотрели ей вслед молча, недоверчиво и как-то удивленно.
«Вдруг нашего дома не будет,– подумала Рената, опять ускоряя шаг.– И, о господи, отца не будет?!.»
Задыхаясь, чуть не плача, блуждала Рената по улицам – совсем другие дома, и в них другие люди, чужие и незнакомые и на крестьян-то не похожие, дачники, что ли? Они же все городские.
Мимо Ренаты прошло уже несколько человек, но она не решилась спросить их. Они с отцом жили при школе. Старая, еще земская, школа, двухэтажная, из красного кирпича, с красноватой черепичной крышей... А во дворе сарай под такой же черепичной крышей. Куда же делся этот дом и как могло так измениться село? Потрясенная, близкая к отчаянию, искала Рената свой дом, где она родилась и выросла, но его нигде не было. Все дома другие, и жили там совсем не знавшие ее люди.
И все-таки дом был! Его так перестроили и перекрасили, что сразу не узнать. Но Рената нашла и узнала. Это был он – дом ее детства. И сарай тот самый, и груша-дичок, на которую она так часто залезала. Дерево стало еще выше, еще толще. Рената стояла у порога раскрытой двери и боялась войти. Сердце бешено колотилось.
Ее заметили, и навстречу ей вышел загорелый, светлоглазый мальчуган с русыми, выгоревшими на солнце волосами.
– Вам, наверно, маму? – спросил он вежливо. Он хотел сказать, что мамы нет дома, но, заметив, что незнакомая девушка расстроена и даже напугана чем-то, мальчик радушно пригласил ее войти.
Рената вошла и села – у нее подкашивались ноги. Рюкзак она сняла и опустила рядом на пол, покрытый какими-то гладкими, зеленоватыми плитами.
В этой самой комнате у Петровых была столовая. Посредине стоял круглый стол, покрытый белой скатертью. Вдоль стен – застекленные шкафы с книгами, старомодный диван, обитый заново, глубокое кресло, в котором любил отдыхать Михаил Михайлович, пока дочка читала ему вслух стихи Тютчева, Фета или Есенина. В углу на столике стоял граммофон, похожий на огромный синий цветок вьюна. А в простенке между окон стояло трюмо. На стенах в солидных багетах висели репродукции с картин Левитана и Николая Рериха. И одни подлинник – гордость старого учителя – пейзаж Коровина. И еще – портрет матери, выполненный акварелью одним заезжим художником.
Ничего этого не было. Совсем другие вещи – другого облика, а вместо граммофона в углу стоял на ножках лакированный ящик с матовым экраном непонятного назначения. Вместо стульев были маленькие разноцветные кресла, очень мягкие и упругие.
Пол застилал пушистый лиловый с серым ковер. На стене ни одной картины, только портрет молодого человека (в странном одеянии) с лицом красивым и добрым и с той же характерной черточкой между носом и губой, как у мальчугана, стоявшего возле Ренаты.
– Это твой брат? – кивнула она на портрет.
– Я его младший брат,– с гордостью подтвердил мальчик, и, вдруг поняв, что до гостьи «не доходит», кто на портрете, он с наигранной простотой пояснил: – Это ведь Кирилл Мальшет.– И опять мальчик почувствовал, что гостья не поняла.– Тот самый Мальшет, космонавт, который сейчас на Луне,– пояснил он, все более удивляясь.
– На Луне...– слабо усмехнулась Рената,—это хорошо, что ты такой фантазер.
– Как фантазер?! – вскричал мальчик.– Он работает в Лунной обсерватории в заливе Радуг, но разве вы об этом не слышали?
– Нет, мальчик,– неуверенно произнесла Рената.
– Но об этом весь Мир знает. Как странно... А меня зовут Юрой. В честь Юрия Гагарина.
– А кто такой Гагарин?
Мальчик широко раскрыл глаза, озадаченный сверх меры.
– Тот самый Гагарин... Первый космонавт. Вы не знаете, кто такой Гагарин? Откуда же вы приехали... разве есть такой уголок...
Юра подошел ближе и смотрел на нее, все более и более удивляясь. Какая-то странная! И одета не так, как все... Какое короткое платье, как у маленькой, чтоб не падала.
– Откуда вы? – повторил он настойчиво.
– Из Москвы. Я приехала домой, к отцу. Мы живем... жили вот в этом самом доме. Но я не могу ничего узнать. Если это – Рождественское, то где мой отец?
– Кто ваш отец, я всех здесь знаю?! У Ренаты задрожали губы.
– Он директор Рождественской семилетней школы – Михаил Михайлович Петров. Где он? Ты его знаешь?
– Я... не могу... его знать,—задохнувшись, ответил Юра.– Но я о нем слышал. От дедушки. Это дедушкин учитель. Дедушка помнил его всю жизнь. Вы дочь... У него была только одна дочь... Ох!..
– Я его единственная дочь.
– Значит, вы... Рената!
– Да, конечно.
Рената стремительно поднялась.
– Где же папа? И как это все понять?-Что с тобой? Мальчик пятился назад. Он заметно побледнел. Даже губы побледнели. Очень он испугался, но одновременно был в полном восторге.
– Значит, вы все-таки пришли! – произнес он торжественно и ликующе.– Вот дедушка обрадуется. Он всегда мне говорил: «Если бы Рената пришла еще раз, все было бы по-другому. Уж теперь я не дал бы ее обидеть. Эх, кабы человек мог прийти еще раз! Начать все снова, чтоб можно было вести себя с ним иначе. Чтоб попросить у него прощения». Вот вы и пришли!
– Я ничего не понимаю,– жалобно проговорила Рената, изо всех сил сдерживая подступающие слезы.– А кто твой дедушка?
– Николай Протасович Симонов. Вы ведь знаете его.
– Нет, Юра.
– Но вы дружили в детстве. Вы же вместе учились в школе... пока вы не уехали в Москву, а он пошел на курсы трактористов.
Юра взял ее за руку и крепко по-мальчишески сжал.
– Вы пришли. Он вас дождался. Вы встретитесь... Не старайтесь понять сейчас. Я вам все объясню потом, когда вы успокоитесь.
Юрий мельком взглянул в окно. Лицо его стало напряженным. Вдоль канала быстро и энергично шагала высокая худощавая женщина в коричневом строгом платье.
– Идет мама. Не говорите ей, пожалуйста, что вы из тридцать второго года. Она никогда не поверит, что вы пришли еще раз.
– Что же я ей скажу?
– Тогда молчите.
Женщина вошла в дом. У нее было сухое властное лицо, гладко причесанные прямые черные волосы. Такие прически носили и сто лет назад. Женщина вопросительно взглянула на Ренату.
– Вы ко мне?
– Нет, мама, она ищет дедушку,– быстро вмешался Юра,– я сейчас провожу ее.
– Дедушку?
– Пойдемте же! – Юра торопливо поднял рюкзак.
– Спасибо.– Рената кивнула этой холодной неприветливой женщине и направилась за мальчуганом, но та остановила ее.
– Я директор школы, Наталья Николаевна Симонова. Николай Протасович мой отец. Зачем он вам?
– Я никого здесь не знаю, кроме него,– грустно пояснила Рената.
– Простите, ваше имя?
– Рената Михайловна Петрова.
– Пошли же! – взволнованно заторопил Юра. Мать с подозрением взглянула на сынишку.
– Юра, проводи и сейчас же домой! – крикнула она ему вдогонку и, удивляясь, призадумалась. Бывают же такие совпадения: тезка и однофамилица сразу... «Но почему же так похожа? Эта фотография, что висит у отца над столом... гм!»
Девушка и мальчик шли протоптанной тропинкой вдоль канала. Солнце уже перешло зенит. Оглушительно трещали цикады. Из разросшихся кустов жимолости шарахались, когда они подходили, синички и горихвостки. Где-то деловито и привычно стучал дятел. Самозабвенно куковала кукушка. В небе собирались огромные кучевые облака, тень от них медленно скользила по земле.
День как день.
Они прошли мимо насосной станции, полускрытой высокими грушами; через другой канал, параллельный первому, через мостик.
– Та Рената... Она уже умерла?
– Давно. Меня еще на свете не было. Она прожила на свете тридцать девять лет. Дедушка рассказывал, что ее не очень любили...
– За что? За что ее не любили?
– За то, что она была на них непохожа.
– Разве можно за это...
– Она смела быть непохожей, это некоторых раздражает,– мудро, как взрослый, ответил мальчик.
Они подошли к большому саду. За низкой изгородью качались на ветру липы, ивы, клены, акация, яблони. Яблоки уже зрели и падали.
– Это – пасека,– пояснил Юра,– дедушка уже не механизатор. Он перешел на пасеку, когда привезли новую установку... Ну, стали управлять на расстоянии сельскими машинами.
– Я видела.
– Тогда дедушка ушел работать на пчельник. Меду сколько угодно и синтетического, но большинство, знаете, предпочитают все же натуральный, как и мясо, как и яйца. Вы посидите здесь... только, пожалуйста, подождите. Вы не исчезнете? Посидите, а я его подготовлю. Он ведь старенький и может испугаться. Ладно?
– Я подожду. Куда же я уйду?
Мальчик торопливо ушел, а Рената села на землю у самой воды. Лесовка. теперь стала многоводной. А может, это один из каналов искусственного орошения. Везде шлюзы и шлюзы, а в них шумит вода. Сейчас она увидит Николая, с которым вместе бегали в школу и который уже состарился. Наверное, совсем древний старик. А отца она уже не увидит никогда. Самое тяжелое, что она никогда не увидит отца. Но почему с ней случилось такое и как это объяснить? Ведь должно же быть какое-то объяснение?
Она ушла в свои мысли. Потом подняла голову и поспешно вскочила. Перед ней стоял крепкий высокий старик, гладко выбритый, в рубашке с короткими рукавами, обнажившими мускулистые, смуглые руки.
Синие, еще яркие глаза смотрели на нее с восторгом и ужасом. По выдубленным временем щекам вдруг покатились крупные слезы.