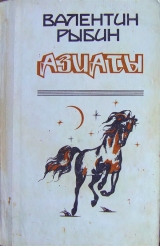
Текст книги "Азиаты"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Нам, русским, не надобен хлеб, мы друг друга едим и с того сыты бываем…
Меткая шутка пришлась по душе всем…
IX
Остаток зимы Волынский прожил в Москве, а с наступлением судоходства двинулся на стругах в Казань Плыл с почестями мимо городов и деревень, сопровождаемый купцами и чиновниками. Со струг губернатора звенела музыка и слышались весёлые голоса подвыпившей компании. В деревнях и больших сёлах, зная наперёд, кто и с кем едет, старосты заставляли церковных служителей звонить в колокола. Кое-где на берег выходили хоры, славя будущего заступника и спасателя. В Чебоксарах на пристани Волынского встречал здешний воевода Алексей Заборовский, окружённый несметной толпой местных господ и диковатых черемисов. Здесь тоже звонили колокола, но Волынскому показалось этого мало. Рыкнул он на воеводу:
– Что, аль пороху у тебя мало?! Или пушки а неисправности?! Мог бы устроить пальбу в честь моего приезда – не каждый день губернаторов встречаешь!
– И порох, и пушки есть, господин генерал-майор, да только сообразительности не хватает… Оплошал, виноват, сейчас исправлю ошибку! Эй, гвардия, а ну заряжай пушки да поприветствуем как надобно нашего отца и кормильца!
Солдаты бросились к двум пушкам, стали набивать стволы порохом. Старались на славу. К пушкам сбежалась толпа черемисов, лезли окаянные друг другу на плечи, чтобы увидеть, как заряжаются пушки. Волынский тем временем, сопровождаемый господами, направился в церковь отслужить обедню. Шёл важно, косясь на стены и купола храма божьего, и при каждом новом шаге ждал: вот сейчас загремят в честь его приезда черемисские пушчонки. Он уже подходил к царским воротам, когда раздался оглушающий взрыв, а затем понеслись людские вопли:
– Побило! Побило! – закричали мальчишки. – Всех одним махом!
Губернатор вошёл в церковь и только гут велел немедля позвать батюшку:
– Что там за шум с плачем? – спросил у попа.
– Так разорвало пушчонку, – так же тихо отвечал батюшка. – Пятнадцать душ как ни бывало, иных на куски разнесло. Самоих пушкарей и черемисов с ними. Кажись, и сам воевода смерть принял.
– Плохое предзнаменование, – сконфузился Волынский. – Ещё и до Казани не доплыл, а уже смерти навстречу мне вышла.
Обедня не состоялась: поп отправился к месту происшествия, Волынский не стал ждать его, спустился со своей компанией к берегу и сел на корабль. Едва отчалили от пристани, он предложил господам:
– Выпьем за упокой души убиенных. Не плакать же нам по каким-то вшивым черемисам. Они как мухи дохнут. Сегодня от взорванной пушки, завтра от какой-нибудь холеры… Иное дело воевода, жаль человека…
Большой церемонией встречала нового губернатора Казань. Тут тоже палили пушки и звенели колокола, тысячи горожан вышли к Волге. У Волынского от гордости наворачивались слёзы на глаза, и он украдкой утирал их рукавом генеральского мундира. О назначении нового губернатора казанские власти знали с зимы. За три месяца был подготовлен для него старый дом воеводы, а на окраине города отстроена заново летняя усадьба. Десятки слуг в диковинных одеждах стояли во дворе, когда губернатор шёл в свой дом, разглядывая портик и массивные дубовые двери. Не глядя на слуг, думал с презрением: «Этих оставь при себе, так и не узнаешь, отчего помрёшь. То ли от яда, то ли от ножа. Хари – одна другой хитрее… Гайдуки что-то задерживаются, небось, жалко Астрахань оставлять».
День-другой губернатор отдыхал, а затем устроил приём для высших губернских чинов и генералов, чьи полки располагались в Казани. Обед проходил непринуждённо, но, захмелев, Артемий Петрович пригрозил, что править будет жёстко, поскольку Казань, как и все другие юрода матушки России, не блещет порядком. Спьяну начал Волынский пересказывать свои «рассуждения». И уже с первых слов обидел господ, назвав их своими холопами. Секретарь духовного приказа Осип Судовников возьми да и скажи, что, слава Богу, род его идёт от бояр именитых, так что называть его холопом, как и других господ, со стороны губернатора несправедливо. Чуть дрогнули губы Волынского в мстительной улыбке:
– Я ведь, господин, как там вас, дважды не повторяюсь: сказал холопы, значит, холопы. И вы будете таковыми, ибо Казань отдана мне матушкой-государыней пожизненно, в аренду… Извольте жить по-моему. Прежде всего, повелеваю жить так, чтобы расходы не превосходили доходов, тогда и соблазнов не станет грабить бедноту… Прикажем также видным дворянам и канцелярским служителям носить платье победнее и ограничить их расточительства. Запретим и купцам нашим вступать с иноземными негоциантами в торговые кампании, и учредим во всех городах магистраты, как было прежде.
Разошёлся Артемий Петрович, гости его насупились и очи долу опустили. С трудом дождались окончания обеда. Расходились молча, кланялись на прощанье, только Осип Судовников нарочно задержался, чтобы ещё раз сказать губернатору о своём боярском происхождении. Осип и без того был человеком смелым, а тут ещё хмель в голове и отвага в сердце.
– Позвольте мне, ваше высокопревосходительство…
– Чего тебе, холоп?! – рыкнул Волынский. – Или выпил мало! Вася, налей ему ещё, – приказал Кубанцу,
Мажордом подморгнул гайдукам, те бросились к четверти, налили в литровую кружку. Осип закуражился, отмахиваться стал, понимая, что от такой порции можно умереть. Тогда Волынский выпроводил его за порог и закатил такую оплеуху, что представитель старого боярского рода отлетел на несколько саженей, едва не задев головой за последнюю ступень губернаторского подъезда.
– Борзых на него! – прорычал губернатор и тут увидел женщину лет сорока, которая стояла через дорогу и с любопытством разглядывала губернатора. Вмиг забыв о Судовникове, Волынский вперил взгляд в неё: – Тебе чего надобно, баба?
– Да вот пришла взглянуть на сынка Петра Артемьевича, бывшего нашего воеводы, да кажись пришла не ко времени…
– Поди сюда… Ты знала моего батюшку?
– А как же, родимый ты наш заступничек! Пётр Артемьевич не раз у меня бывал, и за стол не брезговал садиться.
– Спал с тобой мой батюшка? Ну, говори… Молчишь… А я и без тебя знаю, что спал, потому как такую красотку не мог он оставить без внимания. – Волынского качало из стороны в сторону от выпитого, и он еле держался на ногах.
Гайдуки, видя, что губернатор сильно подвыпивши и может навлечь на себя сплетни со стороны казанских обывателей, ввели словоохотливую даму в дом и усадили за стол. Волынский последовал за ней:
– Кто ты, каких кровей? Батюшка мой разборчив был в бабах…
– Вдова я… Муж имел звание капитанское, да представился лет десять тому назад. Дочка у меня от него…
– А сколько годков дочке?
– Осьмнадцатый пошёл. Скоро замуж отдам, сваты уже наведывались.
– Н-да… – Волынский сглотнул слюну и облизал сухие губы. – А живёшь далеко ли?
– Да тут же, через дорогу. Как протрезвеете, так и заходите.
– Подлая баба, – оскорбился Волынский. – Ты что, не видишь, с кем разговариваешь?! Где это видано, чтобы губернаторы по обывательским домам лазили! Убирайся прочь…
– Спасибо, ваш высокопревосходительство, и на этом. – Женщина встала и торопливо удалилась.
Волынского раздели и уложили спать. Проснулся он среди ночи как и в былые времена от тоски и сухости во рту. Гайдуки принесли ему квасу. Отпив из кружки освежающий напиток, губернатор вспомнил о вчерашней вдове и спросил:
– Как зовут даму, которая тут была?
Гайдуки отвечали, что знать не знают, но если потребуется…
Волынский, вновь повалившись в постель, устало выговорил:
– Узнайте, где живёт, как зовут и хороша ли дочка у неё? Если красива, приведите в кабинет вместе с матерью.
Утром после завтрака представили ему обеих. Волынский некоторое время внимательно разглядывал женщин, размышлял про себя: «Красотой, пожалуй, астраханской Ланочке не уступит, да вдобавок свежа, никем не тронутая ещё. Лицо белое, дородное и очертания дворянские – что нос, что глаза. Причёска тоже на западный манер, высокой шапкой светлые волосы вздымаются. Груди маловаты, но зато бёдра хороши и талия тонка». Волынский руку протянул, чтобы ощупать девицу, но вовремя спохватился и лишь зажал в ладони её хрупкие пальчики.
– Зовут как? – спросил, сдавливая ей ноготки, отчего барышня зарделась румянцем и глаза у неё заблестели.
– Язык проглотила от счастья, сроду ведь генерала не видала, – торопливо пояснила благодетельная мамаша. – Юленькой её звать,
– Юля, – наконец произнесла и сама барышня.
– Ну так что ж, Юленька, – попросил Волынский, – ты пока иди домой, а мы поговорим с твоей маман. – И дождавшись, когда прикроет за собой дверь барышня, он обратился к её мамаше:
– Каких благ от меня желаете, Авдотья Ивановна? Говорите без стеснения:
– Да ведь просьба у меня одна: не успел покинуть воеводство ваш батюшка, как городской магистрат отобрал у меня сад и приписал к соседнему, казённому, а в саду яблоньки, а под яблоньками огород, на котором росли кабачки, чеснок, лук и салат. Прошу вас, заступника нашего, отдать мне, что взяли?
– Отдадут, куда они денутся! – охотно пообещал Волынский. – Завтра указ напишу, а сегодня вечерком, как стемнеет, ты мне Юленьку пришли: пусть у меня в комнате уберёт.
– Может, сама приберу, хуже не сделаю, довольны останетесь?
– Стара ты для меня, Авдотья… Для батюшки – куда ни шло! – он озорно засмеялся и смолк, тут же сказал с угрозой: – Только не вздумай шутить со мной, раздавлю, как мокрицу. Сад получишь, только дочку свою научи, чтобы не противилась. Тебе сад, а ей бриллианты… На, возьми. – Он достал из шкатулки ожерелье и подал Авдотье.
Вечером Юлия пришла, и ввёл её в спальню к губернатору мажордом Кубанец. При свете свечи выглядела она ещё краше, чем днём. Чёрные глаза горели, словно два агата, но сама являла собой девицу безвольную, готовую ко всему.
– Нравится тебе мой подарок? – спросил он, беря её за руки.
– Больно дорогой, – отозвалась она робко и на сопротивляясь ему. А он усадил её на колени, ощупал груди, дрожащими руками начал расстёгивать пуговицы на платье. Раздевая её, спросил:
– Говоришь, сваты приходили… От кого, если не секрет?
– От нашего иконописца, Никифора Смирнова. Надоел он маменьке своими приставаниями, а у самого ни кола, ни двора, – дрожа от жаркого озноба, ответила Юлия.
– Незачем тебе за него идти, со мной тебе слаще будет, – прижимая её к себе, страстно заговорил губернатор.
Отпустил свою новую возлюбленную под утро, украсив её запястье дорогим, с рубинами, браслетом. Юленька уходила бледной и измученной, но переполненной любовью к Артемию Петровичу. И обращалась к нему на ты, как приказал он после того, как овладел ею. Повиснув у него на шее, долго не могла оторваться и шептала счастливым голосом:
– Входила к тебе, как к страшному зверю, руки и ноги немели от страха. А ухожу онемевшая от твоей жаркой любви.
– Иди, иди, моя ласточка. Впереди у нас с тобой – целая жизнь. – Волынский с трудом расцепил её руки, проводил во двор и приказал гайдукам сдать барышню с рук на руки её матери.
Жарко взяла за душу Артемия новая любовь. Проведя следующую ночь в одиночестве, он уже страдал без возлюбленной и думал только о ней. На третью ночь, едва стемнело, Кубанец привёл её, не менее страдающую от разлуки. Бросились они в объятия друг друга и всю ночь напролёт наслаждались любовью. И так пошло у них – то через день, то каждый день. И один Бог ведает, когда бы кончилось мучительно радостное счастье, но вот пристал к казанской пристани струг и вышла из него на берег Александра Львовна с дочурками. Обыватели, бывшие на пристани, послали за губернатором, и он скоро явился в сопровождении Кубанца и гайдуков. Степенно и чинно поцеловал Артемий Петрович супругу, взял дочек на руки и понёс в гору, а гайдуки занялись багажом губернаторши. Александра Львовна шла за мужем и диву давалась, сколь светла и красива Казань. Сверху солнце и золотистые купола собора, под ногами трава зелёная, а дальше за стенами кирпичные дома и сады. Села губернаторская семья в тарантас и поехала по городу, всполошив обывателей. Дом Александре Львовне понравился: большой и просторный, в несколько комнат, терраса во двор и цветы всюду. Вошла губернаторша в спальню и ужаснулась:
– Боже мой, хоть бы постель к приезду жены убрал, разбросано всё. Да и подушек понатащил на кровать, словно тут ты не один спал! Ну, Артемий Петрович, без меня ты прямо-таки одичал.
– Дык одичаешь, – охотно согласился Волынский, наблюдая, как проворно супруга убирает кровать. Вот встряхнула одеяло, вот подушки взбивать начала. И вдруг застыла в немом удивлении и поднесла на вытянутой руке к лицу супруга женские портки в кружевах.
– А это что означает? Я тебя спрашиваю, что это означает! – закричала вне себя Александра Львовна.
– Право не знаю, Сашуля. Воевода тут до меня жил, наверное, его супруга забыла свои порточки. Выбрось их на помойку, не обращай внимания…
Довод супруга показался ей не очень-то убедительным. Начавшаяся перебранка кончилась рыданиями Александры Львовны. Глядя на мать, заревели и дочки. Волынский с досады сел на коня и уехал к псарям посмотреть на своих борзых. К вечеру вернулся, посмотрел на толстенную супругу, и сердце его сжалось от неприятной тоски. Но что поделаешь, пришлось играть роль соскучившегося мужа, чтобы отогнать возникшие подозрения о его супружеской неверности.
Через несколько дней, возвращаясь из деревни, куда подался на неделю, а вернулся на третий день, дабы четыре дня провести с Юленькой в её доме. Волынский оставил коня с коляской у псарей, а сам пробрался к возлюбленной. Юленька, истосковавшись по милому, на шею ему бросилась. А Евдокия Ивановна сразу же и ляпнула:
– Не взыщи, кормилец наш, но должна я сказать, что Юленька третий месяц как беременна.
Волынский вздрогнул, словно облитый холодной водой из ушата.
– Как так? Признаться, не ожидал. – Посмотрел на Юлию, на её мать, рассудил холодно и здраво, словно речь шла о лошади или корове. – Живота покуда не видно, так что всё можно уладить…
Ночь провёл с ней, а на другой день явился домой и занялся её судьбой. Не мешкая, велел гайдукам привести иконописца Никифора Смирнова. Того отыскали в церкви и приволокли немедля. Волынский, посадив его перед собой, сказал с участием:
– Слышал от людей, что жениться на вдовьей дочери хочешь, да жила тонка, денег никак не соберёшь. Так ли?
– Да в общем-то… – согласился иконописец.
– Давай условимся: ты с меня портрет напишешь, а я тебе помогу свадьбу с твоей зазнобой сыграть?
– Охотно согласен, ваше высокопревосходительство! – обрадовался Никифор Смирнов.
Свадьба прошла не слишком шумно, но с музыкой и песнями, не хуже, чем у других людей. Невесту увезли в другой конец города, к жениху, там много раз прокричали горько, и в постель молодых уложили. А утром привезли Юленьку к её дому, ссадили вместе в пожитками на дороге, а ворота дёгтем измазали. Обыватели сбежались взглянуть на позор девицы. Гайдуки разогнали толпу, чтобы не собирались около губернаторского дома – жила-то Юлия через дорогу. А когда появился у её двора жених, в пьяном виде, с матерщиной отборной, Волынский приказал взять его и наказать кошками. Схватили гайдуки иконописца, раздели, бросили на скамью, привязали и давай хлестать плетью. Волынский стоял рядом, спрашивая после каждой очередной плети:
– За что опозорил девицу, богомаз?!
– Порченой оказалась!.. – корчась от боли, выл Никифор.
– Врёшь, нетопырь, ты раньше её совратил, а теперь на посмешище выставил. Сознавайся, не то до смерти забью!
И приклеивались мокрые от крови плети к спине иконописца до тех пор, пока не оговорил он самого себя. Поклялся Никифор снова взять к себе жёнушку. И взял бы, да возмутилась родня, выходила избитого кое-как, посадила в телегу и – прочь долой из Казани. Осталась Юлия при своей мамаше и стала жить как раньше. Прошёл ещё месяц – вовсе исчезла Юленька, чтобы не показывать свою беременность на людях. Как-то ночью отвезли её гайдуки в соседнюю деревню, к помещику Писемскому, поселили к знахарке. Старуха взялась «лечить» молодую деву и добилась выкидыша. Через полгода Юлия возвратилась в город. Была девицей – стала матёрой львицей. Платье на ней французское, зелёное, до самых пят. Прошлась мимо губернаторского дома – Александру Львовну всполошила.
– Явилась, змея подколодная! – прошипела губернаторша, давно уже уверившись в том, что обрюхатил её Артемий Петрович. Но всё же были сомнения: «А может, не он?» Решила проверить. Кликнула прислугу:
– Возьми-ка, Аглая, в чулане панталоны этой развратницы, да верни ей. Посмотрим… Коли возьмёт, значит, сомнений более никаких у меня не будет.
Аглая выбежала на улицу, догнала Юленьку. Та, увидев свои портки, смекнула, в чём дело и, чтобы ещё больнее обжечь сердце губернаторши, бережно свернула их, пожав недоуменно плечами:
– А я – то всё думала, где же мои пантолончики затерялись? Спасибо, что нашли и отдали. – И уплыла павой…
На ночь Александра Львовна заперлась в другой комнате, к мужу не вышла. Волынский постучался, и, не услышав ответа, пригрозил:
– Баба с телеги – кобыле легче. Один-то, без тебя, я на край света ускачу!
С этой ночи их семейная жизнь расстроилась окончательно. Артемий Петрович не обращал внимания на жену, а она, сталкиваясь с ним нечаянно, вздёргивала брезгливо плечами и высоко вскидывала голову. Давалось ей это нелегко. Постепенно Александра Львовна начала худеть: плечи опустились и щёки обвисли, кашель появился. Волынский, напротив, стал ещё деятельнее. В будни разъезжал с гайдуками по городу и учил уму-разуму горожан: собирал недоимки, объявлял наказания за провинность, карал воров на городской площади, зачитывал громкогласно губернаторские указы. В свободные дни чуть свет отправлялся за Волгу, на охоту. Свыклась Александра Львовна с распорядком мужа, перестала вовсе обращать на него внимание. А у него вновь неровно застучало сердце. Сказал он своему мажордому:
– Отвези Юлию к Писемскому, а я через день приеду.
Юлия томительно ожидала своего возлюбленного у окна. Вот он приехал, слез с коня, зашаркал в сенцах сапогами, вошёл в избу, руки вытянул, чтобы приласкать и прижать к сердцу свою голубушку. А она вздёрнула плечами и отвернулась:
– Не стыдно тебе, Артемий Петрович, держать меня, как собачонку на задворках? Дождёшься, что и я превращусь, как твоя супружница, в полудохлую бабёнку. Света белого не вижу, всё время думаю о тебе…
– Ну-ну, Юленька, только без капризов. – Он об нял её, повернул лицом к себе и прижался в горячем поцелуе. Оторвавшись, воскликнул озорно: – А ты у меня ещё слаще стала после замужества!
– Да уж, – потупилась Юленька, – Чуть было на тот свет не отправил.
– Ушла бы ты на тот свет, и там я тебя бы разыскал! – Волынский сел на кровать, вытянул ногу: – Сними-ка сапог…
С этого дня встречи их возобновились. С охоты он всякий раз заезжал к ней. И Писемского стал боготворить… Как-то раз, возвращаясь с охоты, проезжал Волынский мимо двух чахлых деревенек. Поля возле них лежали не возделанными, лишь шелестел на ветру дикий бурьян. Заехал губернатор к Писемскому, поинтересовался:
– А чьи это неухоженные деревеньки, травой заросшие, или у них хозяина нет?
– Есть хозяева, как же! – отвечал Андрей Писемский. – Деревеньки принадлежат Семизерной пустыни, монахам-бездельникам…
– Из-за таких-то бездельников и живёт в нищете Русь, – рассудил губернатор. – Земли пустуют, видно, нужен им другой хозяин… Взял бы ты деревеньки Семизерные себе, а я указ по сему случаю издам и оглашу… Проку мне от этого большого не будет. Но если твоё благородие иной раз и поднесёт что-либо за мою услугу – буду признателен…
Под Рождество губернаторские псари вернулись с охоты, везя в клетках двух больших и четырёх малых волков. Сбежались обыватели, оцепили городской сад красными флажками. Выпустили волков, натравили на них борзых, пошла отчаянная свара. Волков перестреляли, но сад так изувечили, гоняясь за серыми, что и не узнать. Городской магистрат представил губернатору обвинительное письмо. Волынский порвал его и настрочил собственноручно указ о передаче старого сада «дочери жены умершего её супруга, бывшего капитала, а затем купца Ивана Микляева». А если просто, то старый сад был отдан любовнице губернатора…
X
Каспийский перешеек от Святого Креста до самого Решта со смертью Петра Великого начал хиреть. Никому не стало дела до каких-то далёких персидских провинций. Царский двор со всеми его министрами и вельможами суетился вокруг императрицы: всякий искал свои выгоды, а главенствующая верхушка, бывшие соратники Петра. Первого, всячески старались сохранить своё верховенство. Чуть больше года минуло со дня, как Екатерина Первая воцарилась на российском Престоле, но вот уже «правительствующий» сенат стал называться лишь «высоким», образовался Верховный тайный совет. Заговорила Россия о Меншикове, и слухи поползли, долетая не только до воинских гарнизонов на Каспии, но и до калмыцких улусов и туркменских аулов на Маныче и Калаусе. Берек-хан, три зимы проведший в почтовых разъездах – от Кумы до Святого Креста и обратно, – многое узнал от русских офицеров. Сначала с таинственным предупреждением чтобы не болтали где не следует, рассказал джигитам, будто князь Меншиков сватает свою дочь за внука умершего государя. «В родство с царицей войдёт – Всю Россию к своим рукам приберёт». Джигиты, слушая хана, спрашивали: «Хорошо это или плохо?» Берек Третий отвечал: «Князь Меншиков лучшим другом Петру Великому был, а Пётр жаловал туркмен своей грамотой. Друг царя не забудет о туркменах». Прошло ещё немного времени, и Берек-хан вновь предостерёг джигитов: «Держите языки за зубами: царица Екатерина умерла, князь Меншиков обвенчал свою дочь о внуком Петра Великого. Князя его враги изгнали из Петербурга и сделали внука российским государем». Джигиты вновь спросили: «Берек-хан, хорошо это или плохо?» – «Хай, недогадливые! Конечно, хорошо, новый государь Пётр Второй, говорят, на своего деда похож!» – рассудил Берек-хан.
Три года ждали туркменские джигиты перемен в жизни, но она не менялась. С осени, едва наступали холода и астраханский флот становился на зимовку, Берек-хан поднимал свой отряд в седло и отправлялся на Куму. Оттуда джигиты разъезжались по почтовым станциям и ожидали дипкурьеров из Астрахани. В первые годы после открытия почтовой дороги много по ней ехало военных и казённых людей. А теперь поуменьшилось. Курьеры с секретными донесениями почти не появлялись. Теперь больше ехали то в Дербент, то в Баку на смену своим товарищам молодые офицеры. Оттуда тащились раненые и больные. Туркмены принимали их в своих юртах: давали ночлег, угощали чуреком и чаем и провожали до следующей почтовой станции. Однажды Берек-хан, возвратившись со стороны Астрахани на Куму, сказал джигитам: «Царствующий внук Петра Великого тоже умер». Все замолкли, не зная, как вести себя при этом сообщении, и всё-таки один из джигитов спросил: «Берек-хан, это хорошо или плохо?» – «Никто этого не знает, – отозвался Берек-хан, – потому что никто не знает, кто теперь будет русским царём».
Смерть Петра Второго породила небывалое смятение в калмыцкой степи. Вновь вскочил в седло внук Аюки Дондук-Омбо и понёсся по улусам, возглашая, что царский лизоблюд Церен-Дондук незаконно владеет властью; калмыцкий трон, согласно завещанию, принадлежит Дондуку-Омбо! Произошли стычки и пролилась кровь. Преследуя друг друга, отряды калмыков не раз вторгались на Маныч и Калаус к туркменам. Летом Церен-Дондук, остановившись с отрядом в ауле Берек-хана, теряя терпение, воскликнул:
– Этот волчонок не даст мне спокойно жить и управлять калмыками, если я не скручу его длинные руки! Дорогой друг Берек, терпение моё иссякло: поеду в Астрахань и попрошу у губернатора солдат.
– Разумно ли? – усомнился Берек. – Молодые тайдши переходят к Дондуку-Омбо, это верно. Но знаешь ли ты, что астраханские чины – Кикин и Бакунин – нарочно натравляют на тебя молодых тайдшей? Разве тебе не ясна их хитрость: «Разделяй – и властвуй?» Калмыки убивают друг друга, а Кикин радуется…
– Другого выхода у меня нет…
– Может, и нет, но из всех зол надо выбирать меньшее. В Астрахань поедешь – ничего не добьёшься. У самого Кикина солдат нет. Войска у генерала Матюшкина. Генерал тоже солдат не даст без приказа царя, а царя совсем нет, приказывать некому. Советую тебе, Церен-Дондук, поехать в Казань, к Волынскому. Волей Аллаха этот человек опять заимел большие крылья, генералом стал, губернатором. В Казани много офицеров и солдат, и все ему подчиняются. Если один боишься к нему ехать – поедем вместе…
Совсем было собрались они в путь, осталось только верблюдов навьючить да коней оседлать, и вдруг – русские в аул едут. Подъехали всадники поближе – узнал Берек-хан Нефёда Кудрявцева. С ним рядом здоровый и мордастый, в синем кафтане и шляпе господин. Берек-хан поднапряг память и вспомнил, что видел его в доме Волынского. И всадники в красных жупанах – слуги Волынского. С ними ещё сотни две казаков. Церен-Дондук воодушевился, а Берек-хан радостно засуетился:
– Русские говорят: «На ловца и зверь бежит». А как ты думаешь, отчего такая поговорка сложилась? От того, дорогой Церен-Дондук, что есть такая неведомая сила, которая властвует над всеми людьми. О ком думаешь – тот тоже о тебе думает. Ты о Волынском думал – он тоже о тебе подумал и решил узнать, как живёшь, в чём нуждаешься.
Всадники подъехали, соскочили с коней. Нефёд Кудрявцев, уже в чине подполковника, отечески, как старых друзей, обнял калмыка и туркмена. Обступили аульчане приезжих, подошли и воины Церен-Дондука. Берек-хан пригласил всех на тахту, а подполковника Кудрявцева и его краснолицего спутника повёл в белую юрту, Церен-Дондук вошёл вместе е ними.
– Садитесь, господа, – Берек-хан подал гостям подушки, и сел сам. – Ешьте, пейте, чем богаты – всё ваше. Винограду и арбузов в это лето много. Корма на пастбищах тоже хорошие – молодняк здоровый растёт! мяса много будет, шерсти тоже.
– Ты об овцах, Берек-хан, а мы о лошадях потолковать приехали, – остановил сладкоречивого хана Кудрявцев. – Познакомься вот, это мажордом казанского губернатора, Кубанцем зовут… Но ты кличь его Васей, ибо при слове «кубанец» калмыки и туркмены за сабли хватаются. Кубанские ханы – недруги ваши и наши, но Василий Кубанец никаких связей – ни родственных, ни приятельских – с ними не имеет. Приехал он от самого казанского губернатора, и потому сам скажет, что от тебя надо.
– Губернатор наш после того, как воцарилась на престоле российском императрица Анна Иоановна….. – начал Кубанец, пронзив туркменского хана чёрными глазами.
– Вах-хей! – воскликнул Берек-хан. – Оказывается, уже есть, а мы и не знали! Как же так?
– А так, что живёте в дикой степи и ни о чём не ведаете. Ладно, молчи и слушай, что будет сказывать господин мажордом! – приказал Нефёд Кудрявцев.
– Ну, так, с воцарением Анна Ивановны решил наш благодетельный губернатор заняться коневодством. Но желает разводить коней не каких попало, а только чистых арабских и кабардинских кровей. Десятка два таких скакунов не мешало бы раздобыть на первый раз. Надобно подобрать жеребцов помоложе, а ещё лучше – жерёбых кобыл. Вы, туркмены, – великие лошадники, разбираетесь в породах, вот Артемий Петрович и приказал шге! «Езжай к Берек-хану, он тебе нужных скакунов раздобудет».
– Вах-хей, – почесал затылок Берек хан. – Арабских жеребцов очень мало. На всём Кавказе их не больше десятка… А с кабардинцами у нас вражда. Джигиты их постоянно нападают на наших чабанов… Двести– триста овец за один год мы потеряли.
– Ну, Берек-хан! – уныло произнёс Кубанец. – Мне рекомендовали тебя как самого храброго джигита и верного друга России, а ты не очень-то дорожишь своим именем. Отбрось к дьяволу всякие предрассудки! Да и непонятно мне, для чего тебе жалеть Кабарду, если она за твоими овцами с гор спускается?
– Ладно, Вася, мы подумаем, как найти тебе двадцать кабардинских коней. А пока ешь-пей, и ни о чём не думай…
Оставив гостей с Церен-Дондуком, туркменский хан вышел и велел собраться джигитам в соседней юрте. Сошлись по неписанному закону он-беги – десятники, среди них сын хана Арслан, ему недавно исполнилось восемнадцать, но с отца ростом, степенный и малоразговорчивый. Слово у него – на вес золота. Джигиты, гораздо старше его, сразу поняли, что замена растёт Берек-хану достойная. Да и хан, едва Арслану исполнилось пятнадцать и появился пушок над верхней губой, стал брать его с собой в поездки. Арслан за это время успел побывать не только на Куме и в Астрахани, но и на Святом Кресте и в Дербенте. Три года, постоянно вращаясь среди русских казаков, среди каспийских мазуров[8]8
Мазуры – матросы на рыболовецких и купеческих судах.
[Закрыть] и калмыков, Арслан научился свободно объясняться с офицерами и солдатами. Оружие – пистолеты я фузеи – знал в совершенстве, саблей владел не хуже опытного джигита и на спине неосёдланного коня держался, словно на ковре. Берек-хан мечтал увидеть сына в треуголке и кафтане, в звании прапорщика, но знал, что некрещёному среди царского офицерства вряд ли найдётся место. Католиков цари к себе принимали, а людей магометанской веры – нет: всё от того, что беспрестанно велись войны с турками. Садясь на ковёр перед джигитами, Берек-хан посмотрел на Арслана и подумал: «Если соберём двадцать кабардинских коней, попрошу Васю поговорить с губернатором, может, возьмёт Арслана в военную школу». Берек-хан выждал, когда успокоятся и смолкнут джигиты, возбуждённые встречей с русскими казаками, засучил рукава, поднял ладони, скользнул ими по бороде:
– Помолимся, правоверные, Аллаху, и благословит он нас на праведные дела… Казанскому губернатору Артемию Петровичу, о котором вы много слышали, потребовалось двадцать кабардинских скакунов или жерёбых кобыл. Сумеют ли мои джигиты взять коней в табунах, пасущихся в горах Кавказа?
В ответ раздался одобрительный гул множества голосов; и Берек-хан, удовлетворённый, широко улыбнулся:
– Тогда завтра же отправляйтесь в горы и пригоните двадцать самых лучших коней! Отряд поведёт Нияз-бек, помощником у него будешь ты, Арслан… Аминь…
Берек-хан поднялся и вновь отправился в белую юрту.
Здесь между подполковником Кудрявцевым и Церен-Дондуком шёл нелёгкий разговор о защите правителя калмыков. Нефёд с кислой миной на морщинистом лице втолковывал калмыку:
– Сложно всё это, Церен… Во-первых, ты, хоть и получил грамоту от Волынского на правление, в ханской достоинство пока ещё не возведён… Да и неизвестно, примут ли тебя все улусы? В наше переменчивое время лучше ничего не начинать. Опять вспыхнут кровавые стычки, а разнимать вас некому. Войскам царским и там жрать нечего, а вклинятся они в калмыцкую степь, вовсе с голода околеют.








