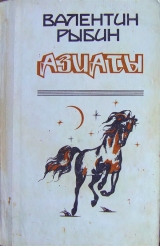
Текст книги "Азиаты"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Знамя-то зачем им отдал?! Это же святыня ваша!
– Ай, господин генерал-майор, кто знал, что так будет…
– Смотри, шапку не отдай… – хлопнув Церена по плечу. Волынский сел в коляску.
На другой день стало известно, что младший тайдша Дондук-Омбо напал на ханский улус и разорил его, затем бросился на другие улусы. Поднятые по тревоге астраханские войска, состоящие, в основном, из пехоты, двинулись в калмыцкую степь. Спешно отправили курьера в Царицын, к генералу Миниху с просьбой дать донских казаков на подавление восставших калмыков. Пока суть да дело, Дондук-Омбо захватил пятнадцать тысяч кибиток у Церена и ушёл на Кубань. Широкой живой волной, сметая всё на своём пути, двигались калмыки по степи. Левое крыло уходящих калмыков пронеслось мимо Маныча и Калауса. Один из отрядов Дондука-Омбо остановился на отдых в Арзгире. Калмыки опустошили колодцы и запруду, пока поили раз* горяченных коней, выпили сами множество самоваров чая, а туркмен напугали так, что посеяли в аулах панику. При одном упоминании имени Волынского, который, якобы, ведёт войска, чтобы раз и навсегда уничтожить всех азиатов, люди сворачивали ковры, связывали в узлы пожитки и складывали в хурджуны съестное. Напрасно Берек-хан метался по Арзгиру на коне, показывая царскую грамоту о неприкосновенности туркмен, – царский фирман мало действовал. Наконец, когда калмыки ускакали, Берек-хану всё же удалось ссадить своих аульчан с лошадей и верблюдов.
– Земляки, послушайте меня! – обратился Берек-хан к народу. – Разве вы не знаете, что четыре года назад хан Кубани принял русское подданство?! Вы могли бы без моей помощи рассудить: «Раз кубанский хан стал русским, значит он вместе с русскими станет бить Дондука-Омбо!» Теперь давайте подумаем: куда деваться Дондуку-Омбо? В Кабарду пойдёт – Кабарда тоже приняла русское подданство… В Крым пойдёт, к татарам… Но если вы тоже хотите служить не русским, а татарам, то уходите!
Туркмены присмирели, успокоились. Берекхан, вытирая тельпеком пот с лица, вошёл в свою юрту и увидел бледного, как смерть, Арслана. Берек-хаи встревоженно спросил:
– Ты почему такой, Арслан?! Не заболел ли?
– Не заболел, но это хуже болезни, отец.
– Что же это такое, сын мой, скажи?
– Не скажу, отец, язык не поворачивается. Виноват я перед Волынским, да так, что ещё неизвестно, на кого он войной идёт, на Дондук-Омбо или на меня.
– Вах-хов, да ты, как я вижу, сильно заболел: болезнь ум твой задела, рассудок теряешь! – ещё больше обеспокоился Берек-хан.
– Я в здравом уме, но ждать мне русских казаков с Волынским нельзя. Я уйду, отец, вместе с Дондуком-Омбо к Чёрному морю. Тебе бы я тоже посоветовал хотя бы на время покинуть Арзгир: ты же знаешь, какой этот Волынский! За меня ты можешь погибнуть от его рук, отец.
– Отойди от меня, полоумный! – Берек-хам оттолкнул сына, и он уткнулся лицом в подушку и обхватил голову руками.
К вечеру вернулись джигиты из степи, сообщили, что на Маныч идёт большой отряд донских казаков. Арслан вышел из юрты и велел своим двум сотням садиться на коней, Берек-хан пытался остановить сына, но тщетно.
Донские казаки въехали в аул на другой день. Берек-хан встретил их, держа в руках грамоту Петра Первого, как щит от нападения. Но казаки вели себя мирно: знали наперёд, что туркмены – верные друзья России. Казацкий сотник лишь слегка упрекнул Берек-хана:
– Что же вы сидите на месте, не преследуете калмыков?
– Одни сидят, другие преследуют, – нашёлся Берек-хан. – Сын мой бросился за калмыками: как злой пёс у них на хвосте повис, а с ним две сотни джигитов!
– Ну что ж, молодцы! Надо утихомирить этого зазнавшегося тайдшу Дондука-Омбо!
Казаки заночевали и уехали. Берек-хан, тяготясь от дум, не зная, чем обидел его сын самого Волынского, пожаловался Нияз-беку:
– Не знаешь ли ты, Нияз, какую обиду нанёс мой Арслан генералу Волынскому?
– Ай, говорил он что-то о второй жене Волынского. В Казани увидела Арслана вторая жена губернатора – сразу за сердце схватилась и отдалась ему. Всё лето он с ней жил, пока губернатор был в отъезде, потом распрощался…
– Вах, дурак! Какой дурак! – Берек-хан схватился за голову. – Не может губернатор Волынский за бабу объявить туркменам войну, как ты думаешь, Нияз-бек?
– Конечно, не может, – согласился юз-баши. – Но твой сын возомнил о себе, словно он Магомет или царь Сулейман. Он считает себя выше Волынского, раз жена ему изменила и к Арслану ушла. Арслан жаловался мне: «Волынский всем государям Европы объявил своим злейшим и первым врагом туркмена Арслана! Если Волынский начнёт войну против туркмен, то все европейские императоры объединятся против меня!»
– Ладно, Нияз-бек, не играй языком, как ногайкой, – сердито одёрнул Берек-хан. – Придётся тебе поехать на Кубань или в Крым да уговорить этого безумца вернуться…
XIV
Императорский двор переехал в Санкт-Петербург. Государыня Анна Иоановна, нанеся первый урок «верховникам» Долгоруким и Голицыным, продолжала укреплять Коллегии надёжными людьми, соратниками Петра Великого. Взятый под особое внимание восточный вопрос, проведённый столь успешно военной инспекцией, рассматривался в Сенате. Обсуждался проект постройки крепости на границе с киргиз-кайсакской степью, предложенный статским советником Иваном Кирилловым. Крепость сию предлагалось поставить на том месте, где впадает река Ора в Урал. Отсюда проторить торговый путь к Аральскому морю и завести на нём судоходство. Султаны Меньшего и Среднего жузов с превеликой радостью согласились оказать помощь России в её великих начинаниях. А вступив под эгиду российского государства, обещали расширить торговлю в киргиз-кайсакской степи вплоть до земель Туркестана и Китая. Здесь же, на заседании Сената, Кириллов представил на обозрение министров «Атлас Российской империи». Министры, глядя на своего младшего сослуживца, обер-секретаря правительствующего Сената Ивана Кирилловича Кириллова, высказались единодушно: назначить оного главным начальником этого края, имени которому пока нет. Самому же Кириллову велела ехать на границу с киргиз-кайсакской степью с заложить крепость…
Не менее оживлённо слушали Петра Павловича Шафирова, только что вернувшегося из Персии с Рештаким договором, по которому вновь пришлось вернуть Персия Гилянскую провинцию, но сохранить дружбу и торговые отношения с шахом. Анна Иоановна с присущей ей уверенностью вновь, как а прежде, отмечала, что земля гилянские России вовсе не нужны; чтобы торговать – для этого не обязательно содержать в чужих краях многотысячную армию и кормить её непонятно во имя чего. Путь торговый проложить в Индию, о коем Пётр Великий мечтал, можно и без войска. Некоторые министры поддакивали императрице, другие молчали, понимая, что возврат Гиляни Персии свершился по иной причине. Возвысившийся полководец Тахмасиба, некий Надир-хан афшар, низложил своего владыку, посадил на трон его малолетнего сына Аббаса, сделался регентом и, фактически завладев верховной властью, предложил русским уйти из Гилянской провинции. Он и до этого не раз навещал Решт, вселяя панику в русский гарнизон. Солдаты покидали караван-сарай, в котором жили, и перебирались на корабли, стоявшие на рейде. Оттуда грозили персам, наводя на них пушки, но до огня дело не доходило. В ответ на угрозу Надир-дан разгонял базары, теснил русских и персидских купцов, чтобы не снабжали царских солдат и моряков продуктами и особенно зеленью. В войсках свирепствовала цинга и лихорадка, началось дезертирство. Самое верное – вывести войска, и Россия сделала это. Рештский договор был преподнесён правительствующему Сенату не поражением, а победой. Таковым его и утвердили, и барон Шафиров был поощрён императрицей и снова возведён на прежнюю должность – президента коммерц-коллегии. За успешное ведение дел на восточных границах империи и, отмечая особо заслуги в строительстве двух каналов – Ладожского и Обводного, императрица объявила указ о присвоении генералу Миниху звания генерала-фельдмаршала и возвела его в президенты Военной коллегии. Были и другие повышения, но не в указах, не в списках фамилия Артемия Петровича не значилась. Находясь в ту пору в Санкт-Петербурге при военной коллегии, огромным усилием волн сдерживал он себя» чтобы не высказать свою обиду императрице, но среди ближайших друзей и соратников язык его развязывался,
– Ты посмотри, что делается в Отечестве! – жаловался Волынский архитектору Еропкину, осматривая его библиотеку, о которой много слышал, но видел впервые. – Волынский всю Россию на себе тащит, а заслугами другие пользуются. Возьми тот же поход на Перейду. Разве мог бы он состояться, если бы я до этого не заключил торговый договор с шахом? Ныне в какую лавку ни загляни – все из Персии. Везут купцы российские из Гиляни и шелка всевозможные, и фрукты, и животных африканских. Но никому и в голову не приходит, что заслуга в том одного Волынского. Императрица Анна Иоановна, будь ей жёстко в её мягком кресле, смотрит на меня как на дальнего родственничка, улыбается на мои поклоны, но никаких видов на продвижение не подаёт. Шафиров поехал в Персию – отдал персам Гилянь, ему слава и почести. А кет бы вспомнить государыне, что всего-то и осталось от Гиляни – торговля, завязанная Артемием Волынским!
Еропкин снисходительно смотрел на его взволнованное, раскрасневшееся лицо и соглашался.
– Так оно, Артемий Петрович, всё так, как говоришь. При твоём-то уме да русском размахе надо советником быть у императрицы или президентом той же коммерц коллегии, коей Шафиров вновь взялся управлять. Но ты не горячись – настанет твой час, и всё устроится. Скажи-ка, пока не забыл спросить, не думаете ни переезжать в Санкт-Петербург? Трудно, небось, Наталье с младенцем! ты здесь, она таи,
– Куда переезжать-то, Пётр Михайлович? Не в твой же дом, где и повернуться, не задев за что-либо, невозможно. Да и неловко мне перед людьми будет ютиться на чужой квартире: всё-таки я не какой-нибудь немец заезжий, а русский, притом потомок самого Боброка. Может, вспомнит Анна Иоановна мою родословную да и подарит домишко какой?
– Жди, когда вспомнит. Да и что ты всё о государыне, когда она сама душой и телом зависима от своего толстозадого обер-камергера. Мы тут с тобой клеймим Долгоруких да Голицыных за то, что Анне Иоановме руки укоротить пытались, а Бирон укорачивает ей руки без всяких заговоров. Сказал – так, мол, надо, таки делается. Он только заявился из своей Курляндии, а уже хорошие места при дворе заняли немцы. Брось камень в собаку – попадёшь в немца. – Еропкин снял с полки том Сенеки, дунул на корешок обложки, отчего взметнулась пыль и засверкала в солнечном свете. – Вот мудрец, которого надо тебе почитать.
– Ну и чем же мудр твой Сенека? – Волынский недовольно взял в руки книгу, поскольку Пётр Михайлович неожиданно завёл речь о другом, словно бы ему говорить о дворе и государыне надоело.
– Мудрость его хотя бы в том, что он никогда не лез на рожон, а находил окольные пути, достигая цели. Тоже был недоволен сенатом, восемь лет пребывал в ссылке за то, что учил людей самосовершенствованию. Как-нибудь почитаю тебе его трактаты «О гневе», «О спокойствии духа», «О твёрдости мудреца». Улавливаешь, куда сей философ звал румлян? Станешь читать его трактаты – устыдишься своих капризов и гневных вспышек.
– Ну вот, пошёл поперёк дышла! – сразу же обиделся Волынский. – Что ж, по-твоему, спокойствием и выдержкой можно чего-то добиться в нашем государстве?
– Можно, Артемий Петрович. Только этим и можно привлечь к себе внимание обер-камергера Бирона.
– На черта он мне нужен, вонючий окорок!
– А на то, что путь к сердцу императрицы лежит через хитроумную голову Бирона, а её не так просто завоевать. Натиск твой только оттолкнёт обер-камергера. Ты попробуй его лаской да умом взять. Кода сумеешь – он откроет тебе пути во все кабинеты.
И Волынский стал искать пути сближения с хитрым и спесивым царедворцем. На очередных куртагах, когда императрица в ярко-голубых одеждах, украшенных бриллиантами, а Бирон во всём розовом вышли в залу, Артемии Петрович повёл себя весьма свободно, чтобы обратить их внимание. Этим он только вызвал неудовольствие Анны Иоановны, но лиха беда начало.
– Что-то наш военный инспектор до сих пор торчит в столице, не пора ли генерал-фельдмаршалу Миниху со всей его комиссией отправиться в Польшу? – императрица окинула Бирона тяжёлым взглядом.
Обер-камергер, идя сзади неё так, что массивный его подбородок висел над плечом императрицы, сказал в ответ:
– Я давно уже думаю, но не могу понять, душа моя, как ухитряется сей дворянин сочетать в себе гнев и причуды дикого бурлака со степенностью и вежливостью, которыми должны непременно обладать высшие губернские чины?
– Плохое воспитание дано Волынскому, а, впрочем, он умён и рассудителен. Будет охота побеседовать о ним – найдёшь в нём человека интересного. – Анна Иоановна, сев в кресло, стала обмахиваться веером и разглядывать наряды петербургских модниц.
Обер-камергер, стоя за спиной императрицы, тоже смотрел на танцующих дам. Не отрывая взгляда от длинных шёлковых шлейфов и оголённых плеч, он следил за Волынским: его крупная фигура в розовом камзоле в белых чулках то возникала, то терялась в большой императорской зале. В перерыве, когда смолкла музыка, Волынский приблизился настолько к императрице, что обер-камергер жестом руки пригласил его, указав на свободные, стоящие за спиной Анны Иоановны кресла.
– Присаживайтесь, господин Волынский. Виделись мы в Москве и здесь вы изредка мелькаете передо мной, но всё не удосужился познакомиться с вами поближе, хотя сам Господь велит нам знать друг друга лучше. Вы из той самой Волыни, что рядом с герцогством Курляндским? Благодатный край Волынь – мне довелось бывать в Луцке. Кажется, там я и слышал о Боброке – Волынском.
– Весьма польщён, господин обер-камергер, тем интересом, какой вы проявили к моему древнему роду. – Волынский сел рядом и бесцеремонно развернул кресло, чтобы лучше видеть Бирона. – Предок мой прежде всего знаменит тем, что отбил охоту у монгольской орды ходить далеко за Волгу. Не будь поля Куликова, то и немцы, и вся Западная Европа смешались бы с монголами. Быть бы вам, как и русским, азиатами по уму и внешности… Бог, однако ж, миловал: Европа преуспевает во всём, и не будь ныне в России немцев, она превратилась бы в дикую азиатскую страну.
– Однако, господин Волынский, не очень вы высокого мнения о русских. Теперь мне понятно, почему вы вознаграждаете свою чернь оплеухами и травите борзыми. – Бирон раскатисто засмеялся, чем заставил повернуться и Анну Иоановну.
– Похвально, что вы нашли общий язык с первых слов, – заметила императрица и попросила поближе подвинуть к ней кресла. – Всё забываю у тебя спросить, Артемий Петрович, бывают ли в Исфагани ассамблеи или куртаги, подобно нашим?
– Великая государыня, подобно вашим куртагам мне видеть ничего не доводилось. Шах устраивает свои забавы, с бесстыдными движениями танцовщиц, кои являются его же наложницами. Вход на такие куртаги строго запрещён не только гостям, даже ближайшим сановникам. Однако в Персии немало любопытного. В бытность мою посланником в Исфагани мне приходилось наблюдать, как шах выбирал себе чуть ли не трёхсотую по счёту наложницу. Если угодно послушать… то я…
– Рассказывай, Артемий Петрович… о непристойностях можешь не говорить, а, впрочем, мы не из пугливых. – Анна Иоановна, посмотрев на Бирона, улыбнулась с лукавством.
– Представьте себе такую картину, ваше величество. Садится солнце, опускаются сумерки, с высоченных минаретов разносятся голоса муэдзинов, и в самом центре города, в богатом квартале, оживает шахский гарем. Это огромный двор с множеством келий для женщин, а посреди двора фонтан или бассейн. Более шестисот самых красивейших гурий плещутся в бассейне под наблюдением евнухов или забавляются в своих комнатах музыкой, играя на восточных лютнях…
– Уж не побывал ли ты, Артемий, в гостях у этих гурий, что-то рассказываешь дивно, словно сам у них был! – императрица погрозила пальцем Волынскому, а Бирон нетерпеливо сказал:
– Продолжайте, господин Волынский, это интересно…
– Ну так, у шаха настоящих жён до пяти-шести десятков, а остальные – сиге, или по-нашему – временные, и состав их постоянно освежается. Тех, которые надоедают, шах отдаёт своим приближённым, взамен берёт других наложниц, и делает это весьма просто… Есть у него особые старухи, которые постоянно ходят по дворам и выслеживают красавиц. Затем докладывают старшей жене шаха – каких из них пригласить на обед. Во время трапезы к ним бесцеремонно входит шах, оглядывает, даёт знак евнуху, какую оставить, и дело кончено. Будущую наложницу уже не отпускают домой. К родителям её посылают гонца с извещением о выпавшем ка их долю счастье и для выполнения формальностей брака. Что касается наружности гурий – все они разрисованы румянами и белилами, откормлены, полуодеты: юбки их прикрывают только верхнюю половину бёдер, а вся нижняя часть и ноги остаются голыми и разукрашены браслетами…
– И всё-таки видел ты сих гурий?! – Императрица опять засмеялась.
– Каюсь, великая государыня. Бывший шах Хусейн имел неосторожность пригласить меня в гости в просил никому не рассказывать о том, что увижу, но я… только вам, великая государыня, и обер-камергеру – больше никому ни слова о шахских гуриях…
– Ну, сластолюбец, давай-ка рассказывай дальше! – потребовала Анна Иоановна.
– Когда шаху вздумается осчастливить одну из них, то старший евнух громко объявляет: «К царю-царей и к полюсу Вселенной изволит приходить его царственная супруга!» Весь караул в сей момент падает на колени и склоняет головы до полу… То же происходит, когда наложница возвращается от шаха в свою комнату…
– Оказывается, у шаха вовсе нет стола, и даже вилок и ложек не имеется, так ли? – полюбопытствовала императрица.
– Это так, великая государыня, – охотно отвечал Волынский. – Обедает шах один, сидя на ковре, куда стелют пёструю персидскую скатерть и ставят с десяток, а то и более блюд всевозможных. Ест шах руками, б министры и принцы стоят сзади. После ухода шаха они доедают остатки. Но ещё забавнее, ваше величество, как ведутся дела во дворце шаха. Нет у них ни законов, ни каких-либо иных письменных инструкций. Мирзы сидят в двух-трёх комнатах на полу и пишут очищенными камышинками, держа бумагу на коленях. Весь шахский архив – это несколько развешенных на стенах мешочков, в которых торчат свёрнутые в трубочку бумаги. Время от времени бумаги эти уничтожаются, так что архива вовсе не существует…
– Поборы, говорят, у них процветают самые жестокие, – заметил Бирон.
– В Персии есть и «дающие», и «берущие», и вообще пороков очень много, – согласился Волынский. – Но шах одобряет всякие нарушения. Да и притча у них в ходу: «Всякий порок, одобряемый царём, становится добродетелью».
Анна Иоановна потёрла пальцем жирные мешки под глазами, спросила с усмешкой:
– Не оттого ли, Артемий Петрович, ты шаха пытался наказать чуть ли на миллион, что всякий порок шахом прощается?
– Это дело прошлое, великая государыня, и я получил за сей порок от Петра Великого. Но смею заметить, ваше величество, что и вы пришли к тому же мнение: кормить целую армию, живущую в Гиляни, нет никакого проку. Я не мог подсказать государю, чтобы он вывел войска, но ваше величество это сделали сами… Стало быть, и мои притязания к шаху были разумными.
– Был бы ты глупцом, Артемий Петрович, здесь вот так, по-барски, не сидел, – заметила императрица и посмотрела на Бирона. Тот согласно улыбнулся, что означало: обер-камергер весьма доволен знакомством и беседой с Волынским.
Бал во дворце продолжался, на смену танцам пришли всевозможные игры – от «горелок» до «флирта», в зале шумно веселились. Было душно, и Анна Иоановна пригласила Бирона и Волынского во двор, на свежий воздух.
– В Персии, говорят, кони весьма красивые, – допытывалась она. – Слона ты, Артемий Петрович, обезьян и прочих зверей доставил в столицу, а о конях персидских забыл.
– Ну как же, великая государыня! Прислал я из Персии двух арабских аргамаков, сено жуют на вашей конюшне.
– Так то арабские, а я говорю о персидских,
– Персидской породы коней что-то я не видывал ни разу за всю свою поездку, – признался Волынский. – Да и не слыхивал о таковых. Может, их нет в самой природе?
– Есть, – разочарованно произнесла Анна Иоановна. – Скрываешь, небось, от меня. Слыхала я от моих слуг, что ты завёл конюшню в Казани, там у тебя двадцать персидских скакунов.
– Великая государыня, так то кабардинские, каковых и у вас немало!
– Я говорю о персидских, и не лукавь передо мной! – голос императрицы зазвенел. – Негоже обманывать государыню…
– Великая государыня! – всполошился Волынский и опустился на колени. – Ей-богу, нет у меня персидских коней, но коли есть они в природе, то добуду их для вашего величества!
– Есть такие в природе, их ещё небесными называют.
– Убей меня, великая государыня, но я сроду о таковых не слыхал!
– Встань с земли-то, – приказала она, и когда он поднялся, снова упрекнула: – Конный завод в Казани завёл, а сам даже всех пород не знаешь… Мнится мне, душа моя, – обратилась она в Бирону, – что Артемия Петровича следовало бы определить к князю Куракину, по шталмейстерской должности.
– Лучше было бы к графу Левенвольде, – не согласился с императрицей Бирон. – Определим его на звание помощника графа Левенвольде по придворной конюшенной части… Это даст мне возможность постоянно видеться с Артемием Петровичем. После завтрака я сразу прихожу в конюшню. Мне там приятно, но с таким собеседником, как Волынский, вдвое станет приятнее… Кстати, душа моя, – обратился он к императрице, – и тебе пора бы заняться верховой ездой это полезно при полноте и одышке.
Фамильярность Бирона при постороннем не понравилась Анне Иоановне: она на время замолчала, и её собеседники почувствовали, какие недовольные волны исходят от неё. Императрица гут же поняла, что её молчание можно истолковать обидой, и холодно засмеялась:
– Вспомнила всё же! Посол персидский, Измаил-бек, будучи у нас в Санкт-Петербурге ещё при Петре Великом рассказывал старухе Куракиной о персидских конях, а она мне. Три тысячи лет назад был у них какой-то провидец или пророк – вот он и летал на небесном коне к звёздам…
– Сказка, ваше величество, – заметил Волынский.
– А коль кони небесные сыщутся – тогда как? – предупредила его императрица. – Всё у вас, у мужчин, сказки: и змеи многоголовые, и кони с крыльями. Раньше, когда вспоминали об огромном звере с кишкой вместо носа, тоже далдычили, что зверь сказочный, а оказалось слон.
– Ах, матушка великая государыня! – сладкоречиво воскликнул Волынский. – Будет моя воля императорской конюшней заниматься, так я разыщу для вашего величества всех экзотических коней, какие есть на свете. Вам радости прибавлю, а весь двор будет диву даваться, глядя на диковинных скакунов. Но если бы великая государыня пожелала иметь отменных скакунов не только при дворе императорском, а и в конных заводах, понеслась бы слава о русской императрице по всем городам и весям нашей круглой земли! При моём понимании дела мог бы я поставить конные заводы во всех губерниях наших: в Казани, Саратове, Царицыне, на Дону, в Воронеже… А от вас, великая государыня, потребовался бы лишь один указ об учреждении в России конных заводов!
– О, это великолепная мысль! – воскликнул Бирон. – Душа моя, над этим стоит подумать.
– Что тут думать-то, – с готовностью согласилась императрица. – Я давно знаю, что Волынский не князь Куракин, который только и умеет Ленточки в гривы вплетать. Пора, пора нам заняться коневодством. Как своих коней разведём, так и с Англией и Францией станем породистыми скакунами обмениваться. Ух ты! Дух захватывает от одной мысли, какое дело можно развернуть в России. А если ещё удастся тебе; Артемий Петрович, небесных скакунов сыскать, то я эту, шилозадую королеву английскую, на колени перед собой поставлю. Просить будет, умолять, чтобы я подарила ей небесного скакуна!
Волынский весь съёжился от мысли, что нет «небесных коней» и не пришлось бы потерять доверие Анны Иоановны после того, как не сыщутся они ни в одной крае белого света. Но это не скоро будет, да и можно так затянуть с поисками, что на всю жизнь хватит. Волынский задумался, а императрица посоветовала?
– Мог бы ты уже сейчас, Артемий Петрович, заняться проектом об учреждении конных заводов в Российской империи. Подумай, однако, где денег взять.
– Великая государыня, мнится мне, что императорскую казну вовсе не надо трогать. – Волынский распрямился, чувствуя, что всё сказанное им станет в угоду Анне Иоановне. – Мои соображения, ваше величество, ходят вокруг богатых шляхтичей – дворян наших. Всякий из поместных дворян мог бы, при желании, иметь свой конный завод или конюшню.
– Не только шляхтичей надо обязывать, – ревниво вмешался в беседу Бирон, – но и немцев. Немцы – великие мастера конного дела. Само слово «шталмейстер» немецкое. И ветеринаров можно найти только среди немцев; они могли бы заменить всяких знахарей да коновалов, которые не имеют понятия о случном деле по выведению новых пород.
– Президенту Академии, лейб-медику Блюментросту надо повелеть заняться наукой о лошадях, – подсказала императрица.
Волынский, видя, какой интерес вызвало его предложение об учреждении конных заводов, душой радовался: «Быть тебе, Артемий Петрович, первым человеком при императорском дворе – нашёл ты свою жилу золотую, теперь только успевай, не ленись, разрабатывай! А какие сладкие слюни пустил сам обер-камергер – чует, скотина, свою выгоду! Теперь на лошадях он целое состояние сколотит!»
– Бесконечно рад нашему с вами знакомству, – прощаясь, подал руку Бирон. – Вы тот человек, которого до сегодняшнего дня не хватало императорскому двору…
Подала для поцелуя руку и Анна Иоановна. Волынский подождал, пока они поднимутся по портальной лестнице во дворец, и, щёлкнув пальцами, быстро, почтя бегом, отправился в гостиницу, чтобы сесть за прожект об учреждении конных заводов…
Увы, ни в тот день, ни в ближайшие два года ему не удалось приступить к прожекту. Едва он поднялся в свою комнату, на столе обнаружил письмо: генерал– фельдмаршал Миних приказывал ему с утра быть в Военной коллегии. Утром он был в кабинете Президента. Миних, усаживая его к столу, сказал:
– Предстоит, господин военный инспектор, спешная поездка в Данциг. Вновь началась война за польское наследство. Французскому королю неймётся видеть на польском престоле Станислава Лещинского, тогда кая Россия и Австрия стоят за саксонского курфюста Августа Второго… Лещинский сидит в Данциге: поляки запросили помощь, чтобы изгнать его оттуда…
– Господин генерал-фельдмаршал, у императрица имеются другие виды на военного инспектора Волынского…
– Не знаю ни о каких видах! – строго возразил Миних. – Не слышал о таковых распоряжениях от императрицы – ни устных, ни письменных не имею. Там что извольте, господин военный инспектор, ровно через час быть в строю. Кареты уже поданы…
Волынский подошёл к окну и увидел на площади целый кортеж военных повозок и несколько гвардейских рот, кои будут сопровождать генерал-фельдмаршала Миниха с его штабом до Данцига.








