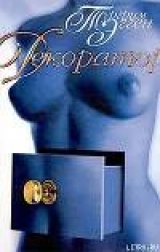
Текст книги "Декоратор. Книга вещности"
Автор книги: Тургрим Эгген
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Для успеха заведения одного интерьера мало. Никто не знает этого лучше, чем я. Но возможность произвести первое впечатление даётся нам лишь однажды, и упускать её неразумно. Поэтому на открытии «Y2K» я занимаю место в партере: сижу на углу бара и наблюдаю за всеми входящими.
Конечно, сегодняшние гости—не те, кто в реальности будет обживать бар. Приглашены в основном друзья и знакомые владельцев и инвесторов, что в последнем случае сильно сдвигает возрастную планку вверх. Кроме того, полно профессиональных тусовщиков всех мастей, начиная от хозяев баров, пришедших оценить конкурента, до журналистов светских новостей. Многочисленный и громогласный десант из глянцевой еженедельной афиши «День&Ночь». С редактором мы знакомы, он подходит с поздравлениями. Для остальных я аноним. Как и для вездесущих свадебных генералов: модного писателя, двух третей женского трио, подписавшего контракт с заморской студией (обе охают и ахают, замечаю я), олимпийского серебряного призёра в чём-то заковыристом и ведущего вечерних новостей. Все при полном параде. О, вот и Аня, редактор журнала об интерьере «Тенденции». Она передвигается под ручку с итальянским фотографом, имя которого я забыл, и, похоже, чуть навеселе. От алкоголя цвет её лица имеет обыкновение сдвигаться на несколько тонов по цветовой шкале в сторону красного. Она направляется прямиком ко мне и чмокает меня в щёку. В этом кругу так принято. Остаётся только учиться с этим жить.
– Вот ты где, греешься в лучах, – подкалывает она меня.
– Я должен видеть, как публика реагирует, – шепчу я ей в ухо.
– Охи-ахи, сам видишь.
Она отцепляется от кавалера и спрашивает его:
– Сходишь за шампанским, ладно? Сигбьёрн, ты будешь?
– Pourquoi pas? – соглашаюсь я, хотя уже выпил один бокал.
– Pourquoi pas? – откликается, бравируя безупречным прононсом, Аня, автор бесконечного, видимо, сериала «Романтический дом в Провансе» (доступного также в виде относительно неплохо распродающейся книги). В ушах этой коротко стриженной крашеной блондинки болтается нечто цвета ляпис-лазури, в тон которой, может, и найдётся нечто в Провансе, но никак не в глубине её глаз, как то было задумано.
– Как тебе? – спрашиваю я тихо.
– Очень. Очень и очень. Но ведь я никогда не скрывала, что ты чертовски талантлив, а, Сигбьёрн?
– И ты будешь писать?
– А то. Хочешь скажу заголовок? «Место, где начинается новое тысячелетие». Стильно, правда?
– Да уж. А ты была в шампанском кабинете?
– Спрашиваешь! Я попросила забронировать мне постоянное место с именной табличкой. Карло уже отснялся. Лучше успеть, пока всё цело, – хохочет она.
Карло. Как же я забыл. У него вид жиголо, которого Аня в отпуске в ненастный день подцепила на пляже. Редкая удача, что он умеет фотографировать. Если умеет. «Место, где начинается новое тысячелетие». Он протягивает нам по фужеру шампанского и шепчет что-то на ухо Ане.
– Потрясно! – откликается она. – Сигбьёрн, слышал?
Каким образом, интересно.
– Это «Конт-де-Шампань»! Нетухло, однако, – бесплатно наливают «Конт-де-Шампань».
– Спасибо спонсору, – говорю я, но вряд ли они меня понимают. Карло предпочитает говорить на подобии английского. Я работал с ним однажды, едва не поседел.
– Как квартира? – спрашивает Аня.
Я смакую шампанское. По-моему, оно всё на один вкус. Не то чтобы невкусное, но неотличимо одинаковое. Перекатывая во рту щекотящийся пузырь, я придумываю ответ:
– Хорошо. Почти готова.
– И когда мы можем прийти?
– На обед? – поддразниваю я.
– Да нет, снимать.
– С Карло?
– Не знаю. Может, и не с ним. Она у тебя... аскетичная? – спрашивает она с вожделением почти плотоядным. Интересный культурологический феномен: автору «Романтического дома в Провансе» жилище рациональное, проще говоря, минималистское, представляется столь пикантным, что она готова смотреть на меня чуть ли не заискивающе.
Я не спускаю глаз с потока прибывающих гостей, особенно я слежу за их взглядом, проверяю, то ли его притягивает и туда ли он смещается, как я запланировал. Зона бара, по замыслу, – стихия карнавала, здесь взгляд дурманится игрой света, скрещением углов и чувственностью материалов. Трудность заключается в вечности этой конструкции, она создана соблазнять вас и во второй раз, и в третий, и в десятый. Пока вы не влюбитесь в неё по уши – так, что не сможете жить в разлуке.
– Аскетичная? – переспрашиваю я задумчиво и чуть мечтательно. – Ну... это квартира для жизни, а не синтоистское святилище. В ней есть туалет, ванная, спальня и кухня. Даже камин.
– Вот так чудо! Я тоже мечтаю о камине, – признаётся автор относительно неплохо распродающейся книги «Романтический дом в Провансе».
– Между нами, свой я тоже собираюсь переделать, но придётся подождать до лета, когда он не будет нужен.
– Мы можем не фотографировать камин, если не хочешь, – предлагает Аня.
В этот момент я чувствую взгляд, который ни на чём не фокусируется и никуда не перемещается. А утыкается в меня.
Это она. Поклонница Уитни Хьюстон. Соседка. Сильвия. Кого она может знать здесь?
Хотя Осло такой муравейник, где все всех знают. На худой конец все непременно знакомы с тем, кто знает всех. Я напрягаюсь как пружина: сейчас её потянет здороваться! – и не сразу замечаю, что одета она менее вульгарно, чем когда я видел её в последний раз. Очевидно, она приехала не из министерства, или где там признаётся практикуемый ею дресс-код.
Она улыбается. Тёмно-серое пальто распахнуто, под ним синее-пресинее переливчатое платье. По обыкновению излишне глубокий тон помады, но вопиюще безвкусно лишь одно – фигура, вернее, что она и не думает как-то её скрадывать. Так и хочется спросить: «Мэрилин Монро приняла смертельную дозу снотворного, Джейн Мейнсфилд свела счёты с жизнью в аварии, Мае Уэст раз за разом перекраивает лицо – её уже не узнать, а ты что, особенная?» Кстати, она, похоже, одна.
– Как насчёт первой среды после Нового года? – спрашивает Аня.
– Что? А... среда после Нового года? Прекрасный вариант. Ты записываешь в план? Тебя не затруднит позвонить и подтвердить договорённость?
– Да нет, – отчего-то гнусавит Аня. Карло пытается увлечь её за собой. Поклонница Уитни Хьюстон пробирается мимо меня вглубь заведения. Отчего же она не подошла поздороваться?
– А можно один личный вопрос? – внезапно спрашивает Аня.
– Насколько личный? – откликаюсь я, прикидывая, сколько можно зависать на «аскетичных» интерьерах и моём садомазо. Аня однажды проговорилась, что, встретив меня с Катрине и поняв, что я не гомик, «отказывалась в это верить». Интересно, зачем выбирать мудрёные специальности, если ты так повёрнут на сексуальности?
– Беспардонно личный. А ёлка у тебя будет?
Меня разбирает хохот.
– Будет. Причём пихта.
– А чем ты её украшаешь?
– Что значит «украшаю»? – опять смеюсь я. – Ты собралась обнародовать мой ответ?
– Нет. Но просто. На ёлку принято что-нибудь вешать. Что-нибудь блестящее. Или детские поделки.
Она дурачится. Я ей подыгрываю.
– Я присмотрел чёрные треугольники и украшу ёлку ими.
Теперь её очередь смеяться.
– А фонарики?
– Скрытая подсветка. Оттеняющая форму и функцию рождественской ёлки, – откровенничаю я.
– Какую такую функцию?
– Очевидную. Функция ёлки – рассказывать людям, что сейчас Рождество и на работу ходить не надо. Кроме того, она служит своего рода биологическим календарём. Если все крайние иголочки осыпались, значит, оттягивать наступление нового года больше не удастся. Тогда уже шутки в сторону.
Я наталкиваюсь на неё, только когда публика редеет настолько, что я начинаю задаваться вопросом, чего я так засиделся тут. Очевидно, только потому, что Катрине дома нет. Тут-то Сильвия и подтягивается – для определения способа её передвижения «тягуче» подходит хоть как-то – и берёт меня под локоток. Бесплатного шампанского больше не раздают, сверх него я позволил себе бутылочку минералки. У Сильвии в руке стакан красного вина; хотя тон её помады эффективно маскирует объём выпитого, тёмный налёт на зубах выдаёт правду.
– Соседушка, дорогой, – говорит она, – что ты здесь делаешь?
– Не надейся, всё прозаично, – отзываюсь я. – Но чур ты первая.
Я решил быть вежливым и компанейским. И не тревожиться, что кто-нибудь заметит меня за разговором с этой женщиной весьма одиозной наружности. Уже поздно, и все кругом беседуют с кем ни попадя. В более формальной обстановке я б, конечно, двести раз подумал. Но правда такова, что нечто в её взгляде привораживает меня. Что-то в глазах. Но что, я пока не улавливаю.
– О, – говорит она, и румянец густеет на пару тонов, – просто я хороводилась с Туре Мельхеймом. Ладно, мы с ним близко дружили. Бывают же в жизни ошибки, верно? Ты знаешь Туре?
Известие удивляет меня, но не до ступора. У Туре, насколько я посвящён, завидный послужной список.
– Знаю. А о какой «ошибке» речь?
– Да ты чего! Он же подсевши. Это первое, что бросается в глаза. Ну, второе, как в моём случае. Про первое не спрашивай, не скажу. А ты?
– Что я?
– Ты здесь чего делаешь? Кто тебя привёл?
– Туре Мельхейм.
У неё глаза на лоб. В буквальном смысле.
– Я построил им это всё.
– Ты???
Она озирается по сторонам, долго-долго. А потом происходит нечто неожиданное, прежде мне не доводилось сталкиваться с подобной реакцией. Она начинает дико хохотать. В этом хохоте клекочет первозданность и безудержность, интригующий звук, жаль, от него мурашки по спине.
– Знаешь, – удаётся ей наконец вымолвить, – знаешь, за кого я тебя приняла, когда встретила на лестнице? Наверняка он книжный дизайнер, сказала я себе, наверняка. Он весь как большой сериф. Прикинь?
– И что?
– Не так уж сильно я ошиблась!
– Не сильно, вроде как перепутала человека с шимпанзе.
– Чего?
– Видишь ли, у шимпанзе нет объёмного зрения. Эту привилегию получили люди, когда слезли с дерева и научились ходить прямо, возможно, это единственная неповторимая особенность человека. Так что книжным графиком шимпанзе быть может, а вот дизайнером интерьера – уж извините.
– Во как, – тянет она. – А так я тружусь в Министерстве по охране окружающей среды, это жена тебе наверняка рассказала. Только не спрашивай, чего я там делаю. Во всяком случае, объёмное зрение мне ни к чему. В бумажках ковыряюсь.
– Катрине мне не жена, мы не расписаны, – говорю я незнамо зачем. – Ну и как тебе нравится?
– Бар, ты имеешь в виду? Такой... симпатичный вроде. Пришлось повозиться?
– Да уж. Мы сломали тут всё до основания. Сегодня это не очень заметно, но здесь супер вентиляция, лучше уже не бывает.
– Мне это без толку, я ж курю. Тебя не напрягает? – спрашивает она и закуривает, не дожидаясь ответа, решительно выдыхает дым мне в лицо, спохватывается и начинает судорожно разгонять облако рукой, будто его можно аннигилировать. Коричневый лак не сочетается с помадой и наложен кое-как. Впрочем, при таких обкусанных ногтях это неважно. Видно, у неё нервы шалят.
– Мне так стыдно за тот бедлам, – говорит Сильвия.
– Забудь.
– А так – у меня не очень орёт музыка? Я страсть люблю музыку.
– Мы слышим музыку, но не громко. Да нет, совсем не громко.
– Предыдущие соседи жаловались всё время. У них детки маленькие.
– У нас нет. Да всё в порядке.
– Главное, не забывайте жаловаться. Если текст можно разобрать – значит, слишком громко.
Тут уж я хохочу, перебирая по части громкости и заливистости. «I will always love you!» И кошу глазом в её сторону. И понимаю наконец. У неё совершенно непуганные глаза, как у маленького ребёнка. Они круглые и чуть навыкате, дымчато-зелёного цвета. Эти глаза не лгут. Они глядят без смущения и видят меня насквозь; от такого открытия меня бросает в дрожь, хотя я чувствую, что у неё нет в мыслях зла. Одно любопытство. Что за странная женщина.
– Приятно было повидаться, – резко выворачивает Сильвия.
– Ты уже уходишь?
Я еле успеваю закрыть рот, чтоб не брякнуть «Я тоже собирался...»
– Нет, но я тут с компанией, они меня наверняка потеряли.
– То есть интерьер тебя не особенно впечатлил?
– Разве я не сказала, что мне понравилось? Я в этом не секу. Все эти модные навороченные места кажутся мне такими... одинаковыми.
– Одинаковыми?
– Ну да, сталь плюс дерево и побольше галогенок.
– Я буду рад показать тебе различия, – предлагаю я с улыбкой.
– Спасибочки. Только можно в другой раз, лады?
И она поворачивается ко мне спиной. Судя по состоянию платья, ей срочно нужен шампунь от перхоти.
Идя к остановке такси, где по случаю новогодних вечеринок вьётся хвостом очередь из сотни крепко поддавших граждан в исключающей возможность ходьбы обуви, я стягиваю у горла лацканы зимнего пальто. Настоящая зима. Простившись с Сильвией, я просидел в баре ещё с полчаса, прислушиваясь к доносившимся время от времени раскатам её смеха. Я ни разу не оглянулся посмотреть, что у неё за компания. По правде говоря, я взревновал, и это так смешно, так банально и настолько не по делу, что я пытаюсь призвать себя к порядку, отбивая нарочито широкий шаг. От затеи с такси я отказываюсь и прибываю домой пешком, через двадцать минут хода.
Хуже не будет, уговариваю я себя, пока ищу мобильный Туре Мельхейма. У него есть и простой, но только редкостные счастливчики могут похвастать тем, что застали его дома. Как все современные электронные кочевники, Туре Мельхейм тяжёл на подъём, примерно как ртуть.
Он отвечает после второго гудка. На удивление бодро, учитывая, который сейчас час. В трубке развесёлый шум. Не исключено, что он в «Y2K».
– Туре? Привет, Сигбьёрн.
– Сигбьёрн! – вскрикивает он с жаром. – Эх жаль, ты не здесь! Народу полно, веселимся.
– Здорово.
– Здорово? Ты б слышал, как нас нахваливают! Охи, ахи, растатахи – офигеть... Это Сигбьёрн! – вопит он неожиданно кому-то. – Подожди, с тобой хочет поговорить мой друг!
Едва он отставляет мобильник от уха, шум усиливается. Он что-то кричит вдогонку, я не разбираю, потом прорезывается другой мужской голос, пьяный и невнятный, хотя решительный и самоуверенный.
– Сигбьёрн? Эйнар Сюлте. Должен сказать, мне интерьер очень понравился. Один из лучших, и не только в Осло. Алло, ты меня слышишь?
Слышу. И, можно сказать, трепещу. Эйнар Сюлте, валютчик. Самый важный и самый агрессивный из биржевых игроков. Говорят, он оказывает такое же влияние на курс кроны, как министр финансов и глава Центробанка, вместе взятые.
– Да, слышу, – пищу я прерывающимся голосом. – Это слишком щедрая оценка.
– У меня к тебе дело, – булькает он, – я тут взял небольшой домик, ты не можешь на него взглянуть, а? Безо всяких обязательств, само собой.
Попробовать представить себе, какого размера дом Сюлте считает «небольшим», мне едва ль по силам.
– О чём речь, – и добавляю по привычке: – Правда, сейчас у меня завал.
– Не слышу? Не бойся, о приятельских скидках речи нет. Я знаю от Туре, сколько этот поганец тебе заплатил, так вот, по-моему, этого парня следует выдрать. Всыпать по первое число, по старинке. Но поговорить-то мы можем?
– Конечно можем, – отвечаю я.
– Тогда я возьму у Туре твой номер. А ты часом не к нам едешь?
– Нет, сегодня вечером я собирался быть дома.
– Тогда отложим до нового года, идёт?
– Хорошо. Можно Туре обратно?
Снова шум. Теперь играет джаз.
– Дарю знакомство, – нагличает Туре, явно слышавший беседу. – Всё держится на связях и знакомствах. Не откажись от такого предложения, будь умненьким. И станешь богатеньким-пребогатеньким, – прыскает он.
Туре Мельхейм явно находится под воздействием чего-то, возможно, латиноамериканского.
Если начистоту, у меня к предложению Сюлте отношение двойственное. Работать для людей этого сорта – не сахар. Self-made, самые тяжёлые клиенты. Таким подавай помпезную буржуазность. Роскошь и представительность. Но поговорить с ним я обязательно поговорю. Не полный же я псих.
– Кто бы говорил. Но я звонил спросить о другом. По-свойски.
– Выкладывай.
– Что ты можешь мне поведать о красотке по имени Сильвия?
Недолгая пауза.
– Сильвия? Хм. Подожди-ка, я перейду в кабинет.
Проходит несколько секунд, потом шум затихает, и возникает голос Туре, медово-бархатный.
– Так-так, стакнулся с Сильвией? – вцепляется он. – То-то я заметил, вы любезничали на открытии. Забавный кадр. Но разве ты, типа того, не женат?
– Типа того, да. Но любопытство есть любопытство.
– Любопытство – вещь опасная. Куда опаснее, чем ты думаешь. Но только – строго между нами мальчиками, лады?
Я серьёзно киваю, потом вспоминаю, что он меня не видит и говорю: «Да».
– Сильвия девушка ненасытная, ей всегда мало.
– Мало чего?
– Не прикидывайся, ага? Это моя личная теория, но мне кажется, её подтверждает весь мировой опыт, и она гласит, что жирные девки в разы похотливее тощих. Им всегда давай ещё.
– Я предпочитаю слово «полные», – возражаю я.
– Что они полные, это правда. Тело у неё на пять, только его как-то много. Зато пизда с совершенно потрясной подушкой, и всегда мокрющая. Наша малышка Сильвия прямо-таки волчица сексуальная.
От такого излишне доверительного и пикантного заявления я чувствую себя неловко, но Туре Мельхейм только вошёл во вкус.
– Учти, как она кричит и стонет – это нечто. Я боялся, что соседи вызовут полицию. Когда ты зайдёшь так далеко, – если ты, конечно, собираешься зайти так далеко, – не забудь пофранцузить. У меня потом вся морда пошла прыщами, но оно того стоило.
– Заметь, – вставляю язвительно я, – ты ещё ничего не сказал о ней самой, только о сексе.
– А чего скажешь? Сам видишь. Она какой-то чин в министерстве. Не хило, да? Так и возвращается доверие граждан к бюрократии. Но полная ку-ку.
– Что значит «ку-ку»?
– Не знаю. Маргиналка альтернативная. Пыталась таскать меня по театрам. Представляешь? Как будто я могу три часа просидеть на месте. Она скорей для твоего гербария, Сигбьёрн.
– А дома у неё ты был?
– Один раз. У неё здоровенная квартира в доме начала века. Наследство, видимо. Забитая вещами под завязочку. Кипы старых книг, и я подозреваю, что она их читает. Собирает слонов. Что во мне клёво, так это слоновья елда, прикинь?
Объяснять, что я поселился точно под ней, мне в этот момент не кажется строго необходимым.
– И сколько это длилось?
– О, недолго. От силы пару месяцев. В позапрошлом году. Два месяца – самое оно. Знаешь правила эксплуатации толстых тёлок и японских мотоциклов?
– И кто прекратил отношения?
– Я. По крайней мере, я считаю, что я. Но что интересно – от таких коротких интрижек остаются самые добрые воспоминания, без горечи и обид. Мы с ней и сейчас друзья, но не такие близкие. О чём я начинаю грустить всякий раз, как вижу её. Но не вздумай ей это передать. И вообще ничего из моей трепотни не повторяй.
– Да нет, конечно, ты что.
– Всё это между нами, мальчишками. Так что с моей стороны малышке Сильвии наилучшие рекомендации. Чудо что за пизда с подушкой.
Он выдерживает многозначительную паузу.
– Но если тебя интересует моё мнение, лучше б ты обхаживал Эйнара Сюлте. Пиздомотины – одна из постоянных бытия, чего не скажешь о хорошей работе. Поговори с ним. Прости, мне пора.
– Поговорю я с Сюлте, обещаю.
Он вешает трубку. И как это Туре Мельхейму удаётся пошлить до того буднично и легко? Не мой стиль. Поэтому меня беспокоит, с чего вдруг беседа с ним вызвала у меня такую выдающуюся эрекцию?
– Что-нибудь уже сделали? – спрашиваю я, входя в гостиную после отлучки в туалет.
Аня сидит на прежнем месте. Кончилось всё Аней. Она, по крайней мере, может писать буквы под диктовку. Мочки её ушей оттягивают какие-то кульки из серебра. Не без изюминки. Я всегда говорил: чтобы носить массивные серьги, женщине следует коротко стричься.
Молодой человек с козлиной бородкой, имя которого я уже забыл, хотя нас представили, устанавливает на штативе мощный прожектор и гигантские отражатели из матового плексигласа. Карло, стоя на коленях, роется в одном из четырёх или пяти чемоданов с аппаратурой. Его камера уже стоит на штативе. В гостиной чудовищный беспорядок. Они пасутся здесь уже три с половиной часа, но пока что не сделали ни одного снимка.
– Сигбьёрн, мы всё уберём, – говорит Аня с усмешкой.
– Отлично. Но это что?
Я показываю на стол.
– Я хотела спросить то же самое, – откликается Аня, вытаскивая из спирали на фирменной записной книжке формата А6, обёрнутой в волнистую бумагу, чернильную ручку.
Этот стол ничего ей не говорит.
– Автор этого стола – Исаму Ногучи, спроектирован он в 1944 году, но в производстве лишь с 1947-го, – пишет она под мою диктовку.
– У него есть название?
– Мне встречалось наименование «Биоморфный стол», но у меня нет стопроцентной уверенности, что это авторское название. Скорее всего, нет. Ещё он известен как «IN-50», что более в стилистике сороковых. Исаму Ногучи, потомок иммигрировавших в Америку японцев, прославился также как автор первой радионяни—устройства, позволяющего родителям и другим взрослым на расстоянии слышать то, что происходит с младенцем в детской. Он сконструировал его в тридцатые годы, после истории с похищением сына Линдбергов, – рассказываю я.
– Очень интересно, – подбадривает Аня, не переставая строчить.
– Написать тебе слово «биоморфный»? – спрашиваю я с предупредительной язвительностью.
– Да, пожалуйста, – отзывается она. – Потрясающе стильный стол.
– Спасибо. Но к чему вот это?
– Что к чему?
– Вот именно. Это я тебя должен спросить: какую ситуацию ты хочешь воспроизвести на фотографии?
– Сигбьёрн, я не совсем понимаю, куда ты клонишь.
Аня улыбается. В их кругах у меня репутация «трудного» кадра, и Аня приготовилась к самому худшему.
– Тогда послушай. Фотографии к такому репортажу должны показывать некоторые мгновения повседневного течения жизни в заданном интерьере, так? То, что американцы назвали бы slice of life – срез жизни.
– Совершенно верно.
– Ты собралась показывать день или ночь?
– День, я думаю. По-моему, ребята выставили дневной свет.
– Прекрасно. Тогда следующий вопрос: что сейчас происходит в гостиной?
Она таращится на меня во всё глаза. Такими вопросами её коллеги себя не мучают. Поэтому интерьеры во всех глянцевых журналах выглядят так, будто хозяева трагически погибли в автокатастрофе, а квартиру прибрали, пропылесосили, отмыли и вот теперь выставили на продажу.
– Ну... так... ничего особенного.
– Совсем ничего, сказал бы я. Будь здесь люди, на столе стояла бы чашечка кофе или пепельница, если мы курим, на худой конец – книга или газета. Разве не так?
– Ты про вазу?
– Не обязательно.
Ваза не моя. Её притащила стилист с французским именем (Моник, что ли?) и поставила на столе, чтобы «смягчить», читай «феминизировать», атмосферу. Как показывают исследования, поведала мне Аня, аудитория «Тенденций» на семьдесят четыре процента состоит из женщин. Хотя каждый четвёртый читатель – мужского пола (это лучший среди аналогичных изданий показатель), но три четверти больше, чем одна. Ваза мне случайно понравилась. Она квадратная с округлыми матовыми стальными бортиками, что удачно не совпадает с размытой треугольной формой стола. Alessi, я полагаю. Обычно у меня на столе ничего не стоит, но это не догма.
– Значит, мы сошлись на том, что в гостиной в момент съёмки ничего не происходит. Людей в кадре тоже не будет, если я правильно понял?
– Мы предполагали, что не будет.
– То есть я прав, утверждая, что мы собираемся изобразить гостиную за секунду до того, как здесь кто-то появится, гости например. И наша цель – максимально привлекательный вид комнаты, чтобы человеку, фигурально выражаясь, захотелось войти в фотографию и расположиться за моим столом от Ногучи?
Продолжая улыбаться, она кивает:
– Хорошо сказано. Это гостиная за мгновение до того, как здесь кто-то появится, к примеру наш читатель.
– Который, продолжая твою метафору, как бы будет моим гостем?
– Продолжая метафору, да.
– И чем же я собрался угощать гостя?
– Сигбьёрн, пожалуй, мы не будем расписывать весь сценарий, да?
– Нет, ты меня не понимаешь – в вазу я что положил?
Она таращится оторопело.
– Лаймы. Восемь штук.
– Да, восемь штук, и все лаймы.
– Это очень фотогеничный фрукт.
– Вполне вероятно. Но я не имею обыкновения предлагать своим гостям жёсткие кислые лаймы. С кожурой и косточками. А ты?
– А вдруг вы будете пить текилу? – не теряется Аня.
– Текила с солью и лаймом – это хит двадцатилетней давности. К тому же на столе нет ни соли, ни текилы. Хочешь знать, на что это всё похоже?
– Хочешь, мы это поменяем? – дипломатично предлагает Аня.
Я понижаю голос:
– Это похоже на то, что в квартире похозяйничал безграмотный стилист, который положил лаймы в вазу из-за того, что они... радуют глаз, – шиплю я.
– Знаешь что, Сигбьёрн ...
У нас за спиной возникает Карло, он обнимает меня за плечо.
– Я согласен с Сигбьёрном. Лаймы убираем. Это клише заиграно.
– Если вы любите цитрусовые, пусть будут апельсины, – предлагаю я.
Аня шокирована:
– Ни за что. Пока я жива, в «Тенденциях» не появится фото с апельсинами.
– Потому что они съедобные? Ладно, я согласен на поме́ло.
– Что это за помело? – спрашивает Аня.
– Разновидность зелёного грейпфрута, – отвечает Карло, делавший съёмки для нескольких поваренных книг.
– Моник! – кричит Аня, и вышеназванный стилист является шаркающей походкой из кухни, где она в этот момент творила бог знает что. Разводила кувшинок в раковине, а то и похуже. У Моник длинные чёрные волосы, тёмно-синий костюм с белой манишкой, сколотой на горле брошкой с жемчугом, низкие лодочки. Она выглядит как особо дорогостоящая гувернантка.
– Сигбьёрн спрашивает, можно ли поменять лаймы на... как это называется?
– Помело.
– Что это за помело? – спрашивает Моник.
– Разновидность зелёного грейпфрута, – привычно отвечает Карло.
– С оригинальной припухлостью у плодоножки, – добавляю я.
– И где его берут? – спрашивает стилист будто бы на полном серьёзе.
Меня заносит, и я отвечаю с наглой непосредственностью:
– На рынке Сульбарторгет.
Моник умоляюще косит на Аню. Редактор подсчитывает, загибая пальцы, и приходит к очевидному выводу, что ни бюджет, ни расписание не позволяют посылать Моник через полгорода за фруктом, о котором она слыхом не слыхивала. Всё-таки в съёмочной группе четыре человека, из них по крайней мере двое на почасовой оплате.
– Лаймы так радуют глаз, – простодушно выпаливает Моник.
Аня взмолилась прежде, чем я успел открыть рот для ответа:
– Нет, нет и нет. Ещё раз обсуждать всё снова мы не будем. Вазу убираем. Как насчёт цветов?
– К вазе у меня никаких претензий нет, – говорю я честно.
– Она не может стоять пустой! – огрызается Аня.
– А если кинуть в неё пачку сигарет? – предлагаю я. – «Житан», например. Мне очень нравится их пачка. Кстати, работа Кассандра.
– И что нам скажут на это рекламодатели? – возражает Аня. – И ты же вроде не куришь?
– Нет, но такого случая ради можно отрядить кого-нибудь купить пачку.
По Моник видно, что перспектива объездить пол-Осло в поисках магазина, торгующего «Житан», вдохновляет её не более поездки на рынок.
– Я просто хочу помочь, – обижаюсь я. Карло начинает ржать.
– Цветы! – кричит Аня. – Ставим на стол цветы. У нас ещё пять съёмок. Мы не можем так тратить время.
– Цветы должны быть белые или жёлтые, – чеканю я. – И смените эту банальную вазу Альвара Аалто. Не то выгоню вас.
Моник уходит за цветами и вазой.
Вот и имей дело с модными журналами. На секунду нельзя отвернуться, как у наковальни.
В довершение фотосеанса, когда остаётся только навести свет и запечатлеть ванную – но и это из-за минимального размера помещения оказывается делом небыстрым, – Аня затевает интервью со мной. Мы устраиваемся за кухонным столом, и я завариваю чайничек зелёного чая («Nagata Organic Sencha» из магазина здорового питания). Вообще-то его потребляет Катрине по поводу занятий йогой, но мне захотелось попробовать; похоже, Ногучи натолкнул меня на эту мысль. Аня расценила угощение как высокую степень посвящённости.
– Ты вдохновлялся японским дизайном? – спрашивает она.
– Не впрямую, но я бывал в японских ресторанах, оформленных привлекательно. Японцы мастерски обращаются с деревом, любят обнажать структуру и ценят свободные поверхности. Скрытое влияние японской культуры и японской манеры освоения пространства неоспоримо и, можно сказать, неодолимо.
– Что ты имеешь в виду?
– Только то, что многие постулаты функционализма сложились под японским влиянием, тут сыграли свою роль и выставки рубежа веков. Японцы указали путь к архитектуре, очищенной от орнаментов, выстраивающей диалог с природой, а вовсе не вступающий с ней в диалектическое противоречие, как то в массе своей делала тогдашняя европейская архитектура.
Горький, насыщенный вкус «Nagata Organic Sen-cha» усиливает вес моих откровений, обычно постигаемых на первом курсе. Но Аня стенографирует. Я вижу, как вдумчиво она работает над словом: «диалектический» понятно не всякому, поразмыслив, она решается вычеркнуть его. Вот что значит репортёр и редактор в одном лице.
– Но дом, где ты живёшь, европейский на двести процентов, – пытается она поспорить.
– Да, хотя и в «ар нуво», прекрасным образцом которого он является, чувствуется слабое влияние восточного примитивизма. То, что раньше называлось «китайщиной». И даже драконовская тематика, которой мы привыкли гордиться как исконно скандинавской, на самом деле имеет китайское происхождение. Ничто не указывает на то, что в эпоху саг норвежцы украшали свои дома головами драконов. Но если говорить об осознанной «японистике» в норвежской архитектуре, то она появляется многим позже, например у Сверре Фена или в постройках Люнда-Слаатто, хотя это уже выходит за рамки нашей темы, – добавляю я с улыбкой.
Она кладёт блокнот, делает глоток чая и перелистывает страницу, открывая новую тему.
– Скажи, Сигбьёрн, многим ли ты жертвуешь, чтобы жить так?
– Что значит «жертвую»?
– Я думаю о порядке. Ясно, что любой человек прибирается перед нашим приходом, но у тебя въевшийся порядок: у тебя заметно меньше вещей, чем у всех остальных людей, и каждой, похоже, раз и навсегда установлено место.
– Многие остальные люди могли бы прилежнее выбрасывать ненужное.
– Да, но многие сентиментально относятся к своим вещам. Они их любят и берегут.
– Ты о каких вещах?
– Свадебная фотография, например. У тебя ничего подобного и в помине нет.
– Мы не сочетались браком.
– Хорошо, а свадебное фото родителей? Или портрет дедушки с бабушкой?
– Ты представляешь себе моих прародителей? – усмехаюсь я.
– Ответ циничный.
– Немного... Само собой, такие фотографии есть и у нас, но мы храним их в альбомах. Тебе кажется, лучше было расставить их на каминной полке?
– Так часто делают. Или вешают детские рисунки.
– Я заметил.
– У тебя есть одна картина и один архитектурный эскиз, тот, что висит в кабинете.
– Это моя текущая работа. Она висит на стене для дела.











