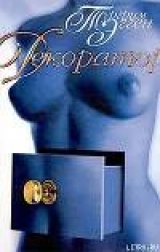
Текст книги "Декоратор. Книга вещности"
Автор книги: Тургрим Эгген
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
В бокалах темнеет нечто цвета кирпичной кладки.
– И мне бы хотелось, чтобы вы прочувствовали – это не просто красное вино. Лучшим в мире красным вином считается померольское шато-петрюс. То, что я предлагаю вашему вниманию, кощунствуя, можно назвать «всего лишь шато-ля-флёр-петрюс». Две особенности отличают лучшие померольские вина. Во-первых, виноград растёт на очень влажной почве, почти что на голубой глине; во-вторых, используется виноград сорта мерло, а не каберне-совиньон, привычного для большинства бордоских вин. Да, небольшие примеси каберне-франк и каберне-совиньон имеют место, но доминирует мерло, выращенный на глинистых почвах в провинции Помероль, вкуснее которого не бывает. Обратите внимание, как раскручивается спираль чарующих ароматов этого напитка, почувствуйте их льстивую, чувственную, искусительную нотку...
Мы опять обедаем у Тани с Кристианом.
– Ну, выпили, – говорю я.
В кои-то веки раз Кристиан описал вино как есть. Хотя я подозреваю, что это просто обострилось и утончилось моё восприятие. Я заметил в последние дни, что еда и питьё стали вкуснее, цвета насыщеннее, контуры чётче, а мысли и чувства яснее. Мне потрясающе работается, рисунки и эскизы сыплются из меня как из рога изобилия. Чего ещё? Я без оглядки отдался на волю этого цунами креативности, и пока оно не разбилось о скалы, мне неважно, что его породило.
Или кто.
Меня грызёт любопытство: насколько всё заметно Катрине? Подозревает ли она что-то? Непохоже, кстати. Во всяком случае, за обедом она ведёт себя в своей стандартной манере, разглядывает приборы, опасаясь в них запутаться, ловит каждое слово Кристиана, расспрашивает его об общих друзьях, мне неведомых, и обстоятельно пересказывает дурацкие истории, с ними приключавшиеся. Она позволила себе пару раз замечания типа «Что это с тобой, Сигбьёрн? Ты в прекрасном настроении!», но не больше, никаких неприятных вопросов. Бедняжка Катрине! В том, что совершается, нет её вины. Я надеюсь только, что разрыв, когда до него дойдёт, свершится елико возможно без боли и ожесточения.
Мы поглощаем спагетти под соусом из сливок и пьемонтских трюфелей, добытых лично Кристианом с таким, если судить по его рассказу, трудом, как если бы речь шла о кокаиновых делишках Туре Мельхейма, а не о покупке пищи. Таня, как всегда, не в духе.
Я рассказываю о Карле-Йоргене Йэвере и его оргононе, о том, как я намаялся, разыскивая чертежи, и для чего эта штуковина предназначена. Кристиан, как выясняется, толком не слыхивал о Вильгельме Райхе, но он отказывается верить, чтобы в наши дни кто-то всерьёз мог воодушевиться такой теорией. Небось он сам психиатр, говорит Кристиан. Имени я, понятно, не называл.
– Ошибаешься, – отвечаю я. – Насколько я знаю, он директор по маркетингу фармацевтической компании. Ездит на огромном джипе, почти что танке.
– И живёт, надо понимать, с чёрной кассы, – шутит Кристиан.
– А что за компания? – спрашивает Катрине, имеющая знакомых и в этом бизнесе.
– Не могу сказать, – отступаю я.
– Да ладно, – гудит Кристиан. – Ты уже выдал всю подноготную. А вдруг мы знаем этого оргонного маньяка?
– Нельзя продавать своих пациентов. Не долго я продержусь в декораторах, если начну болтать по всему Осло о бредовых задумках, которые они мне доверяют.
– Всё равно ты уже всё растрепал, чего теперь скрывать название фирмы, – с этими словами Кристиан делает движение, будто застёгивает рот на молнию, и говорит: – Дальше этой комнаты сказанное не уйдёт.
– «Интерфарма» в одно слово, – капитулирую я.
– Никогда не слыхал, – откликается Кристиан.
– Я тоже, – разочарованно поддакивает Катрине.
Тут-то Таня и открыла рот, впервые за последние минут двадцать:
– Если он работает в «Интерфарме», он может позволить себе не только на танке ездить, – роняет она; губы змеятся кривой усмешкой.
– Что ты имеешь в виду? Ты знаешь эту фирму? – спрашивает Кристиан.
– Вы вообще газет не читаете? – фыркает Таня.
– Я прочитываю культурную тетрадку «Афтен-постен» каждый божий день, – протестует Кристиан. Я помалкиваю.
– «Интерфарма», – начинает Таня, – это международная фирма, которая в первую голову ведёт торговлю с Ближним Востоком и Восточной Европой, Балканами и бывшими советскими республиками. Центральный офис у них в Москве.
– Это похоже на правду, – говорю я, вспомнив письмо Йэвера.
– Как принято в России, бизнес полностью мафиозный. Они скупают на Западе залежалые, часто просроченные лекарства по бросовым ценам. А продают их правительствам или режимам, которые не придираются к таким мелочам. Например, Ираку и Сирии. До недавнего времени их клиентом был Узбекистан.
Её глаза сузились в щёлочки. Я чувствую, что сейчас последует что-то неприятное.
– Восемнадцать месяцев назад узбеки купили у «Интерфармы» большую партию пенициллина. Якобы произведённого в Австрии и приобретённого агентами «Интерфармы» на торгах в Вене. Беда в том, что это оказался не пенициллин. А стимулятор сердечной деятельности, довольно широкого спектра и сам по себе безобидный. То есть опасный для жизни только младенцев. Но, к несчастью, Узбекистан такая страна, где антибиотики – это первое, что назначают грудничкам. Так что на совести твоего приятеля, этого ценителя оргонона, сотня-другая узбекских детишек.
Она снова презрительно кривит губы. Я молчу.
Кристиан пытается спорить:
– Узбекистан! Естественно, никто из нас об этом не слышал.
Она отвечает холодным взглядом:
– Мы не будем сейчас обсуждать тот малоаппетитный факт, что норвежские газеты едва интересуются тем, что происходит за пределами страны, – за единственным исключением похождений Моники Левински. Но в данном случае речь идёт об участии в «Интерфарме» норвежского капитала, в связи с чем один из членов правления вынужден был давать публичные объяснения. Об этом писали все газеты, и, если не ошибаюсь, прошёл репортаж в «Новостях».
– Когда это было? – спрашиваю я.
– Недавно. Перед Новым годом.
После того, как я взял работу, думаю я.
– Очевидно, что Сигбьёрн не имел об этой истории ни малейшего представления, – спешит на выручку Катрине.
Я задерживаю дыхание.
– Я действительно ничего не знал. Но вопрос в другом – могу ли я теперь брать от него деньги? Это была трагическая оплошность?
– Оплошность или накладка из числа неминуемых, если главная твоя цель – быстро сделать большие наличные деньги. Он акционер, не знаешь?
– Понятия не имею.
– Мне кажется, надо забыть про этого заказчика, и всё, – вдруг заявляет Катрине.
– Что за чушь! – вскидывается Кристиан. – Урон уже нанесён и меньше не станет. А Сигбьёрн к лекарствам отношения не имеет, он просто строит этот, как его, аккумулятор оргонной энергии.
– Мы обойдёмся без этих денег, – настаивает Катрине. – Существуют этические нормы.
Как умеет хорошее настроение в секунду улетучиваться. Я сижу, вперившись взглядом в стол. Отпиваю глоток вина, но то же самое шато-ля-флёр-петрюс 1983 года теперь отдаёт нафталином – запах тяжёлый, как в больничном коридоре. Катрине ведь не видела дома, так? И рисунков моих не видела. И ей невдомёк, какой амбициозности мечты и надежды связаны у меня с домом Корсму. Вернее, с дворцом лекарственного афериста. Хорошо же, подруга, держись: мой ответ будет жесток и беспощаден.
– Не думаю, что именно тебе надо оперировать такими высокими категориями, как этические нормы, – говорю я сквозь зубы.
Катрине цепенеет:
– О чём ты говоришь?
– Об этике. До сих пор я не считал возможным упоминать об этом, но каким именно образом компании Hennes&Mauritz, ответственным работником которой ты являешься, удаётся держать цены ниже, чем всем остальным производителям готовой одежды? С какой целью ты мотаешься на Филиппины каждые два месяца? Что за интересы там у Н&М?
– Это совершенно несправедливо, – начинает Катрине.
– Детский труд, – холодно говорю я. – Я видел по телевидению репортаж об этом. Ловкие, проворные детские пальчики... на том и держится ваша мировая империя. Вместо топ-моделей в неглиже и купальниках под новогодней ёлочкой...
– Это просто клевета! – кричит Катрине.
– ...вы должны бы рисовать на своих рекламных щитах филиппинских девчушек...
У Тани такой вид, будто её сейчас вырвет. Кристиан ухмыляется; он, наверно, первый раз видит, как мы ругаемся.
– Это клевета! – повторяет Катрине.
– Ты безбожно наивна, – чеканю я. – Просто твой тамошний компаньон работает через посредника, дабы не шокировать тебя во время твоих инспекций лицезрением девочек с чёрными кругами под глазами. Расценки ведь не поднимались, да? И, зная обо всём этом, ты уже много лет работаешь в Н&М. Так что не надо читать мне нотации про «этические нормы», тебе это не идёт.
Катрине вскидывается возразить, но вместо членораздельного предложения выходит клацающий рык. Она кидается на меня, как злющая собака, слава богу, поводок не пускает.
– Ну что ж, счёт один—один, – гудит Кристиан благостным тоном добродушного миротворца. – Сигбьёрн убивает младенцев, Катрине рабски использует детский труд. Кстати, вы пока не планируете своих?
Секундная пауза. Интуитивно я бросаю взгляд на Таню, на лице её блуждает пародия на улыбку Моны Лизы. Вылитая Джоконда в ожидании степени магистра социологии. Она перехватывает мой взгляд, и зрачки у неё расширяются ровно настолько, что я всё понимаю.
– Поздравляю, – шепчу я так тихо, что слышно только ей.
– Сигбьёрн отказывается иметь детей, – рапортует Катрине. – Сначала я думала, что это из-за его собственного трудного несчастливого детства, но теперь понимаю, что он просто боится за свою мебель.
Кристиан заходится хохотом.
– Тише, не пугай, – говорю я. – Таня беременна.
– Да нуууууууууууууу! – выдыхает Катрине. – И когда?
– В июле, – говорят они хором. – Так что я успею сдать экзамен, – добавляет Таня.
– Как здорово! —курлычет Катрине. – Надо за это выпить!
Мы выпиваем, и Кристиан приносит десерт: запечённые персики с начинкой из сливы в шоколаде и бутылочку рейнского. Он предлагает, такого случая ради, финальный аккорд в виде шампанского – специальное кюве «болленже», – и я понимаю, что и Таня с Кристианом так же одиноки, как мы. И у них тоже никого нет. Сегодня затея с шампанским кажется мне превосходной. Лишь бы не оставаться наедине с Катрине.
– Признаюсь, я и не подозревал, что имею дело с индивидуумами, столь сомнительными с морально-этической точки зрения, – произносит Кристиан, обращая всё в шутку. Он хозяин и не намерен делать вид, что вечер омрачала ссора.
– Не слушайте его. Знали бы вы, как издательства обращаются с авторами, —Таня так хохочет, что на секунду, правда лишь на одну, мне удаётся представить её оживлённой.
Карл-Йорген Йэвер не похож на детоубийцу. Сейчас ещё меньше, чем прежде. За эти недели он поправился на пару килограммов и сменил очки на нечто невесомое в роговой, если не черепаховой оправе, смягчившее черты его лица. Довольно смуглого – видно, Йэвер побывал на юге. Но где, я спрашивать не стану, у меня вообще нет охоты беседовать о его делах, особенно теперь, когда я всё узнал. Любопытство отступило, сменившись гадливостью особого рода. Проблема же в том, что Йэвер относится ко мне так приязненно, так по-приятельски, что дистанцию выдержать нелегко. Это заказ, уговариваю я себя, самая обычная работа. Но вдруг чужой виной можно заразиться? Вот ведь кто-то оборудовал жилище для Йозефа Менгеля, ангела смерти из Освенцима, неужели он в ответе за приказы, которые рождались и отдавались в тех стенах? Наверно, в ответе, по крайней мере за то, что выстроенное им пространство создавало у жильца фальшивую, усыпляющую иллюзию непоколебимости миропорядка, что символика и декор убеждали Менгеля – он врач, настоящий, помнящий клятву Гиппократа, по воле случая приставленный к работе не из самых чистых. Наверняка жильё было устроено наподобие панциря, который ограждает от мук совести и заслоняет неприглядную реальность за окнами. Почему-то я вдруг вижу жену Менгеля, представительную докторшу с перманентом на голове, одетую практично, но с лёгким флёром романтичности, согласно моде сороковых; она задёргивает тяжёлые шторы, зажигает свечи и разливает суп по тарелкам из фамильного фарфорового сервиза в цветочках, и, наверно, раскуривает какое-нибудь благовоние с резким запахом, чтобы перебить смрад от труб крематория...
Я не собираюсь защищать Карла-Йоргена Йэвера панцирем. Как раз наоборот.
Он сидит рядом в своём танке, подобравшем меня у подъезда. Мы сошлись на том, что лучше всего обсуждать чертежи в доме, чтобы ориентироваться по месту. В последние дни навалило снега, и первое, что я вижу, подъехав к вилле, – фасад надо подкрасить. До снежной белизны ему далеко. Я озвучиваю свою мысль, клиент согласен.
Как дом устроен изнутри, я знаю назубок, наверняка лучше Йэвера. Я столько корпел над чертежами, что от входной двери вижу всё насквозь аж до самого сада, как Супермен с его глазом-рентгеном. С помощью рисунков я пытаюсь объяснить Йэверу, как дом будет выглядеть, хотя понимаю, что он не в силах представить себе этого.
– Так что, если ты согласен, мы начнём на той неделе ломать стены, – говорю я, дав ему время полистать чертежи.
– А пол? – спрашивает он.
– И пол. Хочешь посмотреть образцы того, что я приглядел?
Да, он хочет. У меня в папке есть пробник бразильского ореха, четырёхугольная плитка размером примерно с лист А4. Доска довольно толстая и, на мой взгляд, потрясающе красивая, тёмная, с глубоким блеском и частыми, но не рябящими в глазах прожилками.
– Лак слишком, на мой вкус, блестящий, я предполагал сделать более матовый. Это они для образца взяли глянцевый, он смотрится импозантнее на маленьком фрагменте, – объясняю я.
– Мне нравится, – говорит Йэвер, поглаживая дерево пальцами, взад-вперёд. – И ты говоришь, он вечный?
– Сигариллы, которые ты куришь, у тебя с собой?
Он запускает пальцы в карман куртки и выуживает плоскую металлическую коробку. Вынимает из неё изящную сигариллу прикуривает от золотой зажигалки, отдаёт мне, а я прижимаю её к паркетине и держу так, долго, пока не гаснет.
– Обычно сигареты так не приклеиваются, – замечаю я, – если только нарочно кто-нибудь. Теперь смотри!
На поверхности осталось тёмное пятнышко, но я слюнявлю большой палец, тру и – раз! Пятно исчезло. Оно не проникло глубже лака.
– Само это дерево поджечь невозможно, разве что полить бензином.
– Честное слово, я никогда не лью на пол своей квартиры бензин и не поджигаю.
– Ты удивишься, что люди вытворяют в своих домах. Жаль, с нами нет женщины на острых шпильках, но мы попробуем сымитировать этот весьма распространённый способ надругательства.
Я беру молоток, кладу паркетную плашку на пол и принимаюсь долбить по ней с изрядной силой, потом прошу Йэвера провести рукой.
– Ничего! – восхищённо выдыхает он.
– Теперь со всей силы, – говорю я и бью так, что плашка подскакивает в воздух на несколько сантиметров. – Я стукал углом молотка. Пощупай!
– Крохотная вмятина, – говорит Йэвер.
– Угу. Если ты скинешь со второго этажа даму в сто кило весом и она приземлится точно на острие шпилек, останутся такие вмятинки. Заметь, что дерево не треснуло, а лишь прогнулось во вмятине. Хочешь посмотреть, что станет с нынешним паркетом, если я его так же долбану?
– Пожалуй, не стоит. Я, пожалуй, не знаю ни одной барышни в сто кило весом.
– Не думаю, что можно достать натуральный материал прочнее. Камень или мрамор треснули бы, а керамическая плитка раскрошилась вдребезги. Хотя, по правде говоря, я выбрал это дерево из-за его красоты.
– Оно очень дорогое? – спрашивает Йэвер.
– Мрамор вышел бы дороже, но бразильский орех относится к самым дорогим паркетам. С другой стороны, я не вижу, как такой пол, если мы его уложим, может упасть в цене. Если ты захочешь продать дом, ты получишь деньги назад.
– Ты думаешь?
– Если продавать тому, кто что-то в этом смыслит, то да. Вне всякого сомнения.
– Вообще-то каменный пол мне тоже нравится. По-моему, красиво.
– Пол – это основа всего, и хорошо, что мы, принимая решение, перебираем все альтернативы. Я лично люблю камень, но дело в том, что выложить нижний этаж скандинавского дома камнем невозможно практически. Потому что его нужно подогревать зимой, и эту проблему решают, подкладывая под него кабели или грелки. Во-первых, это означает большие и неэффективные траты, во-вторых, мне это тепло отнюдь не кажется приятным. Меня раздражает, когда мне греют пятки. Ты из тех, кому вынь да положь тёплый пол в ванной?
– Да нет, в общем. Там, где я сейчас живу, тёплый пол есть, но я его почти не включаю.
– Правильно. Потому что тогда невозможно толком проснуться утром. Ведь так?
– Так, – дакает Йэвер и улыбается.
– Я могу сделать, пусть у тебя будет выбор. В ванной на втором этаже я собираюсь предложить пол из оникса, но поскольку этот этаж обогревается снизу, тут проблем не будет.
– Отлично, – говорит Йэвер.
– Так что насчёт пола из бразильского ореха?
– Да, я хочу такой.
– Отлично.
– Но можно ли его считать – как это называется? – экологически недеструктивным?
– По заверению импортёра, да. Все тайны бразильского лесоводства мне неведомы, но я исхожу из того, что покупатель может верить на слово импортёру. Поверь, я не стал бы тебе этого предлагать, если б знал, что речь идёт об уничтожении сельвы.
– А если б ты был не в курсе? – спрашивает Йэвер, и я понимаю, куда он клонит; он думает не о лесе. А о себе самом. И мечтает, чтобы я снял с его души камень. Но оказывать ему такую услугу в мои планы не входило.
– Когда что-то кажется мне нечистым с моральной или этической точки зрения, я снимаю трубку, делаю пару звонков и всё узнаю.
Йэвер не отвечает.
– Может, посмотрим остальные рисунки? – спрашиваю я. – У тебя есть возражения по существу?
Он вздыхает. Мы стоим в гостиной. Времени вторая половина обычного зимнего дня, и мы оба видим, как сумеречно в комнате. На самом деле мне даже странно, что Корсму не впустил сюда больше света, видно, поэтому дом не числится среди его шедевров.
– Весь смысл открытого решения в том, чтобы максимально дать дорогу естественному свету, – говорю я, желая ему помочь.
– Это я понимаю. И мне нравится то ощущение, которое ты хочешь создать, но я вот тут сомневаюсь, как другие на это посмотрят.
– Кто другие?
– Мама, например.
Мне как-то не приходило в голову, что у Йэвера есть мама. А ведь правда, есть.
– Её смутит отсутствие штор?
– Ну да, смутит... А штор не будет совсем?
– Нет. А зачем тебе шторы?
– Как зачем... я как все, типа того, немного стесняюсь. Не люблю, если в окна заглядывают.
– Никто и не сможет заглянуть. Я тысячу раз обошёл дом, я смотрел на него откуда только можно, от соседей в том числе. Вечером им видно, что у тебя горит свет. А больше ничего.
– А если вечером кто-нибудь подойдёт к дому?..
– Кто?
– Не знаю. Дети, например.
– И что?
– Не знаю. Всем неприятно, когда на них смотрят.
– Знаешь, это довольно занятно. И ты, и я, мы оба любим одеться. Когда мы на людях, нам льстит, чтобы нас разглядывали, пытаясь угадать по нашему обличью, что мы за птицы. Это некоторым образом социальный ритуал, так?
– Безусловно, но...
– Тебе кажется, что в доме, не на людях, действуют иные правила?
– Разве нет?
– По большому счёту, нет. Я собираюсь создать вокруг тебя среду, которая допускает разглядывание. Ведь на самом деле шанс, что любопытствующий проникнет в твои семейные тайны, невелик, правда? Он увидит часть интерьера, за который тебе не придётся краснеть. Что до интимных моментов, как то: мытьё, одевание-раздевание, сексуальная жизнь, они, по идее, должны в основном происходить наверху. Поэтому никто ничего не подсмотрит.
– А вдруг мне взбредёт в голову объездить какую-нибудь красотку прямо на кухонном столе?
– Во-первых, ещё вопрос, согласится ли она упражняться, когда всё здесь будет выглядеть, как на эскизах. С другой стороны, экспансивной натуре идея такого, скажем, пикантного полупубличного акта вполне придётся по вкусу. Хотя тебе достаточно выключить свет в той части комнаты, чтоб никто ничего не увидел.
Йэвер задумчиво косит в мою сторону, будто сомневаясь, всё ли со мной в порядке.
– То есть ты думаешь о моём доме как о «полупубличном»?
– Да, если понимать публичность как открытость. Нижний этаж представляется мне помещением менее закрытым, чем принято. Своего рода торжищем.
– Торжищем?
– Не местом столпотворения, конечно, но как бы сердцем и началом дома, средоточием многих функций. Во-первых, представительских: гости, приёмы, обеды; во-вторых, отдых и расслабление: поглазеть телевизор и прочее. Хотя в спальне тоже достаточно места для телевизора, если скажешь.
– Хорошо. Теперь понятно, – тянет Йэвер. – Базарная площадь.
– У тебя же нет агорафобии?
– Это что такое?
– Страх открытого пространства. Агорафобией мучился Эдвард Мунк. Поэтому ему приходилось красться, огибая все утлы, лишь бы не идти через площадь.
– Нет, я не такой, – хмыкает Йэвер.
– Хорошо, потому что альтернатива – сохранить всё как есть и вырезать тесные клетушки для разных нужд. Но естественного света будет мало, сам видишь.
– Так я не хочу.
– Но ты же понимаешь, что подлинно открытое решение предполагает и внешнюю открытость, пространство такой комнаты интегрировано в окружающую среду и стремится максимально органично, насколько позволяют физические возможности, перетечь в пространство внешнее. Этого нельзя добиться, объединив несколько маленьких закутков в один большой. Он всё равно останется конурой. Вряд ли я смогу это объяснить, пока не придёт лето и ты не получишь ещё и сад. Тогда ты раздвинешь стеклянные стены между комнатой и террасой и увидишь, что граница между домом и садом исчезла. Это будет одно целое.
– И этого нельзя добиться, не отказавшись от штор?
– Проблема не столько в шторах, сколько в том, что они олицетворяют собой.
– А что они олицетворяют?
– Приниженность своего рода. А я вижу этот дом иначе, в нём нет ограниченности.
Он раскуривает сигариллу, которой мы проверяли паркет и которую он с тех пор держал в руке, глубоко затягивается, медленно выпускает дым через приоткрытый рот и молчит, переводя взгляд с террасы на окно и назад.
– Сигбьёрн, должен сказать, ты даже больший жох, чем я думал, – говорит он наконец.
– Так и быть, признаюсь: я собирался осчастливить тебя жалюзи. Не всегда приятно, если солнце бьёт в глаза. Но я готов прозакладывать что угодно: когда ты привыкнешь к дому и полюбишь его, вряд ли ты станешь часто опускать жалюзи.
– А что насчёт моей кабины? – спрашивает он без перехода.
– Оргонона? Всё в порядке. Я достал чертежи и договорился со столяром, который готов его построить. Насколько я понимаю, древесину и причиндалы ты можешь выбирать какие пожелаешь.
– Тебе это кажется придурью?
– Ну... да нет, у людей бывают неожиданные желания. Не думаю, что у меня есть право выносить вердикты. Но мне любопытно, как тебе это пришло в голову?
– Я прошёл курс оргонотерапии в Швейцарии. И мне кажется, представь себе, что мне помогло – чувства пришли в баланс, энергия увеличилась.
– В профессиональных кругах эту терапию не классифицируют как сугубо ортодоксальную.
– Чего нет, того нет... но много ли эти, как ты выражаешься, профессиональные круги понимают? Многих ли они вылечили? Я бы не стал называть психиатрию особо точной наукой, а?
Не будем кривить душой, зерно истины в словах Йэвера есть. Зато причин открываться ему нараспашку у меня нет.
– Если б ты увлекался терапией утробного крика по Янову, мне пришлось бы оборудовать для тебя резиновую комнату, вот это была бы штука, – отвечаю я. – Но, кстати, где оргонон должен помещаться?
– Наверху, я думаю. Это, по твоей классификации, «интимный момент» или нет?
– Более чем. Я тоже предлагаю поставить кабину на втором этаже рядом со спальней. Самое разумное.
Мы углубляемся в чертежи. Йэверу по вкусу идея сделать гостиную – ту самую базарную площадь – двухуровневой, чтобы человек спускался на шаг в самую уютную часть комнаты и сад, так мы и решаем. Он спрашивает о мебели («если ты планировал, что мебель у меня всё-таки будет»).
– Безусловно, мебель будет. Но сначала нужно довести до совершенства комнату. У меня есть кое-какие намётки, и мы можем посмотреть каталоги, но всё-таки самое важное – организовать и соразмерить пространство комнаты. Это невозможно поменять, если оно вдруг нам не понравится. А поменять диван, который не вписался, может кто угодно.
– Знаешь что? – говорит он. – К сожалению, у меня нет времени сидеть с тобой часами, рассматривая каталоги. Я бы и рад, но не могу. Поэтому меня вполне устроит, если ты самостоятельно станешь принимать решения относительно внутреннего обустройства. Просто скидывай мне картинки или рисунки, и если что-то окажется мне совсем поперёк души, я дам знать. Так проще всего, похоже. В конце концов, ты сам говоришь, что диван всегда можно поменять.
Я потираю руки.
– Спасибо за доверие. Для меня это идеальный расклад.
– Что-то мне подсказывает, что вряд ли ты забьёшь дом лишней мебелью.
– Это тебе не грозит, – улыбаюсь я. – Пойдём наверх?
– Только последнее, – говорит Йэвер, теряя вдруг уверенность. – Искусство.
– Что искусство? – спрашиваю я.
– Без помощи мне не купить произведений искусства, или – как вы их там называете? – артефактов. Я в искусстве не смыслю. А ты?
– Ну... я не эксперт-оценщик, но я изучал историю искусства и всё такое. Это было частью моего образования. Хотя твой вопрос меня удивил.
– Почему?
– Потому что мои клиенты, все без исключения, оставляли это на своё усмотрение. Что-то у людей уже есть, и для них эти предметы много значат. В целом выбор предметов искусства – процесс куда более личный и интуитивный, чем собственно выстраивание гармоничного интерьера. Это чрезвычайно субъективно.
– У меня нет ничего, что я хочу взять в новый дом. Я начинаю с чистого листа. И в этом вопросе я не могу положиться на свой вкус, но могу на твой.
– Я даже не знаю. Жить здесь тебе, а не мне.
– Смотри на это как на открытый торг, – говорит Йэвер с хохотом. – Спускаясь на землю, я собираюсь выделить на искусство отдельную сумму. Которой ты можешь распорядиться как захочешь. Совершенно свободно.
– Да, но что ты любишь? Абстракцию или реализм, живопись или что другое? И какого формата – побольше или поменьше?
– А бог его знает, – отвечает клиент. – Чуди!
«Чуди!» Говоря начистоту, я даже не знаю, как такую просьбу понимать. Некоторые бы сказали, что у меня нет задатков «чудить» и что подобная идея в корне противна моей сущности.
– Ладно, найду пару картин, – уступаю я, и начинаю прикидывать, кто из знакомых художников заслужил такой королевский подарок, такую золотую жилу. Немногие. Очень немногие.
И тут я понимаю, что наконец-то раз в жизни мне выпало сделать интерьер целиком и полностью, до мельчайших деталей, без помех; пьянящее чувство. Я сотворю такой дом, что фрау Менгель придётся быстренько собрать чемодан и, заливаясь слезами, убраться к мамочке. Всё будет честно, беспощадно и эстетически выверено на сто процентов.
– Надеюсь, пейзажи ты не любишь, – говорю я.










