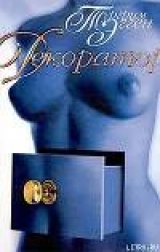
Текст книги "Декоратор. Книга вещности"
Автор книги: Тургрим Эгген
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Так я и подозревала. Но позволено ли мне будет спросить: а как ты поступаешь в случае, если заказчик, которому ты оформляешь дом, желает повесить на стене огромное фото любимой бабуси?
Я не люблю слова «заказчик», мне кажется, это низводит меня до уровня сетевого коммивояжёра. Я предпочитаю называть их клиентами. Иной раз и пациентами. Но этого я Ане не рассказываю.
– Вынужден опровергнуть твои инсинуации: не в моей власти запретить заказчику повесить изображение бабушки.
– Но тебе хочется?
– Чего мне хочется, никакой роли не играет. Моя функция, как мы говорим, совещательная. Но если бабушка уродина уродиной, а и картина, и рама, большие и очень тёмные...
– Что тогда?
– Тогда я посоветую конкретное место, где её повесить. Надеюсь, этого ты не записываешь?
– А что, нельзя?
– Лучше не надо, я тебя прошу. Не в моих правилах разглашать подробности моих взаимоотношений с клиентами. Но были случаи, когда я спрашивал, а нельзя ли найти фотографию бабушки в молодости.
Аня хохочет:
– Ну ты даёшь!
– Поверь мне, это не самая смешная история. Самая замечательная другая – о молодом человеке, который сразу сказал мне, что отказывается вешать в гостиной портрет почившего отца, но у него нет выбора, он должен. Ему физически делалось тошно от одного взгляда на покойного – мерзейшего тирана, судя по всему, но вдова, матушка клиента, дневала и ночевала в доме, а речь шла о крупном наследстве.
– И что? – возбуждается Аня.
– Мы придумали особую конструкцию. Это был электрический доводчик, кнопка которого располагалась прямо над домофоном, хозяин нажимал её, едва родительница возникала на пороге, и портрет папаши выезжал на самое что ни на есть парадное место. Я подсмотрел идею в театре. Но в безоблачные минуты это была ниша, в которой стояла безупречной красоты безумно дорогая ваза от Tiffany.
Аню скрючивает от хохота.
– Ой, прости, – еле выдыхает она и закуривает. Я не протестую. Катрине превратила-таки кухню в курительную комнату. Это без труда угадывается по запаху.
– Разумеется, я запрещаю даже упоминать об этом, – говорю я.
– Господи, спаси меня, грешную, – негодующе откликается она из дымного облака.
– Я вас затаскаю по судам.
– Давай тогда лучше о чем-нибудь другом.
– Японская тема кажется мне выигрышной, – предлагаю я. —Тебе, совершенно случайно, ничего не говорит имя Фрэнк Ллойд Райт?
Мы беседуем о «Доме над водой» и о том, как я использую стихию воды. Аня вцепляется в тему, которая под нужным углом пересекается с проблематикой фэн-шуй (что справедливо, тем более что в Норвегии вода как элемент интерьера находится в вопиющем небрежении). Я дал уйму таких интервью. Тут важно избегать личного, даже если журналист настырничает.
Да и неправда, что я не люблю ярких цветов. Единственное, у меня некоторые проблемы с красным.
Я получил первое в жизни электронное письмо. Оно возникло, едва я подключил модем, было полно странных требований и выглядело так:
X-daxnet-delivery-id: 199901121434
Mime-version: 1.0
Date: Tue, 7 Jan 1999 15:40:17+0100
To:
From:
Subject: Подвижки?
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by falk.c2i.net id PAA16141
Привет, Сигбъёрн!
Что нового с домом? Я буду в городе между 20 и 24 января, хорошо бы встретиться. Твои чертежи наверняка на подходе?
До тех пор я просил бы тебя разузнать об одной вещи. Слыхал ли ты об оргононе? Наверняка нет. Пароль – Вильгельм Райх, австрийский психотерапевт, а описание можно найти в библиотеке, видимо. Я хочу, чтобы ты мне его построил. Куда его всунуть, реши сам. Подробности при встрече.
Здесь в Москве жуткий холод. Так что впору затосковать по нашей доброй, старомодной, зелёной норвежской зиме.
Карл-Йорген
Карл-Йорген Йэвер Директор
по маркетингу «Интерфарма»
Я полагал, что знаю о мебели почти всё, но что за зверь этот оргонон? И почему его нужно монтировать отдельно?
Фруде – вот нужный человек! Я набираю номер своего психиатра Фруде Райса (смешная перекличка имён!), отвечает Гунхильд, секретарша в приёмной. Нет, Фруде не может подойти, он работает с пациентом. Я настаиваю. Я невыносим, я знаю.
Через двадцать секунд в трубке возникает Фруде:
– Привет, Сигбьёрн! Что за дело не может обождать?
– У меня галлюцинации.
– Да? Какого типа?
Фруде никогда не знает, говорю ли я всерьёз.
– Тут передо мной лежит счёт от тебя, он не дотягивает до пяти тысяч.
– Да, классический бред. Не иначе ты снова забываешь пить таблетки?
Он хохочет. Мне нравится с Фруде. Мы почти никогда не говорим ни о чём опасном.
– Шучу. Счёт нормальный. Но у меня проблема, с которой, я уверен, ты можешь мне помочь. Буквально два вопросика.
– Вообще-то я сейчас занят, – говорит он.
– Это быстро. Слышал ли ты о психотерапевте по имени Вильгельм Райх?
– Ещё бы. Райх, ученик Фрейда. Уже покойный. Перед войной несколько лет прожил в Норвегии. Когда я изучал психиатрию в 1970-е годы, им увлекались все поголовно, особенно его психологией тела и сексуальной энергией. Формулируя в двух словах, он считал, что секс спасёт мир.
– И ты скрывал от меня такой метод?
– Райх был противоречивой личностью. Уехав в США, он увлёкся экспериментами, за которые в конце концов попал в тюрьму. Да и его свобода секса оказалась не по зубам пятидесятым годам.
– Теперь слушай: у меня есть клиент, то есть заказчик, для которого я отделываю дом. И он желает иметь встроенный оргонон. Тебе это о чём-нибудь говорит?
Фруде заходится хохотом.
– Мне это говорит о том, что твой клиент скорее мой.
– Это я начинаю понимать.
– Короче: в своих поздних работах Райх постулировал наличие некой особой энергии, которую он называл оргонной. Конструкция, о которой ты говоришь, представляет собой аккумулятор этих оргонов. Идея такова, что человека запирают в этом шкафу и его оргонная энергия восстанавливается.
– Это электронный аппарат?
– Нет, это шкаф особой конструкции. Дело в том, что в пятидесятые годы Райх был осуждён американским судом. В приговоре говорилось, что оргонной энергии в природе нет, поэтому оргононы запрещаются.
– Прости, не понял. Зачем запрещать то, что не работает?
– Если я правильно понимаю, Райха осудили по статье о шарлатанстве. Как бы за торговлю лекарственным средством, которое не оказывает обещанного лечебного эффекта.
– Он запрещён в Норвегии тоже?
– Нет, у нас всё гораздо веселее. Оргонная энергия была открыта, то есть придумана, короче, это случилось, пока Райх жил в Норвегии, в эмиграции. Некий психиатр Ула Ракнес свёл знакомство с Райхом и осуществил на практике некоторые его изыскания. В том числе завёл аккумулятор оргона. Когда мне было лет десять, газеты раздули ужасную шумиху из визита Шона Коннери в Осло. Он приезжал инкогнито, чтобы посидеть в шкафу у Ракнеса. Он был в психическом разбалансе по случаю своей отставки из Джеймсов Бондов.
Хуже и хуже.
– Но ты считаешь это чушью?
– В серьёзных кругах отношение такое.
– Если я всё-таки соберусь строить шкаф, можно будет добыть описание?
– Это не проблема. В мои студенческие годы в меде на кафедре физиологии был оргонон. Возможно, он там так и стоит. Кроме того, я совершенно уверен, что Ула Ракнес опубликовал труд по теории оргона. И его легко найти в университетской библиотеке. Если ты дойдёшь до строительства шкафа.
– Хочешь верь, хочешь нет, но с этого я и живу. Хоть какое-то разнообразие после саун. Тебе построить такой шкафчик, раз уж всё равно я этим занимаюсь?
– Спасибо, я пока обхожусь. Но могу я попросить тебя дать телефон этого заказчика?
– Обет молчания, прости.
– И у тебя. Слушай, у меня пациент...
– Один короткий вопрос.
– Очень короткий.
– Тебе известна фирма «Интерфарма»?
– Лекарственная?
– Не уверен, хотя по названию похоже.
– Никогда не слышал.
– О'кей, спасибо за помощь, Фруде.
– Мы увидимся во вторник?
– И будем переполнены оргоном!
Вывод: едем в университетскую библиотеку. Если Карл-Йорген Йэвер желает сидеть в собственной вилле работы Арне Корсму в шкафу под струёй эфемерного оргона, мы сервируем ему такой деликатес. Лишь бы деньги платил. Мне доводилось слыхать о фантазиях похлеще. В Осло – не скажу, где именно, ибо речь о чужом пациенте – живёт один владелец фирмы, он трудится в точной копии Овального кабинета.
Я задумываюсь, где расположить сей оргонон. Every home schould have one. Если человек залезает в него голяком – а всё указывает в этом направлении, то место ему рядом с ванной и спальней. То есть на втором этаже. Ещё куда ни шло.
– Должен признаться, известие об убийстве Джанни Версаче я воспринял с благодарностью, – говорю я.
– Прекрати, – сердится Катрине.
– Почему? – спрашивает Ульрик.
– Мне кажется отвратительным превращение модельера в разновидность поп-идола. Ситуация, когда дизайнер ассоциируется не с тем, что он сделал, а с именитостью своих клиентов, безумна сама по себе. Тем более когда клиенты – особы царственные или выставляющие себя таковыми. Хотя я считаю Версаче превосходным рубашечником, да и вообще у него много интересного. Но в последние годы он стремился потакать самым невзыскательным вкусам. Что ты станешь, к примеру, делать с пляжным полотенцем а-ля обои Версальского дворца?
– Может, вытрешься? – предлагает Ульрик.
– Это общеизвестная историческая банальность, что «Король-солнце» и его двор не ходили по пляжам. Они вообще почти не мылись. В свете этого такая расцветка полотенца не просто китч и пошлость, но китч, пошлость и нелепость, как телефон в интерьере рококо. Если человек клепает такое, значит, он перестал спрашивать с себя строго. Мне кажется, под напором шумихи в прессе у дизайнеров искажается самооценка. Они поступаются своим призванием. И скатываются к производству всякой мишуры. По этой части Версаче оказался одним из худших.
– Сигбьёрн имеет в виду, что, если ты дошёл до уровня мишуры, тебе же лучше, чтоб тебя пристрелили, – подводит итог Катрине.
– Хотя ты чуть перегибаешь палку, но я действительно не знаю, куда бы он подался после нескольких провальных коллекций с позолотой и греческими богами. Некоторым образом, он сам свёл себя в творческую могилу, что более или менее совпало по времени со смертью физической. В этом есть поэзия на манер угасания титанов Возрождения. Как если бы он нарисовал и запустил в массовое производство собственный мавзолей.
– Кстати, – добавляю я, – раз уж они занялись санацией, могли бы заодно прикончить Жан-Поля Готье.
– Уймись наконец! – злится Катрине.
– Какое здание самое красивое в мире? – спрашиваю я несколько минут спустя. – Учитывая все категории.
– Но виденное своими глазами?
Субботний вечер, мы сидим в кафе с Катрине и Ульриком Йессеном, её приятелем. Этот административный директор крупного рекламного агентства один из самых небезынтересных в кругу её детских друзей. Мы с ним часто ведём долгие дискуссии о дизайне и архитектуре, очень его увлекающей. А знаний ему не занимать.
С дизайнерами я не общаюсь никогда. Назвать их коллегами язык не поворачивается, поскольку коллегиальность в наших кругах не практикуется, я, по крайней мере, не встречал её. Все ревниво следят за всеми и не упускают шанса сунуть нож в спину. Плюс я страшно разочарован их вопиющей серостью. Заговоришь с автором идеи, поразившей твоё воображение, восхитившей тебя, а сей субъект в состоянии разве выдавить из себя «круто» или «прикольно» в качестве исчерпывающего комментария. Языком дизайнеры не владеют. Обходятся тем, что «кишкой чуют» – ещё одно их словечко. Само собой, восхищаться и поражаться таким собеседником долго невозможно, каким бы гением он ни был. В одном человеке умещается строго ограниченное число талантов. С продуманной жизненной философией сложнее, в поисках богатых ею оригиналов придётся – как минимум! – отправиться за границу. Так что если мне иной раз повезёт на захватывающую беседу на тему дизайна, значит, собеседник не из нашего круга.
Поводом сегодняшнего ужина втроём стало то, что Ульрик только что разбежался со своей подружкой, вернее, она от него сбежала. Из-за того, что Катрине знакома с беглянкой, Ульрик уже несколько недель звонит нам в любое время суток, желая разжиться советом, как залучить даму обратно. Поскольку Катрине постоянно в разъездах, то вести эти беседы приходится, к несчастью, мне, а для Ульрика Йессена проболтать пару часов – пустяк. Он обращается с телефоном почти как женщина. Слава богу, трагедия устремилась к катарсису– упоминание об Аманде, его бывшей, под запретом, хотя он иногда проговаривается.
Ульрик цедит кофе латте из высокого стакана, как это модно теперь в Осло. Лично я считаю это нарушением порядка – молоко сервируется на завтрак. И в столице потребляется в основном мигрантами. Но по сравнению с ситуацией месячной давности кофе латте безусловный прогресс, тогда Ульрик приступал к пиву в полдень, и обсуждать с ним столь сложные материи, как архитектура, смысла не имело.
Катрине углубилась в субботнее приложение к «Дагбладет», нашу беседу она игнорирует.
– Не знаю, – говорит Ульрик. – Я бы назвал что-нибудь от Фрэнка Ллойда Райта, «Дом над водой», например, но я не видел их своими глазами.
– Это обязательное условие, я считаю. Одно дело – картинка, и совсем другое живое пространственное ощущение предмета.
– Согласен. Тогда я ещё подумаю.
– Мой фаворит стоит в Барселоне.
Ульрик делает большие глаза. И я понимаю, что он идёт по ложному следу.
– Ты же не хочешь сказать Гауди? Честно говоря, я бы никогда о тебе такого не подумал. Casa Mila?
Барселонцы дали Casa Mila называние «La Pedrera», что означает «Каменная громада». Дом был построен в Эщампле в 1909 году как доходный. В этом районе с середины прошлого века селился истеблишмент. Поэтому здесь сконцентрированы все самые потрясающие творения «модерна», как называют его каталонцы (хотя в норвежской традиции модернизмом считается нечто другое). Барселонский «модерн» – а это, помимо Гауди, ещё и Доменеч-и-Монтанер, и Пуич-и-Кадафалк, – клубок стилей, самым заметным из которых остаётся доведённый до крайности, пользуясь норвежскими терминами, «югенд».
– Гауди мне нравится, – отвечаю я, – и Casa Mila здание необыкновенное. Ты был внутри? Все комнаты роятся вокруг двух основных помещений, ни единого прямого угла. Чудо. Фасад я бы назвал кошмарным, но внутри и вкус, и нега. Хотя дом похож на восковую фигуру, забытую на жаре.
– Но ты имел в виду не Casa Mila? И вообще не Гауди?
– Нет. Более того, речь не идёт ни об испанском, ни о каталонском архитекторе.
Ульрик в замешательстве. Это видно. Он задумчиво качает головой.
– Павильон Миса ван дер Роэ, он справа по курсу, если подниматься от Дворца конгрессов на Монжуик.
– Мис?! Это больше в твоём стиле. Хотя мне не совсем по зубам, признаюсь. Мне кажется, я встречал упоминание об этом доме в путеводителях, но живьём его не видел.
– Это не дом в обычном понимании. Именно павильон. Причём не подлинник. Настоящий павильон снесли после Всемирной выставки 1929 года, а этот реконструировали в 1986 году, к столетию Миса ван дер Роэ. И реконструировали так себе – к примеру, сегодня невозможно сделать крышу из стекла того качества, которым пользовался Мис. Поэтому оптические характеристики нарушены.
– Крутейший функ, – острит Ульрик, попивая свой детский завтрак.
От словечка «функ» у меня сводит скулы.
– В этом вся соль. Павильон считается одной из вершин функционализма, но на самом деле в классическом понимании этого слова не является функционалистским. Ведь какая у павильона функция, что это вообще за тип сооружения? Мис не знал ответа на эти вопросы и построил то, что ему захотелось. В некотором смысле павильон – прощание Миса с каноническим функционализмом, в той мере, в какой он вообще может быть к нему приписан. Он был молчаливым противником и готовых модулей, и поточного производства зданий по промышленной схеме, а это основа основ немецкого функционализма, адепты которого мечтали о дешёвом, практичном и светлом жильё для пролетариев – вот их идеал. Миса хватило на два таких дома, потом – баста. В Барселонском павильоне внутренние перегородки из оникса, там мраморный пол и никаких следов практичности. Во всяком случае, о решении насущных проблем раб-класса двадцатых годов речь не шла наверняка.
– Катрине, а ты там была? – спрашивает Ульрик, и Катрине выглядывает поверх газеты.
– Где?
– В павильоне Миса в Барселоне.
Катрине стонет:
– Была, да уж. Одна из самых идиотских экскурсий в моей жизни. Там ничего нет, вообще – ничего: бассейн и несколько стульев. А Сигбьёрн, ты не поверишь, проторчал в павильоне полтора часа, но и тогда мне удалось вытащить его оттуда только угрозой, что я одна пойду к Prada мотать деньги.
– Но павильон красивый?
– Да, очень. Хотя смотреть в нём не на что. Внутри одна-единственная скульптура, обнажённая, если я правильно помню. Но в самом деле измучили меня не эти полтора часа, а то, что Сигбьёрн без умолку говорил об этом павильоне много дней подряд.
– Нельзя вынести больше культурного багажа, чем тот, с которым ты пришёл, – парирую я репликой, которую можно позволить себе, лишь твёрдо зная, что собеседник не станет оскорбляться,– такое говорят только гражданской жене, если она не вынашивает планов бегства. Но всё же я сдабриваю колкость игривой полуулыбкой.
– Да, я оказалась настолько некультурной, что, провялившись два часа в пустой стеклянной банке, не сумела впасть в религиозный экстаз, но, представь, я не стыжусь, – и Катрине с улыбкой же закрывает лицо «Дагбладет».
– Религиозный экстаз – это сильное выражение, – замечает Ульрик.
– Оно, конечно, здесь не к месту, хотя крупица истины в нём есть, – отвечаю я. – В Барселонском павильоне очевидна духовная составляющая. Как раз она заменяет функциональность, и в этом смысле Мис совершил революцию. Фактически он создавал новую форму классицизма, которая изъяснялась языком двадцатого столетия – а он есть стекло, бетон и сталь. Первым делом Мис отринул орнамент и украшательство в любом виде, как и форму ради формы, и тем самым расчистил поле для новой поэзии, поэзии, замешанной на технологии, переживании пространства, игре света и тени, где важно кассировать элементы здания, свести их почти к нулю, к «beinahe nichts», как выражался Мис, чтобы затем создать логичную и объективную красоту.
– Понял? – мямлит Катрине из-за газеты.
– Не думаю, – откликается Ульрик. – Такое чувство, что Сигбьёрн на стеклянной банке набивает себе цену. Теперь скажи мне – откуда берётся духовная составляющая?
– Относительно павильона бытует несколько теорий, в том числе целиком мистических, – говорю я. – Согласно одной, Мис, работая над павильоном, держал в уме хранилище Святого Грааля. Храм этот якобы находился в Монтсеррате, рядом с Барселоной, и стоял на фундаменте из чёрного обсидиана, что не редкость в домах Миса. Утверждают, что павильон – аллегория, символ надежды художника на духовное возрождение после бессмысленной разрушительности Первой мировой войны. «Утро», статуя работы Георга Кольбе, считается косвенным свидетельством того же. Сам Мис ничего подобного не говорил. Тем не менее павильон – даже в том виде, в каком он существует сегодня, – уникальная страница функционализма двадцатых годов как с точки зрения практической бессмысленности, так и атмосферы, настраивающей на медитацию, почти как синтоистский храм.
– Знаешь, что я тебе скажу? – вклинивается Ульрик. – Всё это разговоры в пользу бедных. А речь о человеке, который подарил миру бездушные коробушки офисов. Родитель несравненной стекляшки Postgiro-банка. А ты приписываешь ему поиски Святого Грааля, – добавляет он со смехом.
– Это одна из теорий, вот и всё.
– То есть другими словами ты хочешь сказать, что ни Ле Корбюзье, ни Райт не смогли бы создать ничего подобного?
– Не смогли бы. По двум причинам. Во-первых, они не воспринимали изощрённого перфекционизма Миса, во-вторых, не разделяли его настроя на духовность архитектуры, по крайней мере Корбюзье не разделял. Достаточно посмотреть, насколько уродлива церковь его работы. О павильоне Миса можно говорить что угодно, но «приспособлением для жизнедеятельности» его не назовёшь.
– А почему же столь прекрасное здание снесли?
– Первоначально это был павильон, построенный для Всемирной выставки, – зачем ему стоять после её закрытия? Но сегодня факт разрушения павильона неожиданно предстаёт жутким и зловещим символом. Это стряслось в январе 1930-го, через пару месяцев после крушения мировой экономики. Именно этот коллапс и Великая депрессия тридцатых выбили у Миса ван дер Роэ почву из-под ног. Духовное возрождение не наступило никогда. Денег замахиваться на что-то большое, во всяком случае с Мисовой придирчивостью к качеству и материалам, долго не было, а когда на излёте тридцатых они появились, мода сменилась.
– Мис из немцев, сбежавших в США?
– Самое смешное, что он не сбежал. Поначалу, в 1933-м, многие архитекторы-модернисты считали, что их наработки будут востребованы нацистами, и вели с ними диалог. В отличие от Вальтера Гропиуса, всю жизнь бывшего социалистом, Мис отличался чудовищной аполитичностью. И неколебимо верил, что реализовать свои идеи он сможет лишь на родине. Жаркие споры велись о том, как заставить нацистов поверить, что функционализм, или новая вещность, – стиль исконно немецкий. Мис вступил во все союзы, членом которых необходимо было значиться, чтобы получать заказы, и какое-то время числился чуть ли не единственным официально признанным модернистом – речь шла о создании эскизов Дворца гитлеровской культуры и подобных проектах. Он сделал наброски ещё одного павильона—для Всемирной выставки в Брюсселе в 1935 году, это должно было быть гораздо более гигантское и помпезное сооружение, с высеченной на стене свастикой и прочим. Мне кажется, Мису повезло, что из затеи ничего не вышло. Но и других заказов он не получил. Потому что хоть Геббельс и восторгался им, Гитлер – нет. У Гитлера были нелады со вкусом, он любил ретро-классицизм, который Мис считал противоречащим духу времени, поэтому личным архитектором фюрера сделался Альберт Шпеер. Парадокс в том, что и он боготворил Миса. Роэ уехал лишь в 1938 году – и то лишь потому, что ему предложили профессорат в Чикаго, да плюс он надеялся строить за океаном.
– Ты намекаешь на то, что он поддерживал нацистов, по крайней мере не испытывал к ним отвращения?
– Это мы вряд ли узнаем. ЦРУ проверяло, не шпионит ли он в пользу Германии, и убедилось, что нет. Но и это не играет особой роли. Со свастикой или без, Ван дер Роэ как мог, так и рисовал. Хотя, насколько я его знаю, предпочёл бы обходиться без свастики. Она была для него излишне громоздкой.










