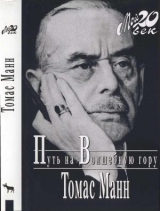
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
Очерк моей жизни
Родился я в 1875 году в Любеке. Я – младший сын купца и сенатора вольного города Любека – Иоганна – Генриха Манна и его жены Юлии да Сильва – Брунс. Мой отец – внук и правнук любекских бюргеров, тогда как мать – уроженка Рио‑де – Жанейро; она дочь немца – плантатора и бразильянки португало – креольского происхождения, семи лет от роду привезенная в Германию. У нее был выраженный романский облик, в молодости она славилась красотой и обладала выдающимися музыкальными способностями. Спрашивая себя, какие от кого мне передались свойства, я неизменно вспоминаю знаменитый стишок Гёте и устанавливаю, что, как и он, «суровость честных правил» я унаследовал от отца, а «нрав весело – беспечный», иначе говоря – восприимчивость ко всему художественно – ощутимому и, в самом широком смысле этого слова, «к вымыслу влеченье», – от матери.
Детство у меня было счастливое, холеное. Все мы, дети – нас было пятеро, три мальчика и две девочки, – росли в красивом особняке, который отец выстроил в городе для себя и своей семьи, и был у нас еще второй уютный очаг в старинном нашем родовом доме, возле Мариснкирхе – там жила моя бабушка со стороны отца; теперь он называется «Домом Будденброков» и как таковой привлекает любопытство приезжих. Но самыми светлыми полосами моей юности были ежегодные летние каникулы в Травемюнде, с утренними часами купанья на берегу залива Балтийского моря и предвечерними – у подножья почти столь же страстно мною любимого, расположенного напротив гостиницы круглого павильона, где играл курортный оркестр. Идилличность этого приятного, заботливо оберегаемого, безмятежного существования с обильными, состоявшими из множества блюд обедами и ужинами за табльдотом несказанно мне нравилась: она благоприятствовала моей природной, лишь намного позднее с грехом пополам преодоленной склонности к мечтательной праздности, и, когда казавшиеся мне вначале бесконечными четыре недели истекали и приходилось возвращаться домой, к житейским будням, у меня сердце разрывалось от томительного сострадания к самому себе.
Я ненавидел школу и до самого конца учения не удовлетворял тем требованиям, которые она ко мне предъявляла. Я презирал школьную среду, критиковал манеры тех, кто властвовал над нами в стенах школы, и рано стал в своего рода литераторскую оппозицию ее духу, ее дисциплине, принятым в ней методам дрессировки. Моя вялость, быть может, необходимая для своеобразного хода моего развития; потребность в изрядном досуге для безделья и чтения в тиши; подлинная леность ума, от которой я и сейчас еще страдаю, – все это породило во мне ненависть к занятиям по принуждению, и я упорно пренебрегал ими. Возможно, гуманитарное образование более отвечало бы моим духовным запросам. Предназначенный стать купцом – наверно, отец поначалу прочил меня в наследники фирмы, – я посещал реальную гимназию «Катаринеум», но дотянул только до свидетельства на право одногодичного отбывания воинской повинности, то есть до перехода в третий класс. Почти на всем протяжении этого неровного, безрадостного пути меня и сына некоего обанкротившегося и вскоре после этого умершего книгопродавца связывала дружба, упроченная тем полным фантастики мрачным юмором, с которым мы высмеивали и охаивали «все на свете», в особенности же наше «заведение» и его чинуш.
В ихглазахмне очень вредило то, что я «кропал стишки». В этом отношении я недостаточно соблюдал тайну, скорее всего – по своему тщеславию. Стихи на геройскую смерть Аррии [74]74
Аррия – супруга римлянина Цецины Пета, который был приговорен к смерти за участие в заговоре республиканцев против императора Клавдия в 42 г. н. э. У Пета не хватило решимости совершить самоубийство, и, чтобы ободрить его, Аррия пронзила себя кинжалом, произнеся слова, приведенные Т.Манном
[Закрыть]– «Paete, non dolet» [75]75
«Пет, это не больно» (лат.).
[Закрыть], которыми я похвалился одному из своих соучеников, а тот, то ли от восхищения, то ли чтобы напакостить мне, вручил их классному наставнику – уже в шестом классе уяснили начальству строптивость моей своеобразной натуры. Начал я с ребяческих пьес, которые вместе с младшими братьями и сестрами разыгрывал дома, перед родителями, дядюшками и тетушками. Затем последовали стихи, обращенные к горячо любимому другу, под именем Ганса Гансена обревшему в «Тонио Крёгере» некое символическое бытие; на самом же деле он спился и печально кончил свои дни в Африке. Как сложилась жизнь девочки с каштановыми косами, моей партнерши по урокам танцев, которой я затем посвящал свою любовную лирику, – я не знаю. Писать рассказы я попытался значительно позже, предварительно пройдя даже стадию критического памфлета. Ибо в мало приличествовавшем школьникам журнале под названием «Вешняя буря», издававшемся мною в четвертом классе сообща с несколькими бунтарски настроенными выпускниками, я по преимуществу блистал философскими, подрывавшими устои передовицами.
Пять лет назад я (по случаю празднования семисотлетия вольного города) снова встретился в Любеке с учителем немецкого языка и латыни, преподававшим в мое время в четвертом классе. Я сказал белому как лунь уже вышедшему на пенсию старцу, что, хоть и производил, разумеется, впечатление законченного бездельника, однако втихомолку многое вынес из его уроков. В доказательство я привел слова, которые он всегда изрекал, рекомендуя нам баллады Шиллера как ни с чем не сравнимое чтение: «Это вам не первое попавшееся чтиво, это самый первый разряд всего, что вы когда‑либо прочтете!» – «В самом деле, я так говорил?» – воскликнул он радостно.
Мой отец умер от заражения крови еще сравнительно молодым, когда мне было пятнадцать лет. Благодаря своему высокоразвитому уму и утонченной светскости он пользовался в городе огромным уважением, популярностью и влиянием, но в последнее время ход его собственных торговых дел не очень его радовал, и вскоре после похорон, торжественной пышностью и стечением народа затмивших все, что за долгие годы было видано в Любеке при такого рода событиях, – старая, просуществовавшая более сотни лет фирма по торговле зерном была ликвидирована. Наш особняк тоже продали, как уже ранее – бабушкин, и просторное обиталище, где в парадном зале офицеры местного гарнизона, скользя по блестящему паркету, любезничали с дочерьми патрициев, мы сменили на более скромное – расположенную в саду виллу за городскими воротами. Но вскоре мать навсегда покинула Любек. Она любила юг, горы, Мюнхен, где бывала в прежние годы, путешествуя с отцом, и переселилась туда с моими младшими братьями и сестрами, а меня, чтобы я хоть как‑нибудь окончил курс наук, – определила на полный пансион к учителю нашей гимназии, у которого жили несколько юных мекленбургских и голштинских дворян и помещичьих сынков, посещавших любекские учебные заведения.
Об этом времени у меня сохранилось приятное воспоминание. «Заведение» ничего уже не ждало от меня, оно предоставило меня моей судьбе, совершенно туманной для меня самого, но – поскольку, несмотря ни на что, я чувствовал себя неглупым и здоровым – нимало меня не удручавшей своей неопределенностью. Я отсиживал уроки, но во всем остальном жил, так сказать, на свободе, отлично ладил с другими пансионерами и, снисходя к ним, иногда участвовал в их предварявших студенческие коммерши пирушках. Затем, достигнув в школе той цели, которою решил довольствоваться, я переехал вслед за моими родными в столицу Баварии и там, твердя в душе: «Это так, пока», – поступил стажером без жалованья в правление Общества страхования от огня, директор которого раньше управлял таким же предприятием в Гамбурге и был в дружеских отношениях с моим отцом.
Престранный эпизод моей жизни! За своей конторкой, среди служащих, усердно нюхавших табак, я переписывал реестры ценных бумаг и в то же время украдкой сочинял первый свой рассказ – новеллу «Падшая», любовную историю, доставившую мне первый литературный успех. Она не только была опубликована в том же, издававшемся М. – Г. Конрадом [76]76
Конрад, Михаэла-Георг (1848–1927) – немецкий писатель и публицист. В 1885–1901 гг. издавал в Мюнхене журнал «Ди гезелыпафт».
[Закрыть], боевом социалистически – натуралистического направления журнале «Ди Гезельшафт», где еще в бытность мою в школе появилось одно из моих стихотворений, не только понравилась молодежи, но и вызвала сердечное, теплое, ободряющее письмо ко мне Рихарда Демеля, а несколько позднее – даже визит столь почитаемого мною поэта, благодаря своему восторженному гуманизму распознавшему в моем вопиюще незрелом, но, быть может, не лишенном музыкальности произведении признаки одаренности и с тех пор до самой своей смерти сопровождавшего мой путь сочувствием, дружбой и лестными предсказаниями.
Моя деятельность в страховом обществе, которую я с самого начала рассматривал как нечто временное, вызванное неопределенностью моего положения, продолжалась не более года. С помощью некоего юриста, поверенного моей матери, возлагавшего на меня немалые надежды, я обрел свободу. Заручившись его согласием, я заявил, что хочу стать «журналистом», поступил вольнослушателем в два высших учебных заведения Мюнхена – университет и политехнический институт – и записался на те курсы, которые, казалось мне, могли дать общую подготовку к этой несколько неопределенной профессии – на лекции по истории, политической экономии, истории искусства и литературы, временами посещавшиеся мною регулярно и не совсем без пользы. Особенно захватил меня цикл лекций о «придворном эпосе», который поэт и переводчик со средневерхненемецкого Вильгельм Герц читал тогда в политехническом институте.
Не будучи заправским студентом, но живя по – студенчески, я в университетской читальне познакомился с членами «университетского драматического кружка» и примкнул к компании завсегдатаев одного кафе, увлекавшихся театром и поэзией, – у них я, как автор «Падшей», пользовался некоторым уважением. Наиболее частым моим собеседником среди этих студентов был молодой уроженец Северной Германии по фамилии Кох – умный парень, изучавший право; позднее он избрал административную карьеру, стал обер – бургомистром Касселя и под именем Кох – Везера сыграл видную роль в политике. После революции он был министром внутренних дел республики и посейчас стоит во главе демократической партии Германии. Но и давно всеми признанные писатели, как О. – Э. Гартлебен [77]77
Гартлебен, Отто-Эрих (1864–1905), Паницца, Оскар (1853–1921), Шарфу Людвиг (родился в 1864 г., дата смерти неизвестна), Генрих фон Редер (1870–1909) – немецкие литераторы
[Закрыть], Паницца, И. Шаумбергер, Л. Шарф, престарелый Генрих фон Редер, иногда появлялись в этом кружке молодежи. Самым памятным событием того времени, когда я там вращался, была первая в Германии, осуществленная нашим кружком под руководством Эрнста фон Вольцогена постановка «Дикой утки» Ибсена, имевшая, несмотря на протесты консервативной публики, литературный успех. Сам Вольцоген играл старика Экдаля, писатель Ганс Ольден – Хьялмара, а я, в шубе и очках Вольцогена, – коммерсанта Верле. Встречаясь со мной впоследствии, автор «Шантрапы» не раз шутливым тоном заявлял, что «открыл» меня он.
Мой брат Генрих, бывший на четыре года старше меня, впоследствии автор замечательных романов, имевших огромное влияние, жил тогда, так же как и я «дожидаясь», в Италии и предложил мне присоединиться к нему. Недолго думая я приехал, и мы, что немцы редко делают, прожили долгое, раскаленное итальянское лето вдвоем в захолустном городке среди Сабинских гор – в Палестрине, на родине великого музыканта. Зиму, с ее чередованием студеных дней трамонтаны и душных дней сирокко мы провели в «вечном» городе, поселясь на Виз Торре Арджентина у славной женщины в квартире с плиточным полом и плетеными стульями. Мы изо дня в день обедали в ресторанчике «Джендзано» (впоследствии я уже не нашел его на старом месте), где подавались отличное вино и превосходные «Croquette di polio» [78]78
«Куриные крокеты» (итал.).
[Закрыть]. По вечерам мы в каком‑то кафе играли в домино, прихлебывая пунш. Мы ни с кем не вели знакомства, а услышав немецкую речь, тотчас удирали. Рим казался нам надежным убежищем для нашей неприкаянности, и уж я‑то, во всяком случае, жил там не ради красот юга, который, в сущности, не был мне мил, а просто – напросто потому, что еще не нашел своего места на родине. Историко – эстетические впечатления, которые мог мне дать вечный город, я воспринимал почтительно, но чувства, что они для меня насущно необходимы и непосредственно плодотворны, у меня не возникало. Античная пластика Ватикана говорила мне больше, чем живопись Возрождения. «Страшный суд» потряс меня как апофеоз моего пессимистически – морализирующего и антигедонистического умонастроения. Я любил посещать собор Святого Петра, когда кардинал статс – секретарь Рамполла с горделивым смирением служил там обедню. Кардинал этот был чрезвычайно декоративен, и по причинам эстетического порядка я сожалел о том, что его из дипломатических соображений не избрали Папой.
Мать, жившая на проценты со среднебюргерского состояния, которое по завещанию отца должны были после нее унаследовать мы, дети, выдавала брату Генриху и мне от ста шестидесяти до ста восьмидесяти марок в месяц, и эта сумма, в итальянской валюте имевшая большую реальную ценность, значила для нас очень много: независимое положение в обществе и возможность «дожидаться». При скромных потребностях мы могли делать что хотели – так мы и делали. Брат, тогда мечтавший стать художником, много рисовал. Что до меня – я выкуривал несметное множество сигарет по три чентезимо, жадно поглощал произведения скандинавской и русской литературы, утопая в клубах табачного дыма, – и писал. Выпадавшие мне с течением времени успехи радовали меня, но нисколько не удивляли. Мое жизнеощущение слагалось из вялости, тревог нечистой в отношении бюргерских добродетелей совести и сознания дремавших во мне способностей. На присылку одной из моих новелл Людвиг Якобовский, в то время редактировавший в Лейпциге журнал «Ди Гезелыиафт», ответил мне письмом, начинавшимся с восклицания: «Какой вы талантливый человек!» Меня рассмешило его изумление, показавшееся мне, как это ни странно, наивным.
Важнее было то, что законченный еще в Мюнхене рассказ «Маленький господин Фридеман» был принят издательством Фишера в Берлине. Извещая меня об этом, Оскар Би, издатель «Нейе дейче рундшау», проявил интерес к моей работе и предложил мне прислать издательству Фишера все, что только у меня имелось. И вот еще во время моего пребывания в Риме вышла в свет первая моя книга – томик новелл, озаглавленный по этому рассказу. Мне довелось увидеть «самого себя» в витринах римских книжных магазинов.
Еще в Палестрине, после усердной подготовительной работы, я начал писать «Будденброков». Не очень веря в реальный успех этого начинания, я с терпением, навязываемым мне природной медлительностью и той флегматичностью, которую, пожалуй, правильнее было бы назвать преодоленной нервозностью, продолжал начатое повествование на Виз Торре Арджентина и уже весьма угрожающе разбухшую рукопись взял с собой в Мюнхен, куда все‑таки вернулся, пробыв в отсутствии около года. Сначала я жил у матери, потом снимал холостяцкие квартирки, которые обставлял частично той мебелью, что исстари принадлежала моей семье, частично – на свой лад. Поместив раскрытую рукопись «Будденброков» на раздвижном столе, для вящей торжественности покрытом низко спадавшей зеленой материей, я целыми днями занимался тем, что, сидя на корточках, покрывал алым лаком купленные некрашеными соломенные кресла. Описание такого «богемного» жилья дано в новелле «Платяной шкаф», возникшей на Маркштрассе в Швабинге и тоже впервые опубликованной в «Нейе дейче рундшау».
Корфиц Хольм, знакомый мне и друживший со мной еще с Любека, где он, уроженец Прибалтийского края, поступив в предпоследний класс, окончил гимназию, в те годы занимал видное положение в издательстве Лангена – сам Ланген [79]79
Ланген, Альберт (1869–1909) – мюнхенский издатель. В 1869–1906 гг. его фирма выпускала сатирический журнал левого направления «Симплициссимус». Так называемый «закон об оскорблении величества», на основании которого был привлечен к суду А.Ланген, широко применялся в кайзеровской Германии для преследования прогрессивных элементов
[Закрыть], привлеченный к суду по делу об «оскорблении величества», жил тогда, как и Ведекинд, за границей. Встретив меня на улице, от тут же взял меня на службу в редакцию «Симплициссимуса» с месячным окладом в сто марок, и около года, пока Ланген не распорядился из Парижа упразднить эту должность, я в изящно обставленном помещении редакции на Шакштрассе работал рецензентом и корректором, в частности – ведал первичным отбором поступивших в «Симплициссимус» новелл: свои предложения я передавал в вышестоящую инстанцию, доктору Гехейбу, брату известного педагога, одного из основателей «загородных школ», а тот сообщал мне окончательное решение. Моя деятельность имела смысл. Я любил этот журнал, с самого начала ставил его намного выше издававшегося Георгом Хиртом журнала «Югенд», жизнерадостная бойкость которого казалась мне филистерской, и был счастлив, когда в первых же двух его номерах появился один из ранних моих рассказов «Путь к счастью» – гонорар юный Якоб Вассерман отсчитал мне золотыми монетами. Брат и я, мы, так сказать, в подражание духу лангеновского начинания, его комическим повестям в карикатурах, его пессимистически – причудливому юмору, еще в Палестрине с превеликим усердием изготовили сборник рисунков, который, как это ни было непристойно, преподнесли нашей младшей сестре в день ее конфирмации. Два – три моих неумело – юмористических рисунка из этого сборника были опубликованы по случаю пятидесятилетия со дня моего рождения.
Итак, моя связь с этим необыкновенным юмористическим журналом была в какой‑то мере внутренне оправданна. Помогая редактировать его, я вместе с тем оставался активным литературным сотрудником. Несколько моих небольших новелл, как, например, «Дорога на кладбище», в числе их такие, которые я не включил в собрание моих сочинений, и даже некое рождественское стихотворение впервые были напечатаны там. Особенно хвалебно отозвался о «Дороге на кладбище» Людвиг Тома [80]80
Людвиг Тома (1867–1921) – немецкий писатель, был сотрудником «Симплициссимуса» и одно время работал в редакции этого журнала. Тома родился в Верхней Баварии и является автором ряда произведений из крестьянского быта. Упоминаемое далее произведение Л.Тома «Рассказы Сорвиголовы» («Из моей юности») опубликовано в 1905 г. «Письма Фильзера» – книга Л.Тома «Переписка Йозефа Фильзера» (1912), являю
[Закрыть], в то время уже довольно близко стоявший и к «Симплициссимусу», и к выпускавшему журнал издательству Лангена. Еще больший успех у самого Лангена и его ближайших сотрудников имел «Тяжелый час» – весьма субъективный этюд о Шиллере, написанный мною для «Симплициссимуса» к столетию со дня смерти поэта. Я был изумлен и растроган тем, как тепло, с каким глубоким пониманием верхнебаварский народный писатель откликнулся на небольшую работу человека намного моложе его и совершенно другого склада. Что до меня, я искренне восхищался его «Рассказами сорвиголовы» и любил их. Немало вечеров провел я вместе с ним и другими «симплициссимовцами» – Гехейбом, Т. – Т. Гейне, Тени, Резничеком и пр. – в баре Одеона. Чаще всего Тома спал с потухшей трубкой в зубах.
Как я уже сказал, моя связь с этим смело действовавшим и понастоящему артистическим кругом, самым лучшим «Мюнхеном» из всех когда‑либо существовавших, была вполне оправданна. Однако я не был целиком поглощен ею и наряду с моей редакционной работой, для которой мне великодушно была предоставлена отдельная комната с роскошным письменным столом, продолжал свое заветное, наиважнейшее для меня дело – трудился над «Будденброками», а распрощавшись с издательством Лангена, снова обратил на них всю свою творческую энергию. Иногда, Уматери, в присутствии братьев и сестер, а также друзей нашей семьи, я читал вслух отрывки из рукописи. Это было такое же семейное развлечение, как всякое другое; слушатели смеялись, и, помнится, все считали, что за это пространное, упорно мною продолжаемое повествование я взялся только ради собственного удовольствия, шансы на выход его в свет ничтожны, и в лучшем случае – это длительное техническое упражнение в искусстве слова, нечто вроде музыкального этюда, развивающего беглость пальцев. Не могу с уверенностью сказать, держался ли я сам другого мнения.
В ту пору самыми близкими моими друзями были двое юношей из того кружка молодежи, где вращались мои сестры, – сыновья дрезденского художника, профессора Академии художеств Э. В моей привязанности к младшему из них, Паулю – тоже художнику, тогда учившемуся в Мюнхенской академии у знаменитого анималиста Цюгеля и вдобавок превосходно игравшему на скрипке, – казалось, воскресло чувство, которое я некогда питал к тому белокурому, бесславно погибшему школьному товарищу, но благодаря большей духовной близости оно было намного радостнее. Карл, старший, музыкант по профессии и композитор, в настоящее время – профессор Кельнской консерватории. Когда я позировал его брату для портрета, он, в своей столь характерной манере, изумительно плавно и благозвучно играл нам «Тристана». Я тоже немного пиликал на скрипке, и мы вместе исполняли сочиненные им «трио», катались на велосипедах, во время карнавала вместе посещали «Крестьянские балы» в Швабинге и зачастую превесело ужинали втроем то у меня, то у них. Им я обязан тем, что познал дружбу – переживание это, если бы не они, вряд ли выпало бы на мою долю. С легкостью, порожденной высокой культурой, преодолевали они мою меланхоличность, нелюдимость и раздражительность, просто – напросто воспринимая их как положительные свойства, неотделимые от способностей, внушавших им уважение. Хорошее было время.
Я так увлекался тогда ездой на велосипеде, что почти ни шагу не делал пешком и даже в проливной дождь, надев пелерину из грубого сукна и калоши, по всем своим делам ездил на этом вехикуле. На собственных плечах втаскивал я его в свою, находившуюся в четвертом этаже квартирку, где ему было отведено место в кухне. Днем, после работы, я регулярно чистил его, опрокинув на седло. Вторым, непременным моим занятием, прежде чем я, побрившись, катил обедать в город, было вычистить керосинку.
Пока я съедал свой, стоивший одну марку двадцать пфеннигов, обед, женщина, ежедневно приходившая в это время, убирала мою квартирку. Затем я в летние дни отправлялся, с книгой на руле, в Шлейсгеймский лес. На ужин я покупал что‑нибудь съестное в одной из швабингских лавок и запивал еду чаем или же разбавленным экстрактом Либиха.
Взаимная симпатия связывала меня с автором романов и новелл Куртом Мартенсом, живо рассказывающим в своих «Воспоминаниях» об этой дружбе, почин которой исходил от него. Он один из тех немногих– пересчитать их можно по пальцам одной руки – людей, с которыми я за всю свою жизнь был на «ты». Посещал меня и иллюстратор Мартин Бемер, влюбленный в одну из моих небольших новелл – «Платяной шкаф». Заходил и Артур Голичер, чей роман «Отравленный колодец» я, будучи рецензентом у Лангена, отстаивал, и мы вместе музицировали. Ему и Мартенсу я читал отрывки из «Будденброков». Эстету, позднее – коммунисту Голичеру бюргерский дух моей писанины вряд ли что‑нибудь говорил, тогда как Мартенс выражал смешанное с изумлением одобрение, за которое я по сей день ему признателен. Он же познакомил меня со своим двоюродным братом Гансом фон Вебером, издателем и редактором «Цвибельфиша», и Альфредом Кудином, чья мрачно – фантастическая, пронизанная эротизмом графика сильно меня потрясла. Это он впоследствии нарисовал меланхолически – гротескную обложку для первого издания сборника моих новелл, вышедших под общим заголовком «Тристан».
Я не упомянул здесь о том, как складывалось в детстве и ранней юности мое духовное развитие, – ни о неизгладимом впечатлении, которое произвели на меня «Сказки» Андерсена, ни о тех вечерах, когда мы сидели затаив дыхание и мать читала нам вслух отрывки из «Моих скитаний» Рейтера (или пела, аккомпанируя себе на рояле), ни о преклонении своем перед Гейне в годы, когда я впервые стал писать стихи, ни о тех уютно – вдохновенных часах, когда я после школы, с тарелкой бутербродов под боком, подолгу читал Шиллера. Но я не хочу полностью умолчать о глубоких, решающих впечатлениях от книг, прочитанных мною в те годы, до которых я довел свой рассказ, – о том, что я пережил, читая Ницше и Шопенгауэра. Несомненно, духовное и стилистическое влияние Ницше сказывается уже в самых ранних моих прозаических опытах, увидевших свет. В «Рассуждениях аполитичного» я уже говорил о моих связях с этим волшебным комплексом и указал их, лично ко мне относящиеся, предпосылки и пределы. Соприкосновение с ним в значительной степени определило мой, находившийся тогда в процессе становления духовный склад; но изменить сущность нашу, сделать из нас нечто иное, нежели мы суть – этого никакая сила, движущая развитием, не может; вообще говоря, всякая возможность развития предполагает наличие некоего «я», обладающего интуитивной волей и способностью личного выбора, переработки в нечто сугубо свое. Надо, сказал Гёте, чем‑то быть, чтобы что‑либо создать. Но даже чтобы уметь чему‑либо научиться в том или ином высшем смысле, надо чем‑то быть. Исследовать, какого свойства в данном случае (то есть у меня) было органическое освоение и претворение этики Ницше и его своеобразия как художника, – это я предоставляю критике, располагающей необходимым к тому досугом. Во всяком случае, оно было сложного свойства, было проникнуто глубоким презрением к вызванному модой влиянию философа на широкую публику, на «улицу», ко всему тому упрощенному «ренессанству», культу сверхчеловека, эстетизму на манер Цезаря Борджиа, той превозносящей красоту и расовое превосходство шумихе, которые тогда всюду и везде были в большом ходу. В двадцать лет я постиг относительность «имморализма» этого великого моралиста; вникая в его ненависть к христианству, я вместе с тем видел его братскую любовь к Паскалю и воспринимал эту ненависть как явление чисто морального, но никак не психологического порядка – различение, на взгляд определяющее также и сущность его (для критической оценки культуры этой эпохи наиважнейшую) борьбы против того, что он до самой смерти любил больше всего на свете, – против Вагнера. Словом, в Ницше я прежде всего видел того, кто преодолел самого себя; я ничего не понимал у него буквально, я почти ничего не принимал у него на веру , и именно это придавало моей любви к нему полную страсти двуплановость, придавало ей глубину. Неужели я мог принимать «всерьез», когда он проповедовал гедонизм в искусстве? Когда, в пику Вагнеру, превозносил Визе? Какое мне было дело до его философемы силы и до «белокурой бестии»? Они для меня были чуть ли не помехой. Прославление им «жизни» за счет духа, эту лирику, возымевшую столь пагубные для немецкого мышления последствия, – освоить их можно было только одним способом: как иронию. Правда, «белокурая бестия» мелькает в моих юношеских произведениях, но там она почти что лишена своей бестиальности, и осталась одна только белокурость вкупе с бездумностью – предмет той эротической иронии и консервативного приятия, которыми дух человеческий, он это прекрасно знал, в сущности, так мало себя роняет. Если даже то, лично мне сообразное превращение, которому подвергся во мне Ницше, и означало возврат к бюргерству – ну что ж! Этот возврат представлялся, да и сейчас представляется мне более обоснованным и духовно изощренным, чем героико – эстетическое опьянение, обычно выражавшее, в литературе, воздействие творчества Ницше. Переживания, с этим творчеством связанные, были предпосылкой полосы консервативного мышления, пройденной мною в военное время; но в конечном счете оно дало мне способность сопротивляться всем скверноромантическим соблазнам, могущим возникнуть и ныне в таком множестве возникающим из негуманистической оценки взаимоотношений жизни и духа.
Впрочем, переживания эти не свелись к однократному, быстрому откровению и восприятию, а как бы распределились на несколько этапов и заполнили не один год. Самое раннее их воздействие сказалось в психической возбудимости, остроте внутреннего зрения и меланхолии, и сейчас еще не вполне ясных мне по своей сущности, но тогда заставлявших меня неимоверно страдать. «Горечь познания» – так сказано в «Тонио Крёгере». Эти слова метко определяют недуг моей юности, немало, насколько мне помнится, обостривший мою восприимчивость к философии Шопенгауэра, с которой я столкнулся лишь после того, как успел несколько ознакомиться с Ницше. Возвышеннейшее, незабываемое душевное переживание, тогда как Ницше я, можно сказать, переживал скорее интеллектуально – эстетически. Как я натолкнулся на эти сочинения – здесь есть некоторое сходство с тем, что по моей воле произошло впоследствии с Томасом Будценброком, когда он нашел томик Шопенгауэра в ящике стола своего садового павильона. Брокгаузовское издание я купил в книжном магазине по случаю, более для обладания, чем для изучения, и год, если не больше, эти книги неразрезанными стояли на полке. Но настал час, повелевший мне взяться за это чтение, и я читал дни и ночи напролет, как, наверное, читают только один раз в жизни. Моей поглощенности, моему беспредельному восторгу сильно способствовало удовлетворение, доставленное мне столь мощным, морально – интеллектуальным отрицанием и осуждением мира и жизни в системе мышления, симфоническая музыкальность которой глубочайше меня пленяла. Но самым существенным в этом моем состоянии был некий метафизический экстаз, тесно связанный с поздним и бурным пробуждением сексуальности (я говорю о том времени, когда мне было лет двадцать) и бывший скорее страстно – мистического, чем подлинно философского свойства. Важны для меня были не «мудрость», не учение о спасительности отречения от воли, этот будцистско – аскетический придаток, расценивавшийся мною лишь критико – полемически, с точки зрения жизнелюбия; меня чувственно – сверхчувственно захватила стихия эротики и мистицизма, определившая ведь и нимало не аскетическую музыку Тристана, и если тогда мне эмоционально была очень близка мысль о самоубийстве, то именно потому, что я понял – это деяние никак не явилось бы актом «мудрости». Священно – страдальческие искания мятущейся юности! По счастливому стечению обстоятельств мне тут же представилась возможность вплести мои надбюргерские переживания в заканчиваемую мною тогда бюргерскую книгу, где, возможно, назначением их было подготовить Томаса Будценброка к смерти.
Роман, над которым я, с частыми перерывами, трудился без малого два с половиной года, был закончен на рубеже двух столетий. Рукопись я послал Фишеру – со времен «Маленького господина Фридемана» я чувствовал себя связанным с ним. До сих пор помню, как я упаковывал эту рукопись – так неловко, что расплавленный сургуч капнул мне на руку и причинил сильнейший ожог, долго меня мучивший. Рукопись была безобразна: написанная на обеих сторонах листа – сперва я хотел ее перебелить, но затем, когда она сильно увеличилась в объеме, раздумал, – она поэтому казалась не такой уж огромной, но для рецензентов и наборщиков представляла огромные трудности. Именно потому, что она имелась только в одном, первом и единственном, экземпляре, я решил застраховать ее и рядом с пометкой «рукопись» проставил на пакете ценность, определив ее чуть ли не в тысячу марок. Почтовый чиновник усмехнулся в окошке.
Тревожные совещания, происходившие в издательстве Фишера по поводу моего громоздкого предложения, совпали с той порой, когда я отбывал воинскую повинность. Мне надлежало «отслужить свой срок», но поскольку в конце концов оказалось, что «годным» меня признали вследствие психологической ошибки, срок этот свелся к трем месяцам. Раз или два мне уже давали отсрочку по причине узкогрудости и невроза сердца, но в момент последующего освидетельствования я, по – видимому, переживал расцвет юных сил, создавший у дежурного врача ложное представление о моей пригодности к военной службе. Меня призвали, я был зачислен в лейб – пехоту и заказал себе щеголеватый мундир. Всего несколько недель прожил я в чадной духоте казармы, и уже во мне созрело мрачное, как выяснилось, – непреклонное решение освободиться во что бы то ни стало. Грубые окрики, бессмысленная трата времени и показная молодцеватость несказанно меня тяготили. Физически я при упражнении в церемониальном марше нажил сильнейшее, чрезвычайно болезненное воспаление сухожильных влагалищ голеностопного сустава. Меня отправили в приемный покой, оттуда – в лазарет, где я две недели пролежал с холодным компрессом, и когда меня выписали, оказалось, что, совсем как некогда в школе, нельзя наверстать упущенное. К тому же, как только я вернулся в строй, воспаление возобновилось, но в менее тяжелой и быстрее поддававшейся лечению форме. Это и выручило меня. Домашний врач моей матери был знаком со старшим полковым врачом, от которого все зависело. «Впредь до дальнейших распоряжений» мне дали отпуск; а к новому году – уволили вчистую. Я – с какой радостью! – подписал отказ от возмещения за причиненное мне увечье. Главная приемная комиссия, куда я был направлен, после повторного осмотра определила меня в «обученный ландштурм», что фактически означало полное освобождение. С этого момента я уже не соприкасался больше с военной службой. Война тоже не посягнула на мою материальную личность по той простой причине, что первый же военный врач, освидетельствовавший меня, оказался моим читателем и, положив руку мне на голое плечо, заверил: «Вас оставят в покое». Все остальные подчинились его решению.








