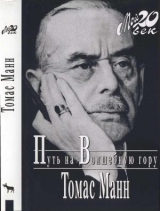
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
Не таков ли и его реализм, который он сознательно противопоставляет исходящему из идеи творчеству Шиллера, подобно тому как гомеровская пластичность Толстого отличается от призрачной апокалиптики Достоевского? «Твое неуклонное направление, – сказал ему в молодости друг его Мерк, и эти слова он всегда держит в памяти как своего рода лозунг, – твое неуклонное направление в том, чтобы претворять действительность в поэтические образы. Другие стремятся воплотить поэтическое в действительность, и из этого получается одна ерунда». «Дух действительности, – говорит Гёте, – вот истинно идеальное», – эта направленная против Шиллера антиидеалистическая форма идеализма определяет все его отношение к человеку и человечеству и особенно проявляется в области политики. Ведь это ему принадлежит шокирующее высказывание о том, что разграбление крестьянского двора – действительно бедствие и катастрофа, а «гибель отечества» – всего лишь пустая фраза. В этих словах нашли свое радикальное выражение его аполитичный и антиполитический образ мыслей и, что одно и то же, его антидемократичность, не имеющая ничего общего с аристократизмом. Он сам всегда считал, что Шиллер по существу был гораздо аристократичнее его. Именно от критически более зоркого из них, от Шиллера, узнаем мы о различиях их духовного облика, различиях, которые столь глубоко и упорно занимали Шиллера и которым мы обязаны доброй половиной его эссенистики, – именно от Шиллера, повторяю, узнаем мы об этих различиях и противоположностях самым лучшим и надежнейшим образом, и, когда в своей статье «О наивной и сентиментальной поэзии» он говорит о реалисте как о человеколюбце, не отличающемся, однако, слишком лестным мнением о человеке и человечестве, и об идеалисте, у которого, напротив, столь высокое представление о человечестве, что ему грозит опасность впасть в человеконенавистничество, анализ этот, совершенно очевидно, относится к нему самому и Гёте. И психологически в высшей степени интересно проследить, как Шиллер, формулируя отношение идеалиста к человеку, предстает здесь французом в той мере, в какой он им является. Ведь этими скупыми словами он характеризует не что иное, как дух французской литературы, это удивительное смешение гуманитарно – революционного порыва, благородной веры в человечество и глубочайшего, горчайшего, более того – язвительнейшего пессимизма по отношению к человеку как личности. Он проводит различие между отвлеченной, политически – гуманитарной страстью и чувственным реализмом индивидуальной симпатии. Он – патриот человечества в гуманитарно – революционном духе, и если автора «Геца», «Фауста», рифмованных изречений и «Германа и Доротеи» можно назвать непатриотом на чисто немецкий лад, то творец «Телля» и «Орлеанской девы» – патриот интернациональный. Он носитель идеи бюргерства в политическом, демократическом смысле, тогда как Гёте представляет ее в духовном, культурном. Ведь нам известно, что именно благодаря этому своему духовно – культурному бюргерству он воспринял Французскую революцию как нечто зловеще – враждебное, что, по его словам, точило его, как болезнь, и едва не погубило его талант; и трудно сказать, в какой мере Гёте отметил немецкое бюргерство чертами внутренней человечности, культурности, антиполитичности и в какой мере сам он, в силу этого, был выражением немецкого бюргерства. Несомненно, обе стороны здесь взаимно утверждали друг друга, ибо чувство подсказывает нам, что Гёте, каким бы гражданином вселенной он ни был, или, вернее, благодаря этому, был бюргером в духовном смысле, немецким бюргером. И хотя он поставил знак равенства между человечеством и борьбой, заявив: «Человеком был я в мире, это значит – быть борцом», для него не существует человечества в борьбе за политические, революционные идеи. Ему чужд пафос освободительной борьбы в политико – гуманитарном плане. И поэтому он вынужден был особо подчеркивать, что он тоже боец, и притом боец за человеческую свободу:
Не только Блюхеру – и мне
Вы памятник отлейте,
Разбил он галлов на войне,
Порвал я мрака сети.
Но под старость он делает признание: «Мне никогда не было свойственно ратовать против общественных институтов: это всегда казалось мне высокомерием, и я, быть может, действительно слишком рано стал учтивым. Короче говоря, мне это никогда не было свойственно, и я лишь вскользь касался подобных вещей». Он был борцом и освободителем в сфере нравственной, духовной, особенно эротической, но не в государственной и гражданской. Плачевной судьбой Гретхен, любовным преступлением Фауста он не обвиняет, не затрагивает какой‑либо параграф закона, какиелибо общественные отношения, какой‑либо «институт», а всего лишь как поэт беседует с вечностью о судьбе человеческой. Потому‑то и оказалось возможным, что этот самый поэт, будучи членом веймарского государственного совета, под смертным приговором юной детоубийце, которую сам герцог готов был помиловать, приписал, после имен других суровых господ министров: «присоединяюсь», – факт, как было многократно отмечено до меня, потрясающий не менее сильно, чем весь «Фауст».
Француз Морис Баррес назвал «Ифигению» цивилизующим произведением, отстаивающим права общества от высокомерия духа. Эти слова, пожалуй, еще больше подходят к другому его творению, проникнутому духом самовоспитания, самоукрощения и даже самоистязания, которое столь охотно поносили за чопорность и жеманность, – к «Тассо». Своим страшным «присоединяюсь» Гёте поставил свой светский авторитет на защиту прав общества против того духа, освобождению которого он столь могуче содействовал как поэт – апеллируя к чувству, и как писатель – аналитически расширяя и углубляя познания о человеке. Он защищал общество в консервативном смысле, заложенном уже в самом понятии защиты. Нельзя быть аполитичным, можно быть только антиполитичным, то есть консервативным, тогда как дух политики по своей сущности гуманитарно – революционен. Именно это имел в виду Рихард Вагнер, заявляя: «Немец консервативен». Однако, как случилось с Вагнером и его духовными учениками, немецкое и консервативное может быть ©политизировано до национализма, по отношению к которому Гёте, этот немецкий гражданин вселенной, проявлял холодность, граничащую с презрением, даже тогда, когда национальное было исторически оправдано, как в 1813 году. Его ужас перед революцией был ужасом перед политизацией, то есть демократизацией Европы, – процессом, неизбежным духовным атрибутом которого был национализм; и насколько неизменным остался характер немецкого бюргерства, можно видеть по тому поразительному факту, что этот ужас культуры перед надвигающейся политизацией был столь же глубоко пережит и в наше время, скажем, в годы 1916–1919–е, причем пережит столь непосредственно, что мы сами не отдавали себе отчета в том, сколько во всем этом было типического.
Что касается Гёте, то здесь, быть может, уместно одно соображение, относящееся к некоторым индивидуально человеческим особенностям и приметам антиидеалистического миросозерцания, соображение, заводящее столь глубоко в психологически интимное и тайное, что мы ничего не можем утверждать категорически. Нет никакого сомнения, что идеальная вера, хоть она и должна быть готова к мученичеству, делает нас духовно счастливее, чем то объективное – в высоком и чисто ироническом смысле – творчество, лишенное убеждений и оценок, которое отражает все с одинаковой любовью и равнодушием. Если присмотреться поближе, то в Гёте, как только прошла невинная пора его молодости, проступают черты глубокой скорби и угрюмости, неизбывной безрадостности, которые, без сомнения, каким‑то глубоким, жутким образом связаны с его безверием, его индифферентностью, изобличающей в нем дитя природы, с тем, что он называет своим любительством, своим моральным дилетантизмом. Тут и своеобразная холодность, и злобность, и злоречие, и сатанинско – брокенские настроения, и стихийно – демоническая, чреватая всякими неожиданностями игра сил; всему этому можно отдаться всей душой, и все это приходится любить, если любишь его. Проникнув в эту сферу его существа, начинаешь понимать, что счастье и гармония – скорее удел детей духа, чем детей природы. Ясность, внутренняя цельность, целеустремленность, положительное, исполненное веры и решимости умонастроение, короче говоря, душевное спокойствие – все это гораздо доступнее для первых, чем для вторых. Природа не дарует спокойствия, простоты, однозначности, она – стихия сомнительности, противоречия, отрицания, безграничного скепсиса. Она не оделяет добротой, ибо сама она не добра. Она не терпит решающих суждений, ибо она нейтральна. Она наделяет детей своих индифферентностью и неопределенностью, которые более сродни муке и злобе, чем счастию и радости.
«Склонность Гёте к отрицанию и его недоверчивая нейтральность снова резко дали себя знать», – пишет канцлер фон Мюллер. И многие современники, встречавшиеся с поэтом, свидетельствуют о том стихийном, темном, злобном и прямо‑таки дьявольски смущающем, что исходило из его существа. Сотни раз отмечались его горечь и насмешливость, его софистический дух противоречия. «Из одного глаза глядит у него ангел, – пишет один его дорожный знакомый, – из другого – дьявол, и в каждом его слове – глубокая ирония над всеми делами человеческими». Но самое страшное, что о нем было сказано, это: «В нем есть терпимость, но нет душевной мягкости».
К изумительно приятному впечатлению, которое он, как говорят, производил, всегда примешивается что‑то удручающе – жуткое, и несомненно, что именно этой стороной его натуры можно объяснить то недоумение и печаль, которые он вызывал в своем друге Шиллере. «Достойно сожаления, – пишет Шиллер в 1803 году, – что Гёте так обленился и ни на чем не может сосредоточиться в полную силу… Вот уже три месяца как, пребывая в добром здравии, он не выходил не только из дому, но даже из своей комнаты… Если б Гёте сохранил еще веру в возможность благого и был последователен в своих действиях, он мог бы еще многое сделать здесь, в Веймаре, многое создать и преодолеть этот злополучный застой». Вера в возможность благого! «Не следует думать, – писал кто‑то о нем, – что его взгляды всегда отличались твердостью и определенностью, отнюдь нет. Но как раз это и обеспечивало ему свободу познания различных вещей, так что за ним каждый раз оставалось право вернуться к ним и оценить их по – новому». Однако эта характеристика кажется слабой и эвфемистичной по сравнению с истиной, которая явствует из высказываний его близких и друзей и вполне соответствует тому тревожному впечатлению, которое производила его Протеева натура, скорее ироническая и эксцентричная, чем уравновешенно – спокойная, скорее отрицающая, чем утверждающая, скорее юмористическая, чем веселая, способная принимать любой облик, играть ими всеми, высказывать и отстаивать самые противоположные взгляды. «В каждой его фразе, – пишет Шарлотта фон Шиллер, – заключалось противоречие, так что можно было толковать все, как угодно, но при этом вы с болью чувствовали, что за всеми словами учителя стоит одна мысль – “Я сделал ставку на ничто!”» Ставку на ничто! Ведь это нигилизм, и тогда во что же он, строго говоря, верил? В человечество он не верил, я хочу сказать, в возможность его революционного очищения и освобождения. «Его вечный удел – шатания и колебания, одна его часть будет страдать, другая благоденствовать; эгоизм и зависть, подобно злым демонам, никогда не перестанут вести свою игру, и борьбе партий не будет конца». Но верил ли он хотя бы в искусство, было ли оно для него, как выражаются добрые люди, священным? Некоторые его высказывания свидетельствуют о противном. Не могу забыть, как глубоко потряс меня его ответ одному молодому человеку, восторженно заявившему, что он хочет жить для искусства, трудиться и страдать. Гёте холодно возразил: «О страдании в искусстве не может быть и речи». Для натур экстатических, для одержимых поэзией у него всегда наготове ушат холодной воды. Однажды, к великому изумлению собеседника, он заметил, что стихотворение само по себе ничего не стоит. «Каждое стихотворение – поцелуй, который мы дарим миру. Но от одних поцелуев дети не рождаются». После чего умолк и не пожелал продолжать разговор.
Мне невольно хочется связать с этими чертами его личности еще одну, неоднократно подмеченную и вызывавшую недоумение у всех, кто ее наблюдал. Это – его непреодолимая, всю жизнь ему сопутствовавшая неловкость и застенчивость в отношениях с людьми, скрывавшаяся за церемонной чопорностью, которая не могла замаскировать ее истинную сущность; надо полагать, она была особенно заметна в человеке придворном и светском. «Хотя ему, – писал один англичанин, – вероятно, больше чем кому‑либо из европейских поэтов, приходилось вращаться в избранном обществе, создается впечатление, что он всякий раз несколько смущается, когда ему представляются впервые. Я готов был приписать это его недомоганию, – он был нездоров, когда я пришел к нему, – если бы один из ближайших его друзей не сказал мне, что Гёте никогда не удавалось вполне побороть в себе это чувство». Как‑то раз, – речь шла о его сановно – гордой манере держаться с любопытными посетителями и почитателями, – Оттилия фон Гёте со всей уверенностью заявила, что, сколь невероятно это звучит по отношению к человеку, столь видному и столь изысканно – обходительному, тем не менее остается фактом, что на самом деле Гёте держит себя так от смущения, которое он старается скрыть под кажущимся высокомерием. В пояснение она добавила, что в действительности Гёте скромен и внутренне смиренен. Мы в этом не сомневаемся. Чем выше дух, чем он шире, тем более чуждо ему самомнение, всегда являющееся плодом ограниченности. Но ведь ему же принадлежат и слова: «Только негодники скромны», – и в нем было достаточно развито чувство собственного величия, собственного несравненного превосходства над всеми теми, с кем ему приходилось сталкиваться. Причины подобной застенчивости коренятся глубже, она – признак того иронического нигилизма, о котором мы уже говорили, той глубочайшей стихийно – демонической творческой беспринципности и недостатка веры, идейного подъема, одушевлявших больного Шиллера, который, безусловно, не знал этой неустойчивости характера, именуемой смущением.
Несомненно что вся та ненависть, которую ему пришлось испытать, все упреки и жалобы, направленные против его эгоизма, его высокомерия, его аморальности и «колоссальной силы торможения», были вызваны этой холодностью к идейно – политическому подъему как в его националистически – воинствующей, так и революционно – человеческой разновидностях, то есть тем, что он упорно отвергал основное направление своего века – демократическую и национальную идею. За этой досадой, за этими жалобами забывали, что равнодушие Гёте к политическому аспекту человечества отнюдь не означало недостатка в любви – как любви к людям, ибо он сказал, что один лишь вид человеческого лица может излечить его от меланхолии, и ему принадлежат высокогуманные слова: «Истинное познание человечества – в познании человека», – так и, что одно и то же, любви к будущему. Ибо человек, любовь, будущее – всеедины, это единый комплекс симпатии и жизнелюбия, которые, при всей аполитичности Гёте, составляли его глубочайшую сущность и определяли его понимание «жизнедостойного». Я как сейчас помню испытанное мною удивительное впечатление парадоксальности и властной смелости, когда я, молодой человек, получивший от Шопенгауэра великое разрешение на пессимизм, впервые сознательно задержался в «Эпилоге к колоколу» на слове «жизнедостойный». «Жизнедостойного настигнет смерть» – словосочетание, насколько мне известно, до Гёте не существовавшее и созданное им самим. Видеть в жизни высший критерий, а в том, чтобы быть достойным ее, – высшее благородство, которое, если все бы шло естественным путем, защитит тебя от уничтожения: это шло вразрез с моим юношеским пониманием благородного, сводившимся, в сущности, к возвышенной неприспособленности и непризванности к земной жизни; ведь и в самом деле, это удивительное словосочетание исполнено какого‑то задорного жизненного позитивизма, антипессимистического жизнеутверждения, которое в моих глазах представляет собою самую высокую и самую общую форму гражданства – жизненное гражданство , когда человек, широко расставив ноги, прочно стоит в жизни; это жизненный аристократизм любимчиков и баловней природы, которые, будучи не вовсе далеки от жестокости, пренебрежительно смотрят на «горемык, алчущих недостижимого». Я сказал, что этот вид аристократизма недалек от жестокости, потому что действительно есть нечто жестокое в упоре на витализм, сказывающемся в словах восьмидесятилетнего Гёте о негодниках, которые слишком рано убираются из жизни, – он имел в виду беднягу Земмеринга, только что умершего в возрасте семидесяти пяти лет. «Вот кого я хвалю, – воскликнул он, – так это моего друга Бентама. Он в высшей степени радикальный глупец, но отлично держится, хотя и старше меня на несколько недель!» Тут можно упомянуть и забавный анекдот о том, как Гёте потешался над этим самым Бентамом, английским экономистом – утилитаристом, над его радикализмом, а ему возразили: родившись в Англии, его превосходительство вряд ли избегло бы радикализма и роли борца против злоупотреблений. «За кого вы меня считаете? – отвечает Гёте. – Чтобы я стал вынюхивать злоупотребления, да еще раскрывать их и предавать огласке, я, который в Англии сам жил бы злоупотреблениями? Ведь если б я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с годовым доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов». Отлично, ну а если б он вытянул не главный выигрыш, а пустой билет? Ведь пустышек куда больше! На что Гёте возражает: «Не всякий, милейший, создан для главного выигрыша. Неужели вы думаете, что я имел бы глупость вытащить пустой билет!» Вот она, уверенность в благосклонности жизни, жизненное гражданство, метафизически – аристократическое сознание, что всегда и везде он был бы в числе привилегированных, всегда и везде был бы в числе высокорожденных. Не удивительно ли, что этот баловень созидательных сил категорически отвергал и отметал все утверждения о том, что он прожил счастливую жизнь, – утверждения как завистливые, так и восторженные. Успокойтесь, говорил он, я не был счастлив; если сложить вместе все радостные часы моей жизни, то их не наберется и на четыре недели. «То было вечное перекатывание камня, и его надо было поднимать вновь и вновь». И за этим следует потрясающая, поистине всеобъясняющая фраза: «Мне, как творцу, предъявлялось слишком уж много требований как извне, так и изнутри». Итак, несчастлив, и все благодаря огромности задач, которые ставил перед ним его гений и осуществлению которых постоянно мешал назойливый свет. Каково же отношение этого гордого своей живучестью человека к здоровью и болезни? Гений, как известно, не может быть нормальным в обывательском, сугубо бюргерском смысле этого слова, так же как и благословенное природой не может быть в глазах филистера естественным, здоровым, законным. В сфере конституциональной тут всегда много нежного, легко раздражимого, склонного к кризису и болезни, в сфере психической – много вызывающего у посредственности недоумение, жутко волнующего, близкого к психопатологическому. Сам Гёте прекрасно это знает и наставительно разъясняет это Эккерману. «То необычайное, – говорит он, – что создают подобные люди (читай: люди, подобные мне), предполагает весьма нежную организацию, ибо они должны быть способны на редкие переживания и различать небесные голоса. Подобная организация легко оказывается расстроенной и уязвленной в конфликте с миром и его элементами, и тот, в ком с величайшей чувствительностью не сочетается крайняя выносливость, бывает склонен к постоянной болезненности». И в самом деле, это сочетание чувствительности и выносливости решающим образом определяет особую жизнеспособность гения. «Страданью, смерти был он обречен», – сказал Гёте о своем друге Шиллере, но разве сам он, стоявший с жизнью на гораздо более дружеской ноге, не был таким же? Кровохарканье, которым он страдал в юные годы, говорит о предрасположении к туберкулезу, и тысячи признаков величайшей возбудимости, утомляемости, сугубой раздражительности, а также несколько случаев тяжелых заболеваний, наблюдавшихся у него вплоть до глубокой старости, указывают на неустойчивость этого организма, постоянно находящегося под угрозой, и свидетельствуют о том, какая цепкая духовная воля к жизни, я бы сказал, какой жизненный уклад требовался для того, чтобы удерживать эту натуру при исполнении жизненного долга и заставить ее прожить полную, канонически долголетнюю человеческую жизнь, довести ее до восьмидесяти двух лет. То не было детской игрой ни для тела, ни для души.
Ты выдержал, ты оказался прав.
Кто б это сделал, шеи не сломав!
«Как жить в семьдесят лет тому, кто в двадцать написал Вертера!» – воскликнул он однажды, и его жизненное гражданство ставится под сильное сомнение, когда позднее, в стихотворении, посвященном герою своего юношеского романа, он следующим образом обращается к оплакиваемой тени:
Остался я, а ты своей дорогой
Пошел вперед и потерял не много.
Он боялся этой маленькой книжки, полной сокрушающей чувствительности, книжки, некогда открывшей миру безумное блаженство смерти, и сознавался в старости, что один только раз перечитал ее после выхода в свет и с тех пор остерегался брать в руки. «Ведь там что ни слово, то зажигательная ракета, – говорит он. – Мне становится не по себе, и я боюсь вновь впасть вто патологическое состояние, которое породило эту книгу». В зрелые годы он теоретически настаивает на том, что искусство должно давать лишь здоровое и жизнеутверждающее, и порицает то, что он называет современной, злоупотребляющей искусством, «лазаретной поэзией», противопоставляя ей тиртейскую, поющую не только военные песни, но и вооружающую человека мужеством для жизненных битв. Но следовал ли он этому принципу практически? Во всяком случае, не в «Вертере», и странно, что певец гармонии, тиртейски призывающий нас жить вопреки всем невзгодам, выбирает для себя подобную тему и облекает свое самое сокровенное в судьбу современника, кончающего сумасшедшим домом и монастырем. Ведь в области морали жизненная гражданственность требует сугубой добродетели, безусловного утверждения нравственного, ибо благоразумие и нравственность – столпы жизни. Он же весьма не по – бюргерски отстаивает страсть, то, что люди называют «экзальтацией и болезненностью», он утверждает, что экзальтация и болезнь – также естественные состояния и что «так называемое здоровье» может заключаться лишь в равновесии противодействующих сил. Он не согласен со своим фамулусом, утверждающим, что произведения Байрона вряд ли что могут дать для воспитания чистой человечности, – его мораль будто бы слишком проблематична. «Отчего же? – возражает Гёте. – Смелость, дерзость и грандиозность Байрона – разве все это не имеет воспитательного значения? Нельзя искать воспитательное только в безусловно чистом и нравственном. Все великое воспитывает нас, как только мы познаем его!» На мой взгляд, это сказано отнюдь не по – бюргерски, и, быть может, самая небюргерская фраза, когда‑либо слетевшая с его уст, гласит: «Французы педанты, ибо они скованы формой». Прислушайтесь к этому хорошенько! В этом своеобразном принижении формы через слово «педанты» заложено утверждение хаотического, тяготение к смерти, которое именно французы постоянно ставцли в упрек немецкой натуре. Жорж Клемансо, чья политическая вражда ко всему немецкому находила продолжение и в духовной сфере, обладая всем психологическим чутьем своей расы, сказал: «Немцы любят смерть. Посмотрите на их литературу, в сущности они только ее и любят». Приведенное мною изречение Гёте – сугубо немецкое и в то же время сугубо небюргерское.
Несмотря на все это, по – видимому, достаточно быть художником, творцом, каким был Гёте, чтобы любить жизнь и хранить ей верность. Его жизнелюбие сказывается прежде всего в том, что, несмотря на отрицание политики и связанный с этим охранительский образ мыслей, в нем не заметно ни малейшего следа реакционности. Многогранность его натуры, ее бесконечный дилетантизм давали и дают повод апеллировать к его авторитету, использовать его имя в интересах самых различных идеологий; невозможно лишь одно: поставить его на службу какой бы то ни было духовной реакции. Он не был «князем полуночи», Меттернихом [91]91
Меттерних, князь Клеменс (1773–1859) – реакционный австрийский политический деятель и дипломат, вдохновитель «Священного союза»
[Закрыть], который насиловал жизнь из гнусного страха перед будущим. Он любил порядок, но считал, что служить ему должны разум и свет, а не глупость и темнота. «Мелкие людишки, – говорит он в «Вильгельме Мейстере», – больше всего на свете страшатся разума; понимай они, что действительно страшно, они боялись бы глупости. Но разум им мешает, и его надо устранить; глупость же только губительна, а когда еще гибель наступит…» Мало известен или охотно предается забвению тот факт, что в 1794 году, когда барон фон Гагерн выпустил воззвание, в котором призывал немецкую интеллигенцию, и в особенности Гёте, отдать свое перо служению «благому», то есть консервативному, делу, а по существу – служению новому союзу немецких князей, предназначенному спасти страну от анархии, – что тогда так называемый княжеский холоп, вежливо поблагодарив за оказанное доверие, заявил, что считает невозможным объединить князей и писателей для совместной деятельности. Он ежечасно давал отпор реакционерам в искусстве и всяческим мракобесам и осуждал получивший в то время широкое распространение архаизирующий стиль в живописи. Он – борец за все свободное и сильное в искусстве, он восторгается Мольером за то, что тот бичевал пороки, рисуя людей такими, какие они есть, и он охотно запретил бы молодым девушкам посещать театры, чтобы на сцене без стеснения можно было показывать жизнь так, как ее и следует показывать вполне взрослым мужчинам и женщинам.
То, что, несмотря на все нападки, которым он подвергался и гнусность которых сейчас трудно себе представить, он обращался ко всей нации как писатель национальный, в более поздние годы, естественно, составило основу его самосознания, – самосознания, не даваемого от рождения ни одной человеческой душе, но с которым творческая личность постепенно свыкается, как с судьбой. Отпрыск бюргерского семейства, мальчиком сидевший когда‑то за столом с рисовальными или письменными принадлежностями у себя в мансарде, на Хиршграбене, во Франкфурте, достигнув семидесяти лет, делает человечески трогательное признание, что «ему трудно было научиться величию», – величию, состоящему в том, чтобы в межнациональном, эпохальном видеть достойный объект своей деятельности. Но не только этому научился он. Стремление охватить весь мир, понятное в писателе, чей творческий путь начался со столь многознаменательного успеха, как «Вертер», другими словами, убеждение, что поэзия – всеобщее достояние человечества и что именно для нас, немцев, важно выйти из узкого круга собственной ограниченности, чтобы не впасть в педантичное чванство, индивидуальное и национальное, все усиливается в нем к старости. «Вместо того чтобы замыкаться в себе, – учит он, – немец должен принять в себя весь мир, чтобы воздействовать на мир… Вот почему, – добавляет он, – я охотно вникаю в жизнь и культуру чужих народов и каждому советую делать то же самое. Национальная литература теперь немногого стоит, близится эпоха мировой литературы, и каждый должен содействовать ее скорейшему приходу». Он впервые произносит эти слова – «мировая литература», и они звучат у него наполовину как факт, наполовину как требование, предъявляемое будущему. Разумеется, мировая литература для него не просто мертвый итог всей письменно зафиксированной духовной жизни человечества, но та вершина, тот цвет письменности, к которому давно уже принадлежало его собственное творчество и который повсюду, где бы он ни расцвел, рассматривается и признается как достояние всего человечества благодаря своей всеобщей значимости, причем это подкрепляется сознанием, что настала пора, когда только всемирно достойное стоит на повестке дня и заслуживает внимания, а все, что имело значение лишь в собственной сфере возникновения, отжило свой век. И действительно, все, что создавал он сам, уже при его жизни воспринималось и признавалось как мировая литература, причем не только те его творения, которые возникли под влиянием средиземноморской культуры и отмечены печатью гуманистически – классического духа, но и типично северонемецкие, такие, как первая часть «Фауста» и воспитательный роман «Вильгельм Мейстер». Великий старец имеет удовольствие получить от шотландца Томаса Карлейля английский перевод этой книги с письмом, полным детски – глубокой любви и преданности. Он перелистывает французское издание «Фауста», украшенное рисунками Эжена Делакруа. В журналах Эдинбурга, Парижа и Москвы он читает торжественные рецензии на недавно опубликованный эпизод с Еленой из второй части трагедии; и здесь вполне уместно говорить об удовлетворении, ибо мировой резонанс, который имело его творчество, должен был послужить ему вознаграждением за ту злобную недооценку его труда, в которой не было недостатка у него на родине. «Ни одна нация, – говорит он, – не имеет права судить о том, что совершается и пишется у нее. Это верно и в отношении каждой эпохи». Один остроумный француз выразил ту же мысль более лаконично: «L’etranger, cette posterite contemporaine» [92]92
Признание за границей – это прижизненное признание потомством (фр.).
[Закрыть].
Несомненно, утверждая понятие мировой литературы, Гёте во многом предвосхищал будущее, и после его смерти понадобилось еще десять десятилетий, сопровождавшихся развитием путей сообщения, бурным ростом взаимного обмена и тесным сближением европейских стран, да и всего мира, скорее подхлестнутым, нежели задержанным мировой войной, чтобы наконец‑то осуществилось то, что казалось Гёте столь близким, и осуществилось в такой степени, что в наши дни налицо серьезная опасность смешения всемирно достойного, всемирно значительного с всемирно ходовым, то есть с низкопробным интернациональным потребительским товаром, и это обстоятельство охотно используется провинциалами духа для националистической дискредитации всемирно признанных культурных достижений; они умышленно валят в одну кучу истинно великое и дешево – сенсационное, думая таким образом опорочить наднациональное, а заодно и узконациональное и межнациональное. Во времена Гёте это было совершенно невозможно или почти невозможно. И уж, во всяком случае, никогда нельзя было доказать, что почести, которые воздавались ему за границей, следует приписать исключительно чуждости его творчества всему истинно немецкому.








