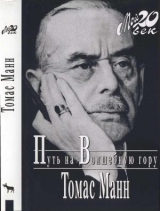
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
Бесконечно компрометирующие героя записи этих его «прежних приключений» и составляют содержание «романа», в котором небывалым доселе образом отталкивающее переплетается с привлекательным. Автор или тот, кого Достоевский выставляет автором, как бы ставит опыт. Он хочет выяснить, «можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?». Он вспоминает Гейне, утверждавшего, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам о себе наверно налжет, как Руссо, который из чистого тщеславия сам на себя налгал. Автор согласен с этим; но различие между Руссо и им самим, говорит он, заключается в том, что Руссо исповедовался перед публикой, он же пишет для одного себя и раз навсегда объявляет, что если он и пишет, как бы обращаясь к читателю, то единственно только для показа, потому что так ему легче писать. «Тут форма, одна пустая форма».
Но ведь это неправда – Достоевский писал для общества, для печати и для возможно большего круга читателей, хотя бы уже потому, что ему крайне необходимо было получить за свою работу деньги. Искусственная и почти шутливая предпосылка полной уединенности автора, якобы далекого от всяких литературных помыслов, полезна как оправдание всеобъемлющего цинизма душевного самораскрытия. А вымысел внутри вымысла, эта якобы «фиктивная» апелляция к читателю, постоянное обращение к каким‑то «господам», с которыми спорит рассказчик, – все это тоже очень полезно, ибо вносит в повествование элемент полемики, диалектики, драматичности – то, чем Достоевский отлично владеет и что придает занимательность – в высшем смысле этого понятия – самому серьезному, злобному, потайному.
Признаюсь, первая часть «Записок из подполья» мне еще больше по душе, чем вторая, – потрясающая и постыдная история с проституткой Лизой. Верно, что первая часть – не действие, а рассуждения, и, в частности, рассуждения, весьма напоминающие болтливый надрыв некоторых религиозных персонажей из больших романов Достоевского. Верно и то, что эти рассуждения в высшей степени сомнительны и могут иметь опаснейшие последствия, сбивая с толку простосердечных людей, ибо они основаны на скептическом отношении ко всякой вере и в неистовом вероотступничестве направлены против цивилизации и демократии, против апостолов человечества и поборников социальной справедливости, ведь последние полагают, будто человек стремится к счастью и выгоде, тогда как он по крайней мере столь же сильно жаждет муки, этого единственного источника познания, отнюдь не мечтает о хрустальном дворце, муравейнике социального совершенства, и никогда не откажется от разрушения и хаоса. Все это отдает реакционным злобствованием, все это может отпугнуть людей доброй воли, которые в наши дни видят смысл развития в преодолении пропасти, разверзшейся между духовным идеалом, воплощающим надежды человечества, и действительностью, безнадежно отсталой в общественном и экономическом отношении. Что и говорить, смысл развития именно в этом и состоит, и все же еретические рассуждения Достоевского истинны: это темная сторона жизни, на которую не падают лучи солнца, это истина, которой не смеет пренебрегать никто, кому дорога истина вообще, вся истина, истина о человеке. Мучительные парадоксы, которые «герой» Достоевского бросает в лицо своим противникам – позитивистам, кажутся человеконенавистничеством, и все же они высказаны во имя человечества и любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания.
Как предлагаемое читателю издание Достоевского относится ко всей совокупности его творений и как написанные им произведения относятся к тому, что он мог бы и хотел написать, не будь он ограничен пределами человеческой жизни, – так и то, что я сказал здесь о русском титане, относится к тому, что можно о нем сказать. Достоевский – но в меру, Достоевский – с мудрым ограничением: таков был девиз. Когда я рассказал одному из друзей о моем намерении написать предисловие к этому сборнику, он сказал с улыбкой:
– Бербгитесь. Вы. напишете о нем книгу.
Я уберегся.
История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа
Ибо хотя каждое поэтическое произведение в пору своего выхода в свет должно быть и ценно и действенно само по себе, отчего я всегда недолюбливал всякие предисловия, послесловия и извинения перед критикой, все же такие труды, отступая в прошлое, утрачивают свою действенность, утрачивают тем заметнее, чем действеннее были они в свое время, и можно даже сказать, что их ценят тем меньше, чем больше способствовали они расширению отечественной культуры; так меркнет мать перед своими красивыми дочерьми. Вот почему и полезно придать историческую ценность подобным произведениям, поведать о том, как они создавались, доброжелательным знатокам.
Гёте, «Поэзия и правда»
I
Как явствует из моих записей за 1945 год, 22 декабря меня посетил корреспондент лос – анджелесского журнала «Тайм мэгэзин» (от Даунтауна до нашей дачи на автомобиле можно добраться за час), чтобы призвать меня к ответу за одно пророчество, сделанное мною пятнадцать лет назад и в срок не исполнившееся. В самом конце «Очерка моей жизни», который я тогда написал и который был переведен на английский язык, я, забавляясь своей верой в некие симметрические соотношения и числовые соответствия в моей жизни, высказал довольно твердую уверенность, что в 1945 году, семидесяти лет от роду, то есть в том же возрасте, что и моя мать, я навеки покину сей бренный мир. Год, о коем шла речь, заявил корреспондент, почти что истек, а я так и не сдержал своего слова. Как же я оправдаюсь перед читающей публикой в том, что еще живу?
Ответные мои речи пришлись не по вкусу моей жене, тем более что ее беспокойная душа давно уже пребывала в страхе за мое здоровье. Она пыталась прервать меня, возразить, опровергнуть объяснения, в которые я пустился перед каким‑то репортером, хотя ее доселе от них избавлял. Исполнение пророчеств, отвечал я, – дело мудреное; подчас они сбываются не буквально, а на какой‑то символический лад, но тут рсть уже доля пусть неточного, пусть даже сомнительного, а все‑таки явного исполнения. Надо учитывать возможность всяческих замен. Спору нет, моего педантизма не хватило настолько, чтобы умереть. Однако, как воочию видит мой посетитель, в назначенный мною год моя жизнь – в аспекте биологическом – все‑таки пришла к такому упадку, какого никогда еще прежде не ведала. Хотя я и надеюсь снова собраться с силами, теперешнее мое состояние вполне удовлетворяет меня как доказательство моего ясновидения, и я буду весьма признателен гостю, если он и его достопочтенный журнал тоже на этом и помирятся.
Всего через три месяца после этой беседы наступил момент, когда биологический спад, на который я позволил себе сослаться, достиг предельной своей глубины, и серьезный, потребовавший хирургического вмешательства кризис на несколько месяцев нарушил привычный быт, подвергнув мою природу запоздалому испытанию, в такой его форме более чем неожиданному. Если я обо всем этом упоминаю, то лишь потому, что усматриваю здесь любопытное противоречие между силами биологическими и духовными силами. Периоды телесного благополучия и отменного здоровья, периоды физической бодрости и крепости далеко не всегда благодатны и в творческом отношении. Лучшие главы «Лотты в Веймаре» были написаны мною как раз в те полгода, когда я претерпевал неописуемые муки инфекционного ишиаса, непостижимые для человека, не перенесшего их; это была самая отчаянная боль, какую мне когда‑либо случалось испытывать, боль, от которой нет избавления ни днем ни ночью, сколько бы ты ни старался принять удобную позу. Такой позы вообще не существует. После страшных ночей – не дай бог, чтобы они повторились, – завтрак обычно несколько успокаивал воспаленный нерв, и тогда, кое‑как, по преимуществу боком, примостившись к письменному столу, я вступал с Ним, со «светочем высот чудесных», в unio mystica [109]109
Мистический союз (лат.).
[Закрыть]. Но ведь ишиас – это болезнь, в общем‑то не так уж и глубоко вторгающаяся в жизнь и при всей своей мучительности не очень серьезная. А вот время, о котором сейчас идет речь и которое я имел в виду, пророчествуя насчет своей смерти, действительно было порой медленно прогрессирующего упадка моих жизненных сил, их явного биологического «истощения». Однако именно с этой порой связано создание произведения, которое сразу же по выходе в свет обнаружило свою недюжинную лучевую мощность.
Было бы чистым доктринерством объяснять и обусловливать физическим спадом творческий акт, вобравший в себя материал целой жизни и отчасти непроизвольно, отчасти же ценою сознательного усилия синтезировавший в некоем сгустке целую жизнь, а потому так или иначе обнаруживающий свою заряженность жизнью. Очень легко поменять местами причины и следствия, поставив мое заболевание в вину работе, которая, как никакая другая, меня извела и потребовала от меня напряжения сокровеннейших сил. Доброжелательным наблюдателям моей жизни дело представлялось именно в таком свете, и если мой вид вызывал у них опасения, они замечали ничтоже сумняся: «Это все из‑за книги». И разве не признавал я их правоты? Есть такое мудрое изречение: тот, кто отдает жизнь, ее обретает. Это изречение обладает в сфере искусства и поэзии не меньшими правами гражданства, чем в сфере религиозной. Жертвоприношение жизни никогда не совершалось из недостатка в жизненной силе, и это отнюдь не свидетельство недостатка в таковой, если человек в семьдесят лет – странная вещь! – пишет свою «самую сумасшедшую» книгу. Не свидетельствовала о таком недостатке и легкость, с которою я, отмеченный шрамом, протягивающимся от груди к спине, на радость врачам, оправился от операции, чтобы все‑таки завершить это…
Попытаюсь, однако, с помощью скупых записей в тогдашнем моем дневнике восстановить для себя и для своих друзей историю «Фаустуса» в той нерасторжимой связи с натиском и сумятицей внешних событий, которая выпала ей в удел.
II
В ноябре 1942 года, из‑за поездки в Восточные Штаты, задержалась работа над завершением «Иосифа – кормильца», уже весьма близким в предшествующие недели, когда гремела битва за окутанный дымом и пламенем Сталинград. Эта поездка, в которой меня сопровождала рукопись лекции о почти что законченной тетралогии, вела в Нью – Йорк через Чикаго и Вашингтон, была богата встречами, сборищами и деятельностью и, помимо всего прочего, дала мне возможность снова увидеть Принстон и близких людей той полосы моей жизни – Франка Эйделотта, Эйнштейна, Христиана Гауса, Хэлен Лay – Портер, Ганса Растеде из Лоуренсвиль Скул и его окружение, Эриха фон Калера, Германа Броха и многих других; Дни в Чикаго прошли под знаком войны в Африке, волнующих сообщений о вступлении немецких войск в неоккупированную зону Франции, о протесте Петена, о десанте гитлеровских полков в Тунисе, об оккупации итальянцами Корсики, о вторичном взятии Тобрука. Мы читали о лихорадочных оборонительных мероприятиях, которые немцы осуществляли повсюду, где только могли опасаться вторжения, о признаках, предвещавших переход французского флота на сторону союзников. Мне было странно и непривычно видеть Вашингтон на военном положении. Снова, как некогда, будучи гостем Юджина Мейера и его красавицы жены в их роскошной вилле на Крезнт – Плейс, я удивленно глядел на непомерно военизированные окрестности памятника Линкольну – на бараки, конторы, мосты, на непрерывно прибывающие, битком набитые армейскими грузами поезда. Стояла угнетающая жара запоздалого «Indian summer» [110]110
Бабьего лета (англ.).
[Закрыть]. На одном из званых обедов в доме моих гостеприимных хозяев, где в числе приглашенных были бразильский и чешский послы со своими женами, зашел разговор об американском сотрудничестве с Дарланом, о проблеме «expediency» [111]111
Целесообразности (англ.).
[Закрыть]. Мнения разделились. Я не скрывал своего отвращения к этой затее. После обеда мы слушали по радио речь Уилки, который как раз тогда вернулся из «one‑world tour» [112]112
Поездки по союзным странам (англ.).
[Закрыть]. Известия о важнрй победе у Соломоновых островов несколько подняли общее настроение.
Подготовка к лекции в Library of Congress [113]113
Библиотеке конгресса (англ.).
[Закрыть]снова свела меня, к моему удовольствию, с Арчибальдом Мак – Лишем, тогда еще директором Государственной библиотеки, и его женой, и я почел особой для себя честью то обстоятельство, что вице – президент Уоллес, представленный аудитории Мак – Лишем, произнес вступительное слово перед моей речью. Что касается самой лекции, то она, не лишенная печати злободневных событий и благодаря репродукторам услышанная также и во втором, до отказа заполненном зале, после столь выигрышной подготовки была встречена публикой более чем дружественно. Вечер закончился многолюдным приемом в доме Мейеров, во время коего я держался преимущественно общества близких мне людей, официальных лиц рузвельтовского режима, Уоллеса и Френсиса Бидла, Attorney Genera [114]114
Министра юстиции (англ.).
[Закрыть], чья милая супруга сказала мне много лестных слов о моей лекции; Бидл, с которым я дотоле вел переписку относительно ограничений, наложенных на «enemy aliens» [115]115
Подданных враждебных стран (англ.).
[Закрыть], особенно на немецких эмигрантов, сообщил мне о своем намерении отменить эти репрессии в ближайшем будущем. От него же я узнал, что Рузвельт, чье отношение к режиму Виши вызывало сомнения и тревогу не у меня одного, все‑таки требует освобождения антифашистов и евреев, содержащихся под арестом в Северной Африке.
Я был благодарен нашей хозяйке, давнишней моей доброжелательнице, столь деятельной на литературном, политическом и общественном поприще Агнесе Мейер, за то, что она устроила мне свидание со швейцарским посланником доктором Бругманом и его женой, сестрою Генри Уоллеса. Беседа с этим умным и отзывчивым представителем страны, под защитой которой мы находились в течение пяти лет, была для меня и приятной и важной. Предметом нашего разговора явилась, естественно, темная судьба Германии, безысходность ее положения – ведь возможность капитуляции была, казалось, совершенно исключена.
Еще значительнее была для меня личная встреча с Максимом Литвиновым, которого наши хозяева пригласили на ленч вместе с его очаровательной женой – англичанкой. Эта очень живая, общительная и словоохотливая дама сразу же захватила инициативу в застольной беседе. Но затем мне представился случай выразить послу свое восхищение его довоенной политической позицией, его деятельностью, его речами в Лиге наций, его настоятельным утверждением, что мир неделим. Он всегда был единственным, кто называл вещи своими именами, кто – увы, тщетно – говорил правду. Литвинов поблагодарил меня несколько грустно. По – моему, на душе у него было тоскливо и горько – что, вероятно, объяснялось не только ужасными испытаниями, жертвами и муками, на которые обрекла его страну эта война. У меня создалось впечатление, что ему всячески затрудняют его миссию посредника между Востоком и Западом, более того, что ему уже недолго осталось пребывать в должности посла в Вашингтоне.
В часы, свободные от светских обязанностей, я пытался продолжить работу над текущей главой «Иосифа – кормильца», одной из последних, главой о благословении сыновей. Но таинственнознаменательным представляется мне выбор книг, которые я во время этой поездки читал в поездах, а также по вечерам и в минуты отдыха и которые, вопреки обычно соблюдаемой мною гигиене чтения, никак не соприкасались ни с моей тогдашней работой, ни стой, что стояла на очереди. Это были мемуары Игоря Стравинского [116]116
Мемуары Игоря Стравинского – автобиография композитора Игоря Федоровича Стравинского (1882–1971), изданная под заглавием «Хроника моей жизни» (1935). Рассуждения Стравинского об «абсолютной» природе музыки, несомненно, оказали влияние на соответствующие эпизоды в романе «Доктор Фаустус». Обращает на себя внимание и то, что герой романа, Адриан Леверкюн, в своем «произведении» «Gesta Romanorum» использует такой же состав инструментов, как Стравинский в «Истории солдата»
[Закрыть], каковые я изучал «с карандашом в руке», то есть подчеркивая некоторые места, чтобы снова к ним возвратиться; и затем это были две книги, издавна мне знакомые: «Катастрофа Ницше» Подаха и воспоминания о Ницше Лy Андреас – Саломе, просматривая которые я тоже делал пометки карандашом. «Зловещая, недозволенная мистика, подчас вызывающая сострадание. Несчастный!» – вот запись в дневнике, относящаяся к этому чтению. Музыка, стало быть, и Ницше. Я, пожалуй, не сумел бы объяснить, почему мои мысли и интересы получили в ту пору подобное направление.
Однажды к нам в нью – йоркскую гостиницу явился представитель издательства Армии Робинсон с подкупающе заманчивым планом книги под заголовком «The Ten Commandments» [117]117
«Десять заповедей» (англ.).
[Закрыть] , которую предполагалось выпустить не только на английском, но и на четырех – пяти других языках. Идея книги была морально – полемическая. Десять всемирно известных писателей должны были в драматических новеллах высказаться по поводу преступного пренебрежения к нравственному закону, к каждой из десяти заповедей в отдельности, а от меня требовалось, чтобы я, за гонорар в 1000 долларов, написал предисловие к этому сборнику в виде небольшого эссе. К подобным, исходящим извне предложениям работы в поездках бываешь куда восприимчивее, чем дома. Я согласился и два дня спустя, в конторе адвоката, где встретил готовую, как и я, к сотрудничеству Сигрид Унсет, почти не глядя подписал изобиловавший ловушками и крючками договор, чем навеки и закрепил права предпринимателя на труд, которого еще не существовало в природе, о развитии которого у меня не было ни малейшего представления и к которому мне пришлось отнестись гораздо серьезнее, чем того требовал данный повод. Если «покупать кота в мешке» легкомысленно, то еще менее целесообразно его в мешке продавать.
Потрясающее событие – потопление французского флота вблизи Тулона французскими командирами и матросами – сов – пало для нас с днями, заполненными театром, концертами, приемами, встречами с друзьями, а сверх того еще всякого рода импровизированной, случайной работой. На страницах тетради, начатой еще в Швейцарии, обычно довольно спокойных, появляется теперь множество имен – тут и Вальтеры, и Верфели, и Макс Рейнгардт [118]118
Вальтеры, и Верфели, и Макс Рейнгардт… – Дирижер,
[Закрыть], и актер Кальвейс, и Мартин Гумперт, и издатель Ландсгоф, и Фриц фон Унру с женой, и милая, старая Анетта Кольб, и Эрих фон Калер, и наша британская приятельница из Принстона Молли Шенстон, и американские коллеги младшего поколения – Гленуэй Уэсткот, Чарльз Найдер, Кристофер Лезер и, кроме того, наши дети. «Thanksgiving Day» [119]119
День Благодарения (англ.), праздник в память первых колонистов Массачусетса.
[Закрыть]мы провели вместе с гостями из Южной Америки на даче у Альфреда Кнопфа в Уайтплейне. В кругу лиц, говоривших по – немецки, читались куски еще не готовых книг. Калер познакомил нас с очень интересными отрывками из своей интеллектуальной истории человечества, которая должна была выйти под названием «Man the Measure» [120]120
«Человек – мера [всех вещей]» (англ.).
[Закрыть]; сам я снова выступил с благодарной главой «возвещения» из «Иосифа – кормильца» и, прочитав сцену с чашей и сцену узнавания, снискал ту одобрительную поддержку, каковая, собственно, и является наградой и целью при таком устном исполнении более или менее «надежных» мест занимающего тебя труда. То, что ты усердно ковал долгими утренними часами, изливается на слушателей в какие‑то стремительные минуты; иллюзия импровизации, свободно несущегося потока еще более усиливает впечатление от прочитанного, и, сумев удивить аудиторию, ты, в свою очередь, тешишься иллюзией, будто все обстоит как нельзя лучше.
III
Через Сан – Франциско, где мы навестили детей, нашего младшего сына – музыканта и его милую жену – швейцарку, и где меня опять привели в восторг небесно – лазоревые глаза маленького Фридо, моего любимого внука, этого обворожительного ребенка, к середине декабря мы вернулись домой, и я тотчас же возобновил работу над главой о благословении, по окончании которой оставалось изобразить только смерть и погребение Иакова, «великое шествие» из Египта в Ханаан. Не прошло и нескольких дней нового, 1943 года, как я уже дописывал последние строчки четвертого романа об Иосифе, а стало быть, и всей тетралогии. Памятный, но уж конечно не легкий для меня день – четвертое января. Большой эпический труд, прошедший вместе со мной через все эти годы изгнания и придававший цельность моему бытию, был доведен до конца, закончен, и с плеч моих спало бремя, а это не такое уж приятное состояние для человека, который с юных своих дней, дней «Будденброков», жил с постоянным бременем на плечах и по – другому, кажется, не умеет и жить.
Антонио Боргезе с женой, с нашей Элизабет, были тогда у нас, и в тот же вечер, в семейном кругу, я прочитал две заключительные главы. Впечатление сложилось благоприятное. Пили шампанское. Бруно Франк, узнав об этом знаменательном событии, по – дружески взволнованно поздравил меня по телефону. Почему я последующие дни прожил «страдая, тоскуя и мучась, в усталости и тревоге», ведомо одному лишь Господу Богу, на осведомленность которого, даже когда дело касается его самого, нам так часто приходится ссылаться. Быть может, на мое настроение повлияли разбушевавшийся фен и известие о том, что нацисты, с идиотской жестокостью, несмотря на вмешательство Швеции, решили выслать в Польшу восьмидесятитрехлетнюю вдову Макса Либермана. Ата предпочла принять яд… Русские войска продвигались тогда к Ростову, очищение Кавказа от немцев близилось к концу, и в сильной, уверенной речи перед новым Конгрессом Рузвельт заявил о предстоящем вторжении в Европу.
Я придумывал названия глав четвертого тома, занимался разбивкой текста на семь частей или «книг» и попутно читал такие вещи, как статью Гёте «Израиль в пустыне», «Моисея» Фрейда, книгу «Пустыня и земля обетованная» некоего Ауэрбаха и, кстати сказать, Пятикнижие. Я давно уже задавался вопросом, не лучше ли было бы мне написать для вышеупомянутой книги знаменитостей не просто предисловие в виде эссе, а этакую органную прелюдию, как выразился позднее Верфель, – рассказ о провозглашении заповедей, этакую синайскую новеллу, очень органичную для меня как отзвук эпоса, от которого я еще не остыл. На подготовительные заметки для этой работы понадобилось всего лишь несколько дней. Однажды утром, в один присест, я разделался со срочной радиопередачей по случаю десятилетия нацистского владычества и на следующее утро принялся писать повесть о Моисее, каковую успел довести до XI главы к 11 февраля, когда исполнилось десять лет с того дня, – это была годовщина нашей свадьбы, – в который мы с легкой поклажей покинули Мюнхен, не подозревая, что больше туда не вернемся. В неполных два месяца, то есть в довольно короткий для меня срок, я почти без исправлений написал эту историю, выдержанную, в отличие от «Иосифа» с его мнимонаучной обстоятельностью, в быстром темпе. В ходе работы, или еще раньше, я озаглавил ее «Закон», имея в виду не столько десять ветхозаветных заповедей, сколько нравственный закон вообще, человеческую цивилизацию как таковую. Я отнесся к данной теме со всей серьезностью, как ни шутлива моя обработка библейской легенды и каким бы вольтерьянским сарказмом – опять‑таки в противоположность Иосифу – ни было окрашено это повествование. Вероятно, под неосознанным влиянием гейневского образа Моисея я придал своему герою черты не то чтобы Моисея Микеланджело, а самого Микеланджело, изобразив его взыскательным художником, тяжко и несмотря на огорчительные поражения трудящимся над неподатливым человеческим материалом. Проклятие, посланное в конце на головы негодяев, которым в наши дни дана была власть осквернить его детище, скрижали гуманности, шло от самого моего сердца и, по крайней мере под конец, не оставляет никакого сомнения в воинственной сущности этой в общем‑то легковесной импровизации. Только на следующее утро после окончания повести о Моисее я упаковал и убрал мифологическо – востоковедческие материалы к «Иосифу» – картины, выписки, черновики. Книги же, которые я читал для этой работы, остались на своих полках, образуя небольшую библиотеку. Стол и выдвижные ящики были пусты. И всего один день спустя, точнее говоря, 15 марта, в моих вечерних записях – сводках, почти без связи с остальными заметками, впервые появляется шифр «Доктор Фауст». «Просмотрены старые бумаги в поисках материала для “Доктора Фауста”». Какие бумаги? Мне и самому невдомек. Однако эта запись, повторяющаяся и на следующий день, связана с упоминанием о письмах в Лос – Анджелес, профессору Арльту из University of California [121]121
Калифорнийского университета (англ.)
[Закрыть] и в Вашингтон, Мак – Лишу, содержавших просьбу предоставить мне во временное пользование книгу народных преданий о Фаусте и… письма Гуго Вольфа [122]122
Трагическая судьба австрийского композитора Г.Вольфа (1860–1903), страдавшего на почве менингиального сифилиса приступами безумия, чередовавшимися с периодами невероятно напряженной творческой деятельности, сыграла важную роль в формировании образа героя романа «Доктор Фаустус» – композитора Леверкюна.
[Закрыть]. Такое сочетание показывает, что, при всей своей туманности, идея, меня занимавшая, давно уже приобрела известную четкость. Речь явно шла о том, что зараженность является сатанински губительным стимулом к творчеству; особенности этого творчества тогда еще не определились, но многотрудность его уже не вызывала сомнений. «Утро за старыми записными книжками» – сказано в заметке от 27–го числа. «Отыскал три строчки 1901 года с планом “Доктора Фауста”. Прикосновение к временам “Тонио Крёгера”, к мюнхенской поре, к так и не осуществленным планам романов “Возлюбленные” и “Майя”. “Встает былая дружба и любовь”. Стыд и волнение при встрече с этими горестями юности…»
Сорок два года минуло с того дня, когда я взял на заметку для возможной работы какую‑то мысль о договоре художника с чертом, и отыскание, обнаружение старой записи вызывает у меня такую взволнованность, чтобы не сказать взбудораженность, благодаря которой мне становится совершенно ясно, что это скудное и расплывчатое тематическое ядро уже изначально обладало тем зарядом жизненной энергии и той атмосферой биографической повести, каковые заранее, задолго до моего собственного решения, предопределили перерастание новеллы в роман. Именно эта взволнованность тогда и расширила обычно столь лаконичные записи в моем дневнике до пространных разговоров с самим собой. «Только теперь я начинаю понимать, что значит остаться без “Иосифа”, б. ез задачи, которая все это десятилетие стояла рядом со мной, передо мной. Удобно было продолжать привычную работу. Хватит ли еще сил на новые замыслы? Не исчерпана ли тематика? А если не исчерпана – будет ли еще охота?.. Пасмурно, дождь, холодно. С головной болью делал наброски и заметки для новеллы. Был в Лос – Анджелесе, на концерте, в ложе Штейнберга с его дамами. Горовиц играл фортепьянный концерт си – бемоль мажор Брамса, оркестр – увертюру к “Дон Жуану” и “Патетическую” Чайковского. “На все вкусы”, как говорили прежде. Но это шедевр его грусти, высшее, чего он мог достигнуть, и всегда в этом есть что‑то прекрасное и трогательное, когда видишь, что талант, кто знает благодаря какому стечению обстоятельств, оказался на вершине своих возможностей. Вспоминаю, как много лет назад в Цюрихе Стравинский признался мне в своем преклонении перед Чайковским. (Я его об этом спросил…) У дирижера в артистической уборной… С удовольствием читал истории из “Gesta Romanorum” [123]123
«Римские деяния» (лат.)
[Закрыть] , затем “Ницше и женщины” Бранна и прекрасную книгу Стивенсона “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” [124]124
«Доктор Д же кил и мистер Хайд» (англ.)
[Закрыть] , думая о фаустовском материале, который, однако, никак не вырисовывается. Хотя патологию можно перенести в сказочный план, привязать к мифам, все равно она как‑то пугает, трудности кажутся непреодолимыми, а тут еще подозрение, будто я потому страшусь этого предприятия, что всегда считал его своим последним».
Я перечитываю это и вижу, что так оно и было. Так оно и было, если говорить о возрасте этой почти не поддающейся определению идеи, об ее корнях, уходящих глубоко в мою жизнь, так оно и было, если вспомнить, что, оглядывая план своей будущей жизни, который всегда был рабочим планом, я издавна относил эту идею в самый конец. То, что я собирался сделать когда‑нибудь на закате дней, я про себя называл своим «Парсифалем». И сколь бы это ни казалось странным – смолоду ставить себе в программу произведение позднего возраста, – дело обстояло именно так; отсюда, наверно, и специфическое, сказавшееся в некоторых моих критических опытах пристрастие к разбору старческих произведений, таких, как сам «Парсифаль», как вторая часть «Фауста», как последние пьесы Ибсена, как зрелая проза Штифтера или Фонтане.
Вопрос заключался в том, пришла ли уже пора браться за эту задачу, намеченную хоть и заблаговременно, но очень нечетко. Тут явно действовал какой‑то запретительный инстинкт, углубленный догадкой, что «материал» взят весьма скользкий, что только ценой крови сердца, и немалой крови, удастся придать ему необходимую форму, – инстинкт усугубленный, наконец, смутным предчувствием каких‑то бескомпромиссно радикальных требований, вытекающих из самого материала. Этот инстинкт можно было бы свести к формуле: «Сначала лучше еще что‑нибудь другое!» Другим возможным занятием, предоставлявшим мне значительную отсрочку, была дальнейшая работа над «Признаниями авантюриста Феликса Круля», романом, отрывок которого я отложил в сторону еще перед первой мировой войной.
«“К.” (это моя жена) говорит о продолжении “Круля”, коего не раз требовали друзья. Не то чтобы я был совсем далек от такой мысли, но мне казалось, что замысел, возникший во времена, когда проблема “художник и бюргер” доминировала, ныне уже устарел и перевыполнен “Иосифом”. Однако вчера вечером, читая и слушая музыку, со странным волнением подумывал о возврате к “Авантюристу” – главным образом с точки зрения цельности жизни. Тут есть своя прелесть – через тридцать два года снова начать с того места, где остановился перед “Смертью в Венеции”, ради которой я и прервал “Круля”. Вся основная и побочная работа, проделанная с тех пор, вклинилась бы в предприятие, затеянное в тридцать шесть лет, этакой вставкой, потребовавшей целого человеческого века… Выгодно строить на старом фундаменте».
Все это только и означает: «Сначала лучше еще что‑нибудь другое!» И все‑таки мне не давал покоя какой‑то зуд, зуд любопытства к новому, неизведанно – опасному. В последующие дни я опять отвлекался. Нужно было выполнить некоторые неотложные работы, написать радиопередачу для Германии и – в порядке участия в русско – американском обмене посланиями – открытое письмо Алексею Толстому. Меня тогда глубоко потрясла скоропостижная смерть Генриха Циммера, мужа Христианы Гофмансталь, одареннейшего индолога, чей труд об индийских мифах дал мне материал для «Обмененных голов». Меня занимали и заставляли определить свою позицию поступавшие из НьюИорка сообщения о кампании, которую вели Сфорца, Маритен и другие против Куденхоува с его клубом капиталистов и реакционной пан – Европой. Я с пристальным вниманием следил за войной в Северной Африке, где Монтгомери удалось остановить Роммеля. Тем временем, однако, пришли выписанные мною книги – народные предания о Фаусте и целое собрание писем Гуго Вольфа из Library of Congress, и, вопреки всем рассуждениям о «выгодах» возобновления «Круля», все записи в дневнике от конца марта и начала апреля свидетельствуют о подготовке к фаустовской теме.








